Путешественник Тэффи Надежда
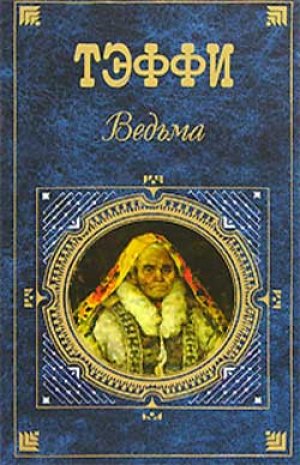
– Неудивительно, что вы так долго отсутствовали, – заметил дядя. – …Пришлось пересечь огромное количество гор, преодолеть перевал, который называется Хайберским проходом…
– …Затем пересечь земли под названием Пенджаб…
– Правильней сказать Пандж-Аб, – встрял хаким, – это значит Пять Рек.
– Да уж, это было непросто. Кстати, султан, как и шах Персии, захотел непременно отправить богатые подношения в знак своей верности великому хану…
– Таким образом, у нас теперь есть великолепная лошадь, нагруженная изделиями из золота, кашмирскими тканями, рубинами и…
– Все это хорошо, – перебил Ноздрю отец. – Но теперь скажите главное: как себя чувствует наш больной?
– Такое чувство, что я весь насквозь пустой, – проворчал дядя, почесывая свой локоть. – С одного конца я выкашлял всю мокроту, а с другого – извергнул остатки дерьма и газов, а между ними из меня вышла последняя капля пота. Я чертовски устал оттого, что меня всего обклеивали этими магическими бумажками и посыпали как сдобную булку bign[155].
– В противном случае его состояние осталось бы без изменений, – сказал хаким Хосро рассудительно. – Мы должны были помочь природе в лечении. Я счастлив, что вы все снова вместе, но теперь настоятельно рекомендую поскорее покинуть Балх и взять больного с собой на природу. Куда-нибудь повыше, в горы, расположенные на востоке, где воздух чище.
– Но он же там холодный, – запротестовал отец, – такой же холодный, как милостыня. Разве это хорошо для Маттео?
– Холодный воздух – самый чистый воздух, – сказал хаким. – Я установил это благодаря пристальным наблюдениям и специальному изучению вопроса. Вот вам доказательство: у людей, которые живут в холодном климате, подобно русским, белый цвет кожи. А у тех, кто живет в жарком климате – скажем, у ариянских индусов, – кожа грязно-коричневая или черная. Мы, пушту, живущие посередине, имеем кожу промежуточного оттенка – желтовато-коричневую. Поэтому я убедительно советую вам как можно скорее отвезти больного на вершины этих холодных, чистых и белых гор.
После того как мы с хакимом помогли дяде Маттео встать, вылезти из козьих шкур и впервые за эти недели одеться, мы ужаснулись тому, как он похудел. Дядюшка выглядел еще выше в своих одеждах, которые внезапно стали ему велики, хотя еще совсем недавно полнота растягивала их по швам. Здоровый цвет лица исчез, сменившись бледностью, а его конечности от долгого бездействия дрожали, но дядя Маттео объявил, что он безмерно рд, что встал. А позднее, когда мы ужинали в зале караван-сарая, он таким же зычным голосом, как и всегда, с интересом расспрашивал постояльцев об особенностях дороги в восточных горах.
Купцы охотно отвечали, они дали нам великое множество полезных советов. Хотя меня, например, несколько смутило, что, говоря о горах на востоке, все путешественники называли их по-разному.
Первый купец сказал:
– Это Гималаи, Обиталище Снега. Прежде чем вы подниметесь туда, обязательно купите склянку с маковым соком. Это снадобье поможет в случае, если вас поразит снежная слепота.
Другой купец сказал:
– Это Каракорум, что значит Черные и Холодные Горы. Питающиеся снегом воды наверху холодны круглый год. Ни в коем случае не позволяйте своим лошадям пить из рек, только из ведра, после того как вы немного согреете воду, иначе у них начнутся судороги.
А третий купец заметил:
– Эти горы называют Гиндукуш, или Убийцы Индусов. В этой труднопроходимой местности лошади порой становятся непослушными и неуправляемыми. Если такое вдруг произойдет, просто привяжите волосы из конского хвоста к его языку, и животное мгновенно успокоится.
Четвертый купец сказал:
– Эти горы называют Памир, что означает Путь к Пику. Единственная пища, которую найдут там ваши лошади, – это синевато-серый сильно пахнущий невысокий кустарник, который зовется burtsa. Лошади обязательно сами отыщут его. Между прочим, этот кустарник еще и хорошее топливо для костра, потому что он полон природных масел. Как это ни странно, но чем зеленее кустарник выглядит, тем лучше он горит.
А пятый купец сказал:
– Это Кхвая, Горы-Хозяева. Они никогда не дадут вам сбиться с пути, даже в самом густом тумане. Только помните, что южные склоны гор начисто лишены растительности. Если вы вдруг увидите деревья, кустарники или вообще какую-нибудь растительность, то знайте – это северная сторона горы.
Шестой купец заметил:
– Те горы называют Мустах, Хранители. Постарайтесь попасть туда и пройти через них до того, как весну сменит лето, потому что тогда начнется Bad-i-sad-o-bist, ужасный «Ветер, дующий сто двенадцать дней подряд».
А седьмой купец добавил:
– Эти горы называются Такх-и-Сулейман, Трон Соломона. Если вас случайно застигнет там ураган, будьте уверены: он начался в какой-то пещере неподалеку, в логове одного из демонов, изгнанных туда добрым царем Соломоном. Просто отыщите пещеру и закройте вход в нее большими камнями, тогда ветер стихнет.
Итак, мы упаковали вещи, расплатились с владельцем караван-сарая, попрощались со всеми новыми знакомыми и снова двинулись в путь. Отец, дядя, Ноздря и я сели на своих коней и повели за собой в поводу вьючную лошадь и еще двух, нагруженных ценными подарками для великого хана. Мы двинулись от Балха прямо на восток, через деревни Кхолм, Квондуз и Талокван, больше напоминающие рынки. Похоже, все жители этой покрытой травой местности занимались тем, что выращивали лошадей и постоянно торговали племенными жеребцами и кобылами со своими соседями. Лошади были просто великолепны, их можно было сравнить с арабскими скакунами, хотя форма их головы и не была такой же изящной. При этом все продавцы неизменно утверждали, что порода, которую они разводят, берет начало от Буцефала – коня Александра Македонского, и это, разумеется, выглядело совершенно нелогично и совершенно неправдоподобно. Каждый говорил это лишь о своих лошадях, что было нелепо, поскольку торговля шла везде. Во всяком случае, я ни разу не видел там ни одной лошади с павлиньим хвостом, украшавшим легендарного Буцефала: а ведь именно так утверждалось в «Александриаде», которую я в юности изучил вдоль и поперек.
В это время года все луга были покрыты снегом, так что мы не могли увидеть, как редеет зелень по мере нашего продвижения на восток. Но мы знали, что так и происходит, потому что земля под снегом постепенно сделалась сначала неровной, затем каменистой, деревень становилось меньше, и по дороге нам попался всего лишь один весьма захудалый караван-сарай. После того как мы миновали последнюю деревню под названием Кешем – кучку замшелых каменных домишек у подножия холмов, предшествующих горам, – мы вынуждены были приблизительно три ночи из четырех ночевать под открытым небом. Да уж, было не слишком весело спать под навесом в снегу, замерзая на ветру и питаясь всухомятку походными припасами.
Мы беспокоились, что такая жизнь еще больше ослабит дядю Маттео. Но он не жаловался, не в пример нам, бывшим гораздо здоровее его. Дядюшка утверждал, что чувствует себя лучше на пронизывающем ветру, холодном воздухе, как и предсказывал хаким Хосро; кашель уменьшился, и кровь из мокроты вскоре исчезла. Дядя позволял остальным делать за себя тяжелую работу, но не разрешал сокращать из-за него переходы. И каждый день он садился в седло или упорно, как и мы, проходил рядом с лошадью тяжелый отрезок пути. Однако мы особенно не спешили, поскольку знали, что нам все равно придется остановиться на зиму, как только мы спустимся со склонов гор. Кроме того, через некоторое время все мы стали такими же худыми, как и дядя Маттео, и сил у нас заметно поубавилось. Только у Ноздри сохранилось его пузо, но и оно теперь стало поменьше и уже не напоминало дыню, которую он носил под одеждой.
Добравшись до реки Пяндж, мы отправились по ее широкой долине вверх по течению на восток, а уж оттуда – в горы. Кстати, долина эта заметно отличалась от обычных: огромная, шириной во много фарсангов, она казалась ниже только по отношению к горам, которые вздымались вверх на противоположной ее стороне. И располагалась эта долина не на земле, а неизмеримо выше, среди облаков, недосягаемая, словно Небеса. Однако, смею заметить, она вовсе не напоминала Небеса, поскольку была холодной, твердой и неприветливой, а отнюдь не благоуханной, мягкой и гостеприимной.
Местность была однообразной: широкая долина, обрамленная обвалившимися скалами, и чахлая растительность, вся согнувшаяся под снежным покровом. Река с мутной водой, протекавшая через долину, а вдалеке от нее по обеим сторонам – белые как зубы и как зубы же острые горы. Ничто не менялось здесь, кроме освещения, которое варьировалось от золотисто-персикового на рассвете до огненно-розового на закате. Посередине было небо, то синее, то пурпурное; изредка на нем появлялись облака, похожие на мокрую серую шерсть, а из них словно выжимали снег или ледяной дождь.
Земля здесь нигде не была ровной: сплошное нагромождение камней и скал, вокруг которых нам приходилось прокладывать путь или осторожно пересекать их. Но чуть в стороне от этих спусков и подъемов наше продолжительное восхождение было незаметно взору, и мы могли даже счесть, что все еще находимся на равнине. Поскольку каждую ночь мы останавливались на ночлег, горы со всех сторон на горизонте казались такими же одинаково высокими, как и те, которые окружали нас прошлой ночью. Однако на самом деле горы становились все выше, долина постепенно шла вверх. Это напоминало восхождение по пологой лестнице, где если особенно не присматриваться, то и не заметишь, что земля уходит от тебя все дальше и дальше.
Тем не менее по ряду признаков можно было определить, что все это время мы поднимались вверх. Во-первых, следовало обратить внимание на поведение наших лошадей. Мы, двуногие создания, время от времени слезая с лошадей и идя пешком, в такие моменты могли физически ощутить, что каждый наш шаг вперед был также и небольшим шагом вверх, однако животные с четырьмя конечностями и раньше прекрасно знали, что они постоянно движутся, подымаясь по наклонной плоскости. Бедные лошади с трудом тащились вперед, прикладывая к этому чрезмерные усилия, так что нам даже в голову не приходило понукать их, вынуждая двигаться быстрей.
Другим признаком восхождения были реки, которые текли вдоль долины. Пяндж, который я уже упоминал, является истоком Окса[156] – великой реки, которую не один раз переходил Александр. Автор «Александриады» описывает Окс как довольно широкую, спокойную реку с медленным течением. Однако она была такой лишь далеко на западе, внизу от того места, где мы находились. Впадающий в Окс Пяндж, вдоль которого лежал наш путь, не был широким и глубоким, но его стремительный поток мчался по долине подобно дикому табуну белых лошадей, взмахивающих своими гривами и хвостами. Да и шум падающей воды часто терялся в скрежете и грохоте больших камней, которые перекатывались и ударялись о ложе реки, больше напоминая звуки, издаваемые табуном диких лошадей. Даже слепой человек мог определить, что Пяндж с шумом несется вниз и что его движущая сила, расположенный на высоте исток, находится далеко и гораздо выше. Зимой, разумеется, река ни на миг не могла замедлить свой стремительный бег, иначе она бы замерзла, превратилась в лед и внизу не стало бы никакого Окса. Однако на морозном воздухе брызги, капли и потеки воды на скалистых берегах тотчас же превращались в голубовато-белый лед. Поскольку от этого шагать рядом с рекой было опасней, чем по земле, покрытой снегом, и также оттого, что каждая капля, которая долетала до нас, замерзала на ногах и боках – лошадиных или же наших собственных, – мы старались по возможности держаться подальше от берега.
Еще одним показателем того, что мы поднимались вверх, было то, что сам воздух стал заметно разреженным. Слушая мои рассказы, те, кто сам никогда не путешествовал, частенько не верят и даже смеются надо мной, когда я говорю им об этом. Так же как и они, я хорошо знаю, что воздух не может иметь веса, он неразличим, кроме тех случаев, когда становится ветром. Когда неверующие спрашивают, как это вес элемента, который ничего не весит, может вдруг уменьшиться, я не могу объяснить им как и почему, я только знаю, что это происходит. На больших высотах воздух становится еще менее вещественным, и тому есть подтверждения.
Вот, например, одно: человек в горах вынужден дышать глубже, чтобы наполнить свои легкие. Это не имеет ничего общего с одышкой, которая появляется при быстром движении или оживленной ходьбе: там даже человек, который стоит на месте, вынужден дышать глубже. Когда же я сам прилагал определенные физические усилия, скажем нагружая лошадь вьюками или перебираясь через большой камень, который лежал у меня на пути, мне приходилось дышать так часто и глубоко, что, казалось, я уже никогда не смогу вдохнуть достаточно воздуха, который бы поддержал мои силы. Некоторые скептики могут счесть, что я придумал эту байку от скуки (хотя, Бог свидетель, скучать в горах нам не приходилось), но я настаиваю на том, что разреженный воздух – это реальность.
В качестве еще одного, дополнительного доказательства я могу сказать, что дядя Маттео, хотя он тоже был вынужден, как и мы, дышать глубже, не страдал в горах от частых и болезненных приступов кашля. Понятно, что разреженный воздух на высоте не давил так сильно на его легкие и им не надо было выталкивать его обратно с усилием.
У меня есть и другие доказательства. Всем известно, что огонь и воздух оба не имеют веса и являются наиболее родственными из всех четырех стихий. На высоте, где воздух разрежен, также слаб и огонь. При горении его цвет скорее голубой и тусклый, чем желтый и яркий. И не подумайте, что это было результатом того, что в качестве топлива мы использовали местный кустарник burtsa. Я провел опыт и с другими,
более привычными вещами, вроде бумаги: пламя оставалось таким же тусклым и слабым. И даже когда нам удавалось как следует разжечь костер, у нас все равно уходило больше времени на то, чтобы опалить кусок мяса или вскипятить воду в горшке, чем это было необходимо внизу. Точно так же требовалось больше, чем обычно, времени и чтобы отварить что-нибудь в кипящей воде.
Зимой здесь не ходили караваны, но мы все же встретили нескольких одиноких путников. В большинстве своем они были охотниками, в поисках добычи перебиравшимися в горах с места на место. Они много работали зимой, а когда наступала весна, охотники, прихватив все свои запасы шкур и кож, спускались на рынок, расположенный в одном из равнинных городов. Их лохматые маленькие лошадки были нагружены тюками со шкурами лис, волков, барсов, уриалов – степных баранов – и горалов – это что-то среднее между козой и газелью. Охотники, которые ставили капканы, рассказали нам, что долина, по которой мы поднимались вверх, называется Вахан, или Ваханский коридор, потому что отсюда во все стороны, подобно дверям из коридора, открывается множество проходов в горах; долина эта является одновременно границей и проходом ко всем этим землям, расположенным внизу. К югу, сказали охотники, есть проходы, которые ведут из Коридора к землям, называемым Читрал, Хунза и Кашмир. На востоке расположены проходы к земле, именуемой Тибет, а на севере – к земле под названием Таджикистан.
– Ага, значит, Таджикистан в той стороне? – спросил отец, обратив взор к северу. – Ну, тогда мы не слишком уж и далеко, Маттео, от той дороги, которую выбрали.
– Это правда, – сказал дядя, голос его звучал устало и тихо. – Нам понадобится лишь пересечь Таджикистан, затем короткой дорогой пройти до города Кашгара – и мы снова в Китае, у Хубилая.
На своих вьючных лошадях охотники-звероловы везли еще и множество рогов дикого барана, которого называли архар, и я, до этого видевший лишь маленькие рога коровы, газелей и домашних баранов, был сильно изумлен при их виде. У основания эти рога были такой же величины в окружности, как и мои бедра, и закручивались в спираль по всей своей длине. Острые концы рогов на голове животного могли легко разорвать человека на куски, а если бы спирали можно было распрямить и вытянуть, каждый рог, наверное, оказался бы с меня величиной. Да уж, рога эти производили впечатление. Я предположил, что охотники взяли их для того, чтобы сделать великолепные украшения. Нет, рассмеялись они, из этих огромных рогов можно изготовить множество полезных вещей: чаши для еды и питья, стремена для лошадей и даже подковы. Они утверждали, что лошадь с такими подковами никогда не споткнется на самой скользкой дороге.
(Много месяцев спустя, оказавшись высоко в горах, я, помню, увидел этих архаров живьем и на воле и подумал: до чего же жаль убивать таких красавцев ради каких-то чаш и подков. Отец и дядя, настоящие купцы, думающие в первую очередь о прибыли, смеялись и бранили меня за сентиментальность. Кстати, с тех пор они стали называть архаров не иначе, как «бараны Марко»[157].)
По мере того как мы продолжали свое восхождение на Вахан, горы по другую сторону долины все еще оставались ужасающе высокими. Однако теперь каждый раз, когда прекращался снегопад и можно было поднять глаза на громаду гор, то мы неизменно обнаруживали, что они заметно приблизились. Отливающий синим лед, который покрывал берега по обеим сторонам Пянджа, становился все толще и направлял течение реки по сужающемуся ложу, словно хотел наглядно продемонстрировать, как зима сжимала землю в своих тисках.
Горы становились все выше день ото дня, они сменяли друг друга, оставаясь все такими же высокими, и вот наконец эти сооружения титанов сомкнулись перед нами. Когда мы направились к входу в высокую долину, снегопад ненадолго прекратился и тучи рассеялись, так что стало возможно разглядеть белые пики гор и холодное синее небо, которое волшебным образом отражалось в огромном замерзшем озере Чакмактын. В западной оконечности этого озера подо льдом текла река Пяндж, вдоль которой мы шли. Ну а раз здесь находился ее исток, то, следовательно, и воды легендарной реки Окс тоже брали здесь свое начало. Отец и дядя отметили это место в Китабе, поскольку карты этой местности, составленные аль-Идриси, были неточными. Я не мог помочь им точно определить наше местоположение, так как линия горизонта здесь располагалась слишком высоко и была слишком неровной, чтобы можно было использовать kaml. Однако, будь ночное небо чистым, я мог бы, по крайней мере, определить, исходя из высоты Полярной звезды, что мы ушли далеко на север от Суведии и от берегов Леванта, откуда в свое время и начали свое путешествие по суше.
На северо-восточном берегу озера Чакмактын располагалось поселение, которое само провозгласило себя городом. Оно называлось Базайи-Гумбад и в действительности состояло из одного каравансарая и нескольких построек, вокруг которых раскинулись палаточный городок и загоны, в которых размещались путники, остановившиеся здесь на зиму. Не приходилось сомневаться, что, как только погода станет получше, почти все население Базайи-Гумбада мигом снимется и покинет Ваханский коридор через его многочисленные ответвления. Владельцем караван-сарая оказался веселый разбитной человек по имени Икбаль, что значит Добрая Судьба. Имя вполне подходило ему: Икбаль процветал, потому что Базайи-Гумбад был единственным местом на всем протяжении Шелкового пути, где могли сделать остановку караваны. Он урожденный ваханец, сказал нам Икбаль, и родился прямо здесь, в гостинице. Однако, поскольку не одно поколение его предков содержало в Базайи-Гумбаде караван-сарай, он, разумеется, говорил на торговом фарси и вдобавок довольно подробно, если и не из собственного опыта, то по слухам, знал местность, расположенную по ту сторону гор.
Широко раскинув руки, Икбаль самым сердечным образом приветствовал нас в высоком Па-Мир, или Дороге к Вершинам, а затем замолчал, осознав, что его слова вовсе не были преувеличением. Здесь, сказал он, мы были на высоте одного фарсанга – что составляет две с половиной мили – над уровнем моря и, стало быть, над уровнем таких прибрежных городов, как Венеция, Акра и Басра. Хозяин караван-сарая не объяснил, откуда он с такой точностью знает высоту местности, и нам пришлось поверить ему на слово. Однако, учитывая, что вокруг нас возвышались горные пики, высота которых была видна невооруженным глазом, я не стал оспаривать его заявления о том, что мы подошли к Крыше Мира.
Часть шестая
Крыша мира
Глава 1
Мы сняли на четверых, включая и Ноздрю, комнату в главном здании гостиницы, а снаружи – загон для наших животных, рассчитывая прожить в Базайи-Гумбаде до конца зимы. Не то чтобы нам так уж нравилось в караван-сарае, кроме того, поскольку большую часть припасов приходилось привозить из-за гор, хозяин запрашивал со своих гостей высокую плату, однако выбора у нас не оставалось: заведение Икбаля было здесь единственным. Следует отдать должное, он сам и его предшественники всегда беспокоились о том, чтобы путешественникам было удобно.
Главное здание оказалось двухэтажным, тогда я впервые увидел такой караван-сарай: часть нижнего этажа представляла собой удобный загон для скота, принадлежавшего Икбалю, а кроме того, там хранились припасы из кладовой гостиницы. Верхний этаж был предназначен для постояльцев и окружен снаружи крытой галереей, на которой возле каждой спальни было проделано в полу отверстие для уборной, так что испражнения жильцов падали прямо во двор гостиницы и шли на пользу стайке костлявых цыплят. Поскольку комнаты для постояльцев располагались над загоном для скота, это неизбежно означало, что мы наслаждались запахами, которые поднимались от животных, и, признаться, подобные «ароматы» доставляли мало удовольствия. Правда, эти запахи были все же не такие сильные, как те, которые исходили от нас и остальных давно не мывшихся гостей, а также от нашей одежды. Хозяин гостиницы не тратил зря драгоценный высушенный помет, чтобы затопить хаммам или согреть горячей воды для стирки.
Икбаль предпочитал использовать топливо для того, чтобы согревать по ночам наши постели. Все кровати в гостинице были особого типа, который на Востоке известен как kang. Лежанка представляет собой полый внутри помост, сложенный из камней, покрытых досками, на которые складывают груду одеял из верблюжьей шерсти. Перед тем как лечь спать, доски поднимают, раскладывают внутри kang сухой помет и добавляют к нему несколько горящих углей. Поначалу путешественники, никогда раньше не видевшие подобных кроватей, с непривычки либо мерзли всю ночь, либо поджигали доски под собой. Однако, приноровившись как следует, можно было научиться так разжигать огонь, что он тлел всю ночь, испуская тепло, но при этом не слишком дымил и не заставлял никого в помещении задыхаться. Во всех комнатах для гостей были лампы, собственноручно изготовленные Икбалем; ничего подобного я никогда и нигде больше не видел. Для того чтобы сделать такую лампу, он брал мочевой пузырь верблюда, надувал его как шар, а затем покрывал лаком, чтобы придать ему форму, и раскрашивал в разные цвета. В отверстие, вырезанное в пузыре, можно было поставить свечу или масляную лампу, и тогда большая сфера лучилась разными цветами.
Повседневная еда в гостинице была, как обычно принято у мусульман, однообразной: баранина и рис, рис и баранина, вареные бобы, большие тонкие лепешки жесткого хлеба, который назывался nan, а для питья чай зеленого цвета, всегда, непонятно почему, слегка отдававший рыбой. Однако доброго хозяина Икбаля можно было извинить: он старался изо всех сил разнообразить еду, это происходило каждую мусульманскую пятницу, а также во время всех религиозных праздников, которые приверженцы ислама отмечали в ту зиму. Я затрудняюсь сказать, что именно они отмечали – у праздников этих были непонятные и сложнопроизносимые названия вроде Zu-l-Heggeh и Yom Ashuba, – но по этому случаю нас угощали говядиной вместо баранины и рисом, который назывался pilaf и был окрашен в красный, желтый или голубой цвет. Иногда подавали острое жареное мясо под названием samosa и особый десерт, похожий на сладкий шербет: снег с привкусом фисташек или плодов сандалового дерева, а однажды – я пробовал его лишь однажды, но никогда не забуду этот вкус – нам подали пудинг, сделанный из имбиря и чеснока.
Поскольку не существовало никаких запретов, мы частенько пробовали различную еду других народов. Кто только не останавливался у Икбаля, как в зданиях самого караван-сарая, так и в палатках вокруг него: выходцы из разных стран, говорившие на разных языках, приверженцы всевозможных религий. Здесь были персидские и арабские купцы; пакистанские торговцы лошадьми, на землях которых мы недавно побывали; высокие светловолосые русские с далекого севера; волосатые верзилы таджики с ближнего севера; плосколицые пёба[158] из расположенной на востоке страны, которая на их языке называется To-Bhot (Тибет[159]), что означает Высокое Место; темнокожие низкорослые индусы и тамилы из Чолы – государства на юге Индии; сероглазые люди с волосами песочного цвета, которых называли хунзукутами и калашами с ближнего юга; несколько иудеев различного происхождения и многие другие. Именно эта пестрота национального состава и делала Базайи-Гумбад городским сообществом – в зимнее время, во всяком случае, все его обитатели прилагали массу усилий, чтобы сделать его организованным и пригодным для жилья городом. Несомненно, это было гораздо более дружественное сообщество, чем те традиционные поселения, в которых мне довелось побывать.
Во время любой трапезы каждый из нас мог присесть к костру, на котором готовили пищу, и ему всегда оказывали радушный прием – и языковой барьер не был здесь преградой. К концу той зимы, полагаю, мы отведали всех кушаний, какие только подавали в Базайи-Гумбаде, а поскольку сами мы пищи не готовили, то, как и многие другие странники, ели в обеденном зале караван-сарая. Но мы занимались не только тем, что пробовали различные угощения (некоторые из них запомнились своей изысканностью, а некоторые были просто ужасны), сообщество предлагало и другие развлечения. Почти каждый день у какой-нибудь группы людей был праздник, и обычно им нравилось, когда кто-нибудь еще приходил посмотреть или же присоединялся к ним, чтобы помузицировать, попеть, потанцевать или принять участие в спортивных играх. Разумеется, в Базайи-Гумбаде были не только праздники, множество людей предпочитало собираться и по более серьезным поводам. Ну а поскольку в каждой стране, как правило, свои законы, жителям сообщества пришлось избрать по одному представителю каждых цвета кожи, языка и религии, чтобы создать импровизированный объединенный суд, разбиравший жалобы на воровство, учинение беспорядков и другие неблаговидные поступки.
Я упомянул здесь о заседаниях суда и о прадниках одновременно, потому что они вместе сыграли важную роль в некоем происшествии, которое я счел забавным. Представители довольно красивого народа, которых здесь называли калаши, были драчливы, но дрались только между собой и без особой свирепости. Их потасовки часто заканчивались всеобщим весельем. Эти люди также были веселы, музыкальны и обходительны. Они знали огромное количество различных калашских танцев с названиями вроде kikli и dhamal и танцевали их почти каждый день. Но один из их танцев, который назывался luddi, запомнился мне как один из самых необычных.
Я впервые увидел, как его исполнял калашский мужчина, которого приволокли на объединенный суд Базайи-Гумбада по обвинению в том, что он украл набор верблюжьих колокольчиков у своего соседа. Когда суд оправдал злоумышленника за недостатком улик, то вся его калашская родня, включая и того, кто обвинил его, на радостях исполнили пронзительную и громыхающую музыку на флейтах, чимтах[160], напоминавших клещи, и барабанах, в которые они били не палочками, а прямо руками. Недавний обвиняемый принялся танцевать luddi, подскакивая и взбрыкивая. Постепенно к нему присоединилась и вся его родня. Во второй раз я видел, как этот танец исполнял другой калашский мужчина, тот самый, у которого пропали верблюжьи колокольчики. Поскольку суд не мог предоставить ему другие колокольчики или наказать вора, то он вынес соломоново решение – собрать пожертвования с каждого обитателя лагеря, чтобы возместить потерю пострадавшему. Сбор составлял всего лишь несколько медяков с каждого жертвователя, но в целом набралась изрядная сумма, может быть, даже больше, чем стоили похищенные колокольчики. Когда мужчине вручили деньги, вся калашская родня – включая и оправданного за недостатком улик – снова устроила музыкальное представление с игрой на флейтах, чимтах и барабанах, и на этот раз уже сам владелец колокольчиков танцевал, подскакивая и взбрыкивая, танец luddi, а остальные постепенно присоединились к нему. Мне объяснили, что этот танец драчливые калашские мужчины исполняют только по случаю победы в тяжбе. Жаль, что я не смог станцевать что-нибудь подобное во время судебного разбирательства в Венеции.
Согласитесь, объединенный суд в данном случае рассудил мудро, и так было, я полагаю, при рассмотрении большинства дел. Работа судей требовала особой дипломатии, ибо из всех людей, которые собрались в Базайи-Гумбаде, не было и двух человек, которые привыкли бы безоговорочно повиноваться одному и тому же своду законов. Изнасилование во хмелю, казалось, было обычным делом среди славян-несториан, равно как и половые сношения между содомитами среди арабов-мусульман, тогда как оба этих преступления считались ужасными среди язычников и неверующих калашей. Мелкое воровство являлось образом жизни для индусов, и этому же потворствовали пёба, которые считали все, что плохо лежало, ничейным, однако грязные, но честные таджики были убеждены в том, что воровство – преступление. Таким образом, суд вынужден был вести себя осторожно, стараясь отправлять приемлемое правосудие, чтобы не оскорбить принятые у какого-нибудь народа традиции. А ведь далеко не каждый случай, представленный на судебное разбирательство, оказывался таким же простым, как дело о похищенных верблюжьих колокольчиках.
Об одном из таких запутанных случаев, который разбирался на суде еще до того, как мы, Поло, прибыли в Базайи-Гумбад, до сих пор спорили. И нам тоже рассказали про это дело со всеми подробностями. Старый торговец-араб обвинял свою самую молодую и привлекательную из четырех жен в том, что она бросила его и сбежала в палатку к молодому и красивому русскому. Оскорбленный супруг не желал, чтобы она возвращалась, он хотел, чтобы неверную жену и ее любовника приговорили к смерти. Русский настаивал, что по законам его родины женщина – это всего лишь прекрасная добыча, как любой лесной зверь, и принадлежит тому, кто сумел ее взять. Кроме того, сказал он, он ее действительно любит. Сбившаяся с пути жена, женщина из народа киргизов, жаловалась на то, что ее законный супруг просто невыносим и что он никогда не входил в нее иначе как в грязной арабской манере – через задний проход, так что она считала себя вправе завести другого – хотя бы для того, чтобы изменить положение. И еще она прибавила, что действительно любит русского. Я спросил нашего хозяина, чем закончилось судебное разбирательство. (Икбаля, который как уроженец и постоянный житель Базайи-Гумбада считался его почетным гражданином, разумеется, каждую зиму избирали в новый состав суда.)
Он пожал плечами и сказал:
– Брак есть брак в любой стране, а жена повсюду является собственностью мужчины. Мы вынуждены были разрешить это дело в пользу обманутого мужа. Ему позволили предать свою неверную жену смерти. Однако мы отказали ему в том, чтобы убить также и ее любовника. Русского наказали иначе.
– И каким же образом?
– Его всего лишь заставили разлюбить ту женщину.
– Но она же была мертва. Что-то я не пойму…
– Мы постановили, что его любовь к ней тоже должна умереть.
– Но… я все равно не понимаю. Как это можно сделать?
– Обнаженный труп женщины уложили на склоне холма. Осужденного прелюбодея приковали к столбу таким образом, чтобы он не мог до нее дотянуться. И обоих оставили там.
– Для того, чтобы он умер от голода рядом с ней? Да?
– Ничего подобного. Мужчину кормили, поили и делали все, чтобы ему было удобно, пока он не выздоровел. Теперь он свободен, до сих пор жив, но больше не любит ту женщину.
Я покачал головой.
– Простите меня, мирза Икбаль, но я правда не понимаю.
– Мертвое тело лежало там, и никто его не убирал. А теперь представьте, что происходило с трупом. В первый день произошло лишь незначительное изменение цвета – в тех местах, где к коже прикасались в последний раз. У женщины появились трупные пятна в области горла, где шею ее намертво сдавили пальцы супруга. Любовник был вынужден сидеть и смотреть, как эти синяки проявляются на ее плоти. Может быть, они были не таким уж и отвратительным зрелищем. Но спустя день или около того живот трупа разбухает. Еще через некоторое время мертвое тело начинает извергать из себя внутренности тем или иным способом, но в гораздо более неприглядной манере. А затем прилетают мухи…
– Спасибо. Я начинаю понимать.
– Да, и любовник вынужден был смотреть на все это. Поскольку там было прохладно, процесс слегка замедлился, однако разложение неумолимо. Труп гниет, а падальщики и другие хищные птицы спускаются все ниже, все ближе и смелей подходят шакалы и…
– Ясно.
– Дней через десять или около того, когда останки разложились, молодой человек полностью излечился от всякой любви к той женщине. Во всяком случае, мы в это верим. После этого он стал совершенно безумным. Он ушел вместе с караваном русских, однако товарищи вели его на веревке за повозками. Он до сих пор жив, но, если Аллах будет милосерден, возможно, долго не протянет.
Караваны, которые зимовали там, на Крыше Мира, были нагружены всевозможными товарами. И хотя некоторые из них оказались достойны восхищения – шелка и специи, ювелирные украшения и жемчуга, меха и кожи, – большинство из них не были мне в новинку. Однако попадались вещи, о которых я никогда прежде не слышал. Караван самоедов, например, вез с собой с далекого севера уложенные в кипы листы, которые самоеды называли слюдой. Она выглядела как настоящее стекло, разрезанное на прямоугольники, каждый такой лист был в длину с мою вытянутую руку, однако прозрачность листов была невысока, их портили трещины, пятна и наросты. При ближайшем рассмотрении я обнаружил, что это вовсе не стекло, а некий минерал весьма странного вида. Я уже упоминал про горный лен, который состоит из отдельных волосков, так вот, и эта порода расслаивается подобно страницам в книге на тонкие, жесткие, относительно прозрачные пластины. Материал этот был гораздо хуже настоящего стекла, которое делают в Мурано, однако искусство изготовления стекла до сих пор неизвестно в большинстве стран Востока. Поэтому слюда там является вполне подходящим заменителем, и, как сказали самоеды, за нее можно запросить хорошую цену на рынках.
С другого конца света, с далекого юга, караван тамилов из Чолы держал путь из Индии в Балх и вез тяжелые мешки, в которых было не что иное, как соль. Я, помню, тогда посмеялся над темнокожими низкорослыми купцами. Я же видел, что в Балхе не было недостатка в соли, и решил, что они просто глупцы, раз везут ее через весь материк. Застенчивые крошечные жители Чолы просили снисхождения за свои раболепные объяснения: это была «морская соль», сказали они. Я попробовал ее – на вкус она ничем не отличалась от обычной – и снова засмеялся. Тогда они продолжили объяснять дальше: в морской соли содержится один ценный компонент, которого нет в другой соли. И люди, которые сдабривают ею свою пищу, не болеют «зобом»; именно по этой причине они надеются, что выгодно продадут морскую соль в тех далеких странах.
– Волшебная соль? – издевался я, потому что видел в Балхе множество несчастных, страдающих этой болезнью, и полагал, что от нее не так-то легко избавиться. Я вовсю потешался над доверчивостью и глупостью чоланцев, но это их, похоже, не смущало.
Верховые и вьючные животные, которые находились в загоне рядом с озером, отличались не меньшим разнообразием, чем их владельцы. Там были целые стада лошадей, ослов и даже несколько прекрасных мулов. Ко всем этим животным мы уже давно привыкли. Однако большинство верблюдов там были совершенно иными и отличались от тех, что мы видели прежде. Не такие высокие и длинноногие, они выглядели объемней и тяжеловесней из-за своей длинной толстой шерсти. Еще у них имелись гривы, как у лошадей, только эти гривы свисали с их животов, а не с длинных шей. Мало того, у всех у них еще и оказалось по два горба вместо одного. Между этими горбами было проще сидеть, поскольку там имелось естественное углубление для седла. Мне сказали, что бактрианские верблюды лучше приспособлены к зиме в горной местности, тогда как арабские легче переносят жару, жажду и пески пустыни.
Еще одно незнакомое вьючное животное я увидел у народа пёба. Сами жители Тибета называли его yyag, а большинство людей звало яком. Это было массивное создание с головой коровы и хвостом лошади, со всех сторон тело его напоминало по своей форме и размерам стог сена. Як стоя доходил человеку до плеча, но его голова располагается ниже, примерно на уровне наших коленей. Косматая грубая шерсть яков – черная, серая или же в черно-белых пятнах – всегда свисает до земли и скрывает слишком изящные для их массы ноги, которые они, несмотря ни на что, ставят удивительно ловко и точно во время ходьбы по узким горным тропам. Як хрюкает и рычит, как свинья, пока волочит ноги, постоянно пережевывает что-то своими похожими на жернова зубами.
Позже я выяснил, что мясо яка такое же вкусное, как и самая лучшая говядина, но ни одному из пастухов яков в Базайи-Гумбаде не довелось в ту зиму забить хотя бы одно животное. А еще тибетцы доят самок яков, и процесс этот требует определенной отваги из-за огромных размеров и непредсказуемости этих животных. И молока у тибетцев было так много, что они бесплатно раздавали его остальным. На вкус оно оказалось восхитительно, а масло, которое из него делали, могло бы стать достойным похвалы деликатесом, если бы в нем не присутствовала постоянно шерсть яков. Як – очень полезное животное: из его грубой шерсти можно спрясть такие крепкие палатки, что они выстоят во время бури в горах. А из тонких волос, выдираемых из хвостов яков, получались отличные мухобойки.
Кроме того, в Базайи-Гумбаде я видел множество красноногих куропаток, которых в других местах встречал лишь в дикой природе. У этих же куропаток крылья были подрезаны, чтобы они не могли улететь. Поскольку дети в лагере постоянно играли в прятки с птицами, я тоже взял себе одну, не только для развлечения, но и для более практических целей – каждая палатка и постройка в Базайи-Гумбаде кишела паразитами. Вскоре я узнал, что куропатки приносят также и другую пользу.
Калашские и хунзукутские женщины отрубают красные ноги этих птиц, оставляя тушку для варки, а ножки сжигают. В результате образуется тонкий пепел, который выглядит как пурпурный порошок. Этот порошок они используют так же, как другие женщины на Востоке сурьму – в качестве косметического средства для подводки и увеличения размера глаз. Калашские женщины также раскрашивают лица кремом; они делают его из семян цветов, которые называются bechu. Смею вас заверить: женщина с ярко-желтым лицом, посреди которого красуются огромные выкрашенные в пурпурный цвет веки, – это зрелище, на которое стоит взглянуть. Без сомнения, женщины считают, что это делает их привлекательнее в сексуальном плане, потому что, как я заметил, еще одним их любимым украшением был колпак (или капюшон, или накидка с капюшоном), сделанный из многочисленных маленьких ракушек морского моллюска каури, а каждая такая ракушка, бесспорно, выглядела как некий женский половой орган в миниатюре.
Кстати, раз уж речь зашла об этом, я был рад услышать, что в Базайи-Гумбаде имеются иные способы удовлетворить сексуальное влечение, нежели изнасилование под хмельком, содомия и адюльтер, который здесь столь строго карался. Разумеется, Ноздря выведал это во всех подробностях едва ли не на второй или на третий день нашего пребывания. Раб снова украдкой появился передо мной, так же как он проделывал это в Балхе, притворяясь, что испытывает отвращение к подобному открытию.
– На этот раз нечистый иудей, хозяин Марко. Он владеет маленьким караван-сараем, самым дальним от озера. Спереди это обычная лавка для заточки ножей, мечей или инструментов. А в задних помещениях он содержит большое количество женщин разных рас и национальностей. Как добрый мусульманин, я должен донести на эту отвратительную птицу, свившую гнездо на Крыше Мира, но я не стану этого делать, пока вы мне не прикажете. Надеюсь, вы окинете своим христианским оком сей нечестивый дом.
Я сказал ему, что обязательно посмотрю, и так сделал несколько дней спустя, когда мы наконец распаковали вещи и как следует устроились в жилище. Возле фасада здания, где располагалась лавка, сидел, скорчившись, немолодой мужчина. Он держал лезвие косы над точильным колесом, которое вращал при помощи ножной педали. Если не считать того, что на нем была надета маленькая круглая шапочка, иудей напоминал медведя-гризли, потому что лицо его было сплошь покрыто волосами и эти локоны и борода с бакенбардами, казалось, сливались с подбитым мехом просторным плащом, накинутым на плечи. Я заметил, что плащ из дорогого каракуля выглядел слишком элегантной одеждой для простого точильщика ножей, которым он прикидывался. Я дождался, когда перестанет жужжать вращающееся каменное колесо и прекратится дождь из сверкающих искр, осыпавших все вокруг.
Затем я сказал, как научил меня Ноздря:
– У меня есть особый инструмент, который я хочу заточить и смазать.
Мужчина поднял голову, и я удивленно заморгал. Его волосы, брови и борода напоминали курчавый лишайник, который уже начал седеть, глаза были похожи на ягоды черной смородины, а нос сильно смахивал на лезвие сабли shimshir.
– Один дирхем, – сказал он, – или двадцать шахис, или же сотня ракушек каури[161]. Незнакомцы, которые приходят в первый раз, платят вперед.
– Какой же я незнакомец, – тепло произнес я. – Разве ты не узнал меня?
Однако иудей отнюдь не теплым тоном ответил:
– Я никого не знаю. Именно поэтому я и могу вести свое дело в этом месте, которое кишит противоречащими друг другу законами.
– Но я Марко!
– В этом доме люди отбрасывают прочь свое имя, так же как скидывают свою нижнюю одежду. Если какой-нибудь муфтий вдруг заинтересуется моими посетителями, я смогу честно сказать, что не знаю никаких имен, кроме собственного – Шимон.
– Великий праведник Шимон? – спросил я нахально. – Один из Lamed-Vav? Или все Тридцать Шесть в одном лице?
Он взглянул на меня с тревогой и подозрением.
– Ты говоришь на иврите? Но ты не иудей! Что ты знаешь о Lamed-Vav?
– Только то, что, кажется, я все время с ними встречаюсь, – вздохнул я. – Женщина по имени Эсфирь рассказала мне об этих людях.
Иудей с отвращением заметил:
– Она не слишком точно все изложила тебе, если ты мог ошибиться и принять владельца публичного дома за великого праведника.
– Эсфирь сказала, что Lamed-Vav делают мужчинам добро. То же самое, по-моему, относится и к владельцам публичных домов. Но я удивлен, разве ты не собираешься предостеречь меня, как раньше?
– Я только что это сделал. Муфтий из каравана частенько ходит поблизости, так что не надо здесь выкрикивать свое имя.
– Я имею в виду другое предостережение: «Остерегайся кровожадной красоты!»
Он фыркнул.
– Если в твоем возрасте, безымянный юноша, ты еще не понял, какую опасность таит в себе красота, я не собираюсь учить дурака. А теперь давай один дирхем или что-нибудь равноценное или же проваливай.
Я кинул монету в его мозолистую ладонь и сказал:
– Мне нужна женщина, не мусульманка или, по крайней мере, не tabzir. И еще, если это возможно, мне бы хотелось такую, с которой я для разнообразия мог бы общаться.
– Возьми девушку domm, – проворчал иудей. – Она никогда не замолкает. По коридору вторая комната направо.
Он снова взял косу и склонился над колесом, опять раздался скрежет, и летящие во все стороны искры заполнили лавку.
Публичный дом состоял здесь, так же как и в Балхе, из нескольких комнат, их правильнее было бы назвать небольшими спальнями, двери которых выходили в коридор. Спальня загадочной девушки domm была довольно забавно обставлена: для тепла и света – жаровня с сухим пометом, от которой исходили дым и вонь, а для дела – некое подобие кровати, которое называлось hindora. Эта убогая койка не стоит на полу, она подвешена к потолочной балке на четырех веревках, на которых и раскачивается, что придает дополнительное движение тому, что происходит на койке.
Поскольку никогда раньше я не слышал слова «domm», то мог лишь гадать, какую девушку сейчас увижу. Та, которая сидела и лениво раскачивалась на hindora, оказалась для меня кое-чем новеньким: кожа ее была такого темно-коричневого цвета, что казалась чуть ли не черной. Однако девушка обладала довольно приятными лицом и фигурой: черты лица ее были тонкими, а не крупными, как у эфиопок, а тело хоть маленьким и стройным, но с прекрасно развитыми формами. Девушка говорила на нескольких языках, в том числе и на фарси, таким образом, мы могли общаться. Ее имя, сказала она мне, было Чив, что на ее родном языке romm означало «лезвие».
– Romm? Но иудей сказал, что ты domm.
– Не domm! – яростно заспорила она. – Это неправда! Я juvel, молодая женщина народа romm![162]
Поскольку я понятия не имел ни о том ни о другом народе, я прекратил споры и занялся тем, за чем и пришел сюда. Вскоре я стал догадываться о значении слова «juvel» – Чив утверждала, что исповедует ислам, но при этом она не была лишена, подобно мусульманкам, драгоценной женской жемчужины. И когда я все же проник в ее тем но-коричневое нутро, интимные части Чив оказались такого же приятного розового цвета, как и у других женщин. К тому же я уверен, что Чив вовсе не изображала наслаждение, но упивалась ласками так же, как и я сам. Затем, когда уже все завершилось, я начал лениво расспрашивать девушку, каким образом она попала в публичный дом, и Чив не стала лицемерить и рассказывать мне сказку, что она, мол, пала так низко из-за некоего постигшего ее горя, а сказала жизнерадостно:
– Я бы занималась zina, мы называем это surata, в любом случае, потому что мне это нравится. А получать плату за то, что ты занимаешься surata, и вовсе замечательно. Ну скажи сам, разве ты отказался бы, если бы тебе платили каждый раз, когда ты мочишься?
Я призадумался: похоже, Чив не отличалась сентиментальностью, но она была честной. Я даже дал девушке еще один дирхем, которым ей не пришлось бы делиться с иудеем. А на обратном пути, когда я проходил через точильную лавку, не без удовольствия бросил этому человеку ехидное замечание:
– А ты ошибся, старина Шимон. Не такой уж ты и непогрешимый. Девушка-то эта, оказывается, romm.
– Romm, domm – эти люди называют себя, как им в голову взбредет, – заметил он беззаботно. И продолжил, причем гораздо дружелюбней, чем раньше: – Первоначально их называли dhoma, это была одна из самых низших каст в Индии. Dhoma – это неприкасаемые, которых все ненавидят и презирают. Поэтому они постепенно разбредаются по всей Индии в поисках лучшей доли. Наверняка остальные люди так относятся к dhoma из-за того, что они сроду не работали и не торговали, а вечно плясали, распутничали, дрались и воровали. Ну а теперь они хотят затеряться среди остальных народов. Между прочим, знаешь, почему они называют себя romm? Да потому, что претендуют на то, что произошли от римских цезарей. Встречается еще одно название этого народа – atzigan, – якобы они произошли от Александра Великого. Мало того, эта девушка как-то имела наглость назвать себя египтянкой, притворяясь, что ведет свой род также и от древних фараонов. – Иудей рассмеялся. – А на самом деле все они произошли от свиней dhoma, хоть и расселились по разным странам мира.
Я в ответ заметил:
– Вы, иудеи, тоже широко распространились по земле. Кто вы такие, чтобы с презрением относиться к другим скитальцам вроде вас самих?
Он бросил на меня долгий взгляд, но ответил спокойно, словно я и не говорил ничего обидного:
– Это правда: мы, иудеи, тоже всегда приспосабливаемся к условиям, в которые попадаем. Но есть одна вещь, которую делают domm и которую никогда не будем делать мы: они малодушно принимают ту религию, которая превалирует в той или иной местности. – Он снова рассмеялся. – Понимаешь, юноша? Любой народ, к которому другие относятся с презрением, всегда может найти того, кто пал еще ниже, и презирать его.
Я фыркнул и сказал:
– Но тогда получается, что и у domm тоже есть кто-то, кого они могут презирать. Кто же это, интересно?
– Кто? Да все другие создания в мире. Для них я, ты и все остальные – гаджи. Что на их языке означает всего лишь «простофили и жертвы», то есть все те, кого можно обмануть, обжулить и вообще всячески ввести в заблуждение.
– Однако привлекательной девушке, вроде вашей Чив, нет нужды никого обманывать…
Шимон нетерпеливо покачал головой.
– Вспомни, что ты сам сказал в самом начале нашего разговора: «Остерегайся кровожадной красоты!» Были ли у тебя с собой какие-нибудь ценные вещи, когда ты пришел?
– Ты что, принимаешь меня за глупца – взять что-нибудь ценное в публичный дом? У меня было всего лишь несколько монет и мой поясной кинжал. Да, кстати, а где же он?
Шимон снисходительно улыбнулся. Я проскочил мимо него, ворвался обратно в комнату и обнаружил Чив, которая с довольным видом пересчитывала горсть монет.
– Твой нож? Я уже продала его, правда быстро? – сказала она совершенно спокойно, тогда как сам я просто кипел от злости. – Я и не ожидала, что ты обнаружишь его пропажу так скоро. Я продала твой кинжал пастуху-таджику, который только что вышел через заднюю дверь, таким образом, его у меня уже нет. Но не сердись. Я украду у кого-нибудь кинжал получше и отдам тебе в следующий раз. Я сделаю это из уважения к тебе, поскольку восхищаюсь твоей исключительной привлекательностью, благородством и доблестью в постели. Ты ведь придешь еще?
Выслушав столь щедрые похвалы, я, разумеется, перестал сердиться и сказал, что подумаю насчет того, чтобы вскоре прийти сюда снова. Тем не менее, выходя обратно через лавку, я попытался незаметно прокрасться мимо Шимона с его точильным колесом, ибо чувствовал себя так же неловко, как и когда уходил из другого публичного дома, одетый в женское платье.
Глава 2
Думаю, что Ноздря мог бы поймать для нас и рыбу в пустыне, если бы мы попросили его об этом. Когда отец обратился к рабу с просьбой, чтобы тот отыскал лекаря (похоже было, что дядя Маттео потихоньку выздоравливает от tisichezza, но все-таки следовало показаться врачу), он легко сделал это даже на Крыше Мира. Старый лысый хаким Мимдад произвел на нас впечатление знающего лекаря. Он был перс, и уже одно это служило основанием называть его цивилизованным человеком. Он путешествовал вместе с караваном персидских торговцев qali в качестве «хранителя здоровья». После разговора с Мимдадом не оставалось сомнений, что этот человек незаурядный врач. Я помню, как он сказал нам:
– Что касается меня, то я предпочитаю предотвратить недуг, нежели потом лечить его, даже если это не прибавит денег в моем кошельке.
Например, я посоветовал всем матерям в нашем лагере кипятить молоко, которое они дают своим детям. Будь то молоко самок яков или верблюдиц, я убежден, что его надо сначала прокипятить в железной посуде. Как всем известно, гадкие джинны болезней, как и другие демоны, боятся железа. Проведя опыты с кипячением молока, я определил, что железная посуда высвобождает свой сок, он смешивается с молоком и таким образом изгоняет прочь всех джиннов, которые могут там прятаться, чтобы навлечь на ребенка какой-нибудь недуг.
– Звучит разумно, – сказал отец.
– Я приверженец опыта, – продолжил старый хаким. – Принятые в медицине нормы и рецепты очень хороши, но я часто опытным путем нахожу новые лекарства. Морская соль, например, одно из таких средств. Даже великий целитель и мудрец Ибн Сина, похоже, не заметил совсем небольшого различия между морской солью и той, которую добывают на суше. Ни в одном научном трактате я не нашел упоминания об этом. Однако есть нечто в морской соли, что препятствует возникновению зоба и излечивает его и другие подобные опухоли на теле. Я проверил это на опыте.
Когда я услышал это, мне стало стыдно и захотелось немедленно извиниться перед торговавшими солью маленькими тамилами из Чолы, над которыми я столь легкомысленно насмехался.
– Вот и славно, Dotr Balanzn! – зарокотал мой дядя, в насмешку называя персидского лекаря именем популярного в Венеции комического персонажа. – А теперь поскорее осмотрите меня и скажите, что прописываете мне от этой проклятой tisichezza – морскую соль или кипяченое молоко.
Итак, хаким приступил к обследованию, ощупывая дядю Маттео со всех сторон и задавая ему вопросы. Через некоторое время он сказал:
– Я не знаю, насколько сильным был кашель прежде. Но, как вы говорите, сейчас он ослаб, и я слышу небольшие хрипы в груди. Вы чувствуете там боль?
– Только изредка, – ответил дядя. – Я полагаю, что это неудивительно после такого сильного кашля, какой у меня был.
– Позвольте мне высказать предположение, – продолжал хаким Мимдад. – Вы ощущаете боль только в одном месте. Под ребрами с левой стороны.
– Да, так и есть.
– И еще, ваша кожа довольно горячая. Эта лихорадка у вас постоянно?
– Нет, время от времени. Она начинается, затем я потею, и все проходит.
– Откройте рот, пожалуйста. – Хаким заглянул ему в горло, затем оттянул губы и проверил десны. – Теперь вытяните руки. – Лекарь осмотрел их со всех сторон. – Вы позволите мне выдернуть всего один волосок с вашей головы? – Он так и сделал (причем дядя Маттео даже не поморщился), после чего принялся внимательно изучать волосок, изгибая его пальцами. Затем врач спросил: – Часто вы испытываете необходимость заниматься kut?
Дядюшка рассмеялся и закатил глаза, как содержанка в публичном доме.
– Я испытываю много желаний, и довольно часто. Позвольте спросить, что значит kut?
Хаким терпеливо посмотрел на пациента, словно имел дело с ребенком, и многозначительно коснулся рукой своего зада.
– Ах, kut – это дерьмо! – зарокотал дядя, все еще улыбаясь. – Да, мне частенько приходится испражняться. Особенно после того, как предыдущий хаким дал мне это проклятое слабительное. И у меня до сих пор продолжается cagasangue – понос. Но какое отношение все это имеет к заболеванию легких?
– Думаю, что у вас не hasht nafri.
– Не tisichezza? – удивленно спросил отец. – Но одно время он кашлял кровью.
– Не из легких, – пояснил хаким Мимдад. – Это кровоточат его десны.
– Вот и хорошо, – сказал дядя Маттео, – кто не обрадуется, услышав, что его легкие в порядке. Но я так понимаю, что вы подозреваете у меня какую-то иную болезнь?
– Я попрошу вас помочиться в этот маленький кувшин. Я смогу сказать вам больше, после того как проведу исследование.
– Опыты, – пробормотал дядя.
– Точно. А тем временем хозяин гостиницы принесет мне несколько скорлупок от яиц. И еще, я надеюсь, вы позволите мне использовать побольше маленьких листков из Корана?
– Они что, все-таки приносят какую-то пользу?
– Они не приносят вреда. Основной постулат медицины звучит примерно так: не навреди.
После того как хаким ушел, держа маленький кувшинчик с мочой в руке и прикрывая его, чтобы туда не попала грязь, я тоже отправился прогуляться. Сначала я зашел в палатки чоланских тамилов, принес им извинения и пожелал процветания – это заставило индусов нервничать гораздо больше обычного, – после чего направился к заведению иудея Шимона.
Я попросил снова предоставить мне Чив. Девушка, как и обещала, вручила мне прекрасный новый кинжал и под конец выказала признательность, заявив, что сегодня я превзошел сам себя, доблестно занимаясь surata. Выходя обратно через лавку, я остановился, чтобы снова побранить старого Шимона.
– Ах, старый нечестивец, ты пренебрежительно отзывался о romm и всячески поносил их, но посмотри, какой прекрасный кинжал подарила мне девушка взамен прежнего.
Иудей равнодушно хмыкнул и сказал:
– Радуйся, что она не воткнула его тебе между ребер.
Я показал ему кинжал, заметив:
– Никогда не видел такого прежде. Он напоминает обыкновенный кинжал, да? Кажется, простое широкое лезвие. Но смотри, когда я втыкаю его в жертву, то сжимаю рукоятку: вот так. И это широкое лезвие разделяется на два, они отскакивают в стороны, а вот это третье лезвие, спрятанное внутри, выстреливает между ними, чтобы воткнуться в жертву еще глубже. Правда, здорово?
– Да. Теперь я узнаю это оружие. Я как следует заточил его совсем недавно. И вот что, если ты хочешь сохранить кинжал, то держи его под рукой. Прежде этот кинжал принадлежал одному великану хун-зукуту с гор, который случайно потерял его здесь. Я не знаю его имени, потому что все называют его просто Человек-Нож, поскольку он пускает оружие в ход направо и налево… Слушай, а тебе не пора восвояси?
– Вообще-то мой дядя нездоров, – сказал я, направляясь к двери. – Пожалуй, я и правда пойду.
Уж не знаю, может, иудей просто жестоко подшутил надо мной, но на обратном пути я не столкнулся ни с каким большим и злобным хун-зукутом. На всякий случай, дабы избежать подобной встречи, несколько последующих дней я благоразумно оставался неподалеку от главного здания гостиницы. Я проводил время в компании отца или дяди и выслушивал различные советы и предостережения от хозяина Икбаля. Он знал много интересного.
Например, когда мы дружно хвалили прекрасное молоко яков и восхищались храбростью тибетцев, которые доили этих чудовищ, Икбаль пояснил:
– Есть простой прием подоить самку яка без риска. Подведите к ней теленка, чтобы мать вылизывала и нюхала его, и она будет стоять смирно, пока ее доят.
Вскоре мы узнали не слишком веселые новости. Хаким Мимдад снова пришел к дяде Маттео и начал с того, что серьезным тоном предложил больному переговорить с глазу на глаз. Мы с отцом и Ноздря, услышав это, поднялись было, чтобы покинуть комнату, однако дядя остановил нас, безапелляционно хлопнув рукой.
– У меня нет никаких секретов от товарищей по каравану. Что бы вы ни собирались сказать, вы можете сказать это нам всем.
Хаким пожал плечами.
– Тогда я попрошу вас снять шаровары…
Дядя снял, и хаким уставился на его голый пах и большой zab.
– Волос нет от природы, или вы бреете это место?
– Я удалил волосы при помощи мази, которая называется мамум.
А что?
– Поскольку волосы отсутствуют, то легко заметить изменение цвета, – сказал хаким и показал на живот. – Посмотрите. Видите легкий серый металлический оттенок вот здесь, на коже?
Все посмотрели на дядин живот, а он сам спросил:
– Это вызвано мамумом?
– Нет, – ответил хаким Мимдад. – Я замтил серовато-синие пятна также и на ваших руках. Если вы снимете сапоги, то увидите такие же пятна и на ногах. Эти симптомы подтверждают то, что я подозревал во время предыдущего обследования и после изучения мочи. Вот смотрите, я перелил ее в белый горшочек, так, что вы сами можете убедиться. Она мутная.
– И что? – сказал дядя Маттео, снова одеваясь. – Может, я пообедал в тот день цветным пловом. Я не помню…
Хаким покачал головой.
– Я заметил и множество других признаков, как я уже сказал. Ногти у вас темные. Волосы жесткие и ломкие. Но самое главное, у вас на теле присутствуют гуммозные болячки, которые не проходят.
Дядя Маттео посмотрел на хакима так, словно тот был волшебником, и с благоговением сказал:
– Муха укусила, уже давно, в Кашане. Простой укус мухи, ничего больше.
– Покажите мне.
Дядя закатал рукав на левой руке. Рядом с локтем виднелось зловещее ярко-красное пятно. Хаким уставился на него и сказал:
– Поправьте меня, если я ошибусь. Там, где вас укусила муха, все зажило и остался лишь маленький шрам, что совершенно нормально. А затем под шрамом снова открылась язва, которая впоследствии зажила, потом снова открылась, снова зажила и снова открылась, и все время под старым шрамом…
– Так и есть, – слабым голосом подтвердил дядя. – Что же это значит?
– Это подтверждает мой заключительный диагноз – вы страдаете от kala-azar. Черного недуга, злого недуга. Он действительно начинается с укуса мухи. Но эта муха, без сомнения, не что иное, как воплощение злобного джинна. Джинна, который при помощи хитрости принимает вид мухи, такой крошечной, что едва ли можно заподозрить, будто она может принести такой колоссальный вред.
– Ну уж не преувеличивайте. Подумаешь, немного пятен на коже, кашель, небольшой озноб, маленькие болячки…






