Вечная ночь Дашкова Полина
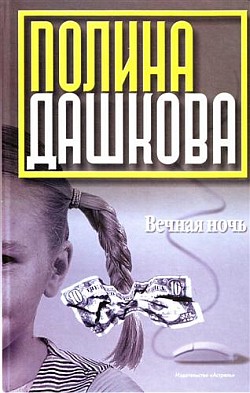
– Миша, я не могу. Просто не имею права. Ну что я полезу со своим дурацким мнением, когда совершенно ничего не знаю?
У Оли сердце колотилось все быстрей. Она так разволновалась, что присела на край мокрой скамейки. Ведущий продолжал возбужденно говорить.
– Перестаньте кокетничать. Это ваш Молох, Ольга Юрьевна! Вы все равно будете думать, анализировать, вы не можете вот так спокойно остановиться на полпути. Мы дадим вам информацию, будем работать вместе. Мы хотим провести независимое журналистское расследование. ГУВД и прокуратура, как всегда, отрицают серию. Ольга Юрьевна, я читал профиль Молоха, который вы составили полтора года назад, и честно вам скажу, только такие кретины, как наши чиновники из прокуратуры, могли отнестись к этому несерьезно. Вы же практически вычислили его.
– Подождите, Миша, каким образом к вам попал профиль?
– Не важно. У нас есть свои источники.
– Так, может, вам стоит обратиться за комментарием к ним, к этим источникам?
– Ольга Юрьевна, перестаньте! Наши информаторы не могут светиться на экране. А вы просто обязаны выступить.
– Я должна подумать.
– Нет времени думать! Я знаю, вы сейчас начнете звонить Соловьеву, Гущенко, советоваться с ними. Но вы взрослый человек, профессионал. У вас перед ними нет никаких обязательств. Но у вас есть обязательства перед следующей возможной жертвой Молоха. Вам не приходило в голову, что перерыв в полтора года был связан именно с вашим обращением к убийце? Он почувствовал, что вы слишком много о нем поняли, и испугался.
– Нет. Это невозможно. Так не бывает.
– Разве? – Ведущий нервно засмеялся. – А как же история с калининградским моралистом, который убивал проституток? Гущенко обратился к нему с экрана областного телевидения, и он практически признался в убийствах, в прямом эфире. Помните?
– Конечно, помню. Но в случае с Молохом такой вариант исключен. К тому же я – не Гущенко.
– В котором часу и куда прислать машину?
– В девять.
– Домой или в клинику?
– В клинику. Я сейчас работаю…
– Мы знаем, где вы работаете. Ровно в девять машина будет вас ждать у будки охраны.
«Ну вот и все, – Оля глубоко вздохнула и убрала телефон в карман, – теперь я в игре».
Телевизионщики умеют уговаривать. Но дело вовсе не в этом. Оля уже поняла, что не успокоится, пока не будет пойман Молох. Ее выступление – первый ход. Второй – Карусельщик. Передача выходит раз в неделю. В следующей программе можно будет показать его. Третий – Давыдово. Она давно хотела съездить туда. Но не решалась. Никто, кроме нее, не видел сходства между Молохом и давыдовским душителем. Ей надоело слышать, что она фантазирует, слишком доверяет своей интуиции и нескромно преувеличивает свои аналитические возможности. В группе Гущенко было принято отчитываться за каждый свой шаг, все идеи и версии обсуждались коллективно. Она не могла отправиться в маленький подмосковный город по-тихому, не посоветовавшись с Кириллом Петровичем. А он считал ее идею о сходстве почерков и о том, что убийца слепых сирот вовсе не Пьяных, полнейшим бредом.
Телефон опять зазвонил, когда Оля поднималась по лестнице в свое отделение.
– Что у тебя с голосом? – спросила мама.
– Все нормально.
– Не ври. Я слышу, ты сипишь. Надеюсь, ты не ходишь в такой холод с непокрытой головой?
– Нет, мамочка. Я хожу в шапке.
– То есть ты хочешь сказать, что не простужена?
– Нет, конечно.
– Значит, ты устала и не выспалась. Да, кстати, я видела сегодня утром по телевизору твоего Соловьева. Он стал совсем седой. Надеюсь, ты не собираешься подключаться?
– К чему, мамочка?
– Не придуривайся. Ты прекрасно меня поняла. Оля, не вздумай! Ты слышишь?
«Вот так, – усмехнулась про себя доктор Филиппова, – даже моей маме ясно, что девочку убил Молох, даже ей. Впрочем, моей маме всегда все ясно».
– Мама, ты же не смотришь криминальные новости.
– Утром телевизор работал, мы с папой завтракали, ждали прогноза погоды и случайно попали на криминальные новости.
– Здравствуй, дочь! – торжественно вступил папа через параллельную трубку. – Мама совершенно права. Ты больше не должна заниматься этим ужасом. Ты ушла из института и хватит с тебя, пусть Гущенко охотится за маньяками, это его работа, но не твоя. Ты девочка нежная и чувствительная, у тебя семья, подумай о нас, о Катеньке с Андрюшей, ты просто не имеешь права, дочь! Слышишь меня? – Папа по телефону старался быть грозным, фоном звучал мамин шепот: «Скажи ей, скажи!»
– Не понимаю, что вы оба на меня набросились? – перебила Оля. – Пока меня никто не приглашал участвовать в расследовании.
– Что, и Соловьев не звонил? – удивленно спросил папа.
– Нет.
– Странно. А кстати, скажи, он так и не женился? – поинтересовалась мама нарочито равнодушным голосом.
– Не знаю.
Разговор с родителями согрел ее и развеселил. Ей нравилось, что мама и папа в старости не расстаются ни на минуту, живут как сиамские близнецы. В детстве и юности она ужасно боялась, что они разведутся.
Мама была красавица, папа наоборот. В результате получилась Оля, нечто среднее. Нечто, выбирающее путь по натянутому канату, когда можно спокойно пройти по ровной твердой поверхности. Доброжелательные люди уверяли, что она похожа на маму. Недоброжелательные – что вылитый папа.
От мамы ей достались волосы, жесткие и прямые, не совсем рыжие, скорее цвета гречишного меда, от папы – белая, чувствительная к солнцу кожа, высокий выпуклый лоб, маленький круглый подбородок. Глаза получились мамины только по форме, большие, длинные. Тяжелые верхние и нижние веки делали взгляд слегка сонным и надменным. Но цвет глаз не голубой, как у мамы, а папин, то есть какой-то неопределенный. Вокруг зрачка радужка была светлой, золотисто-зеленой, а по краю черной, как сам зрачок. Брови, к сожалению, достались папины, белесые и бесформенные. Их приходилось подкрашивать и выравнивать пинцетом. Зато фигура мамина, легкая, ладная, с тонкой талией. Отдельное спасибо мамочке за осанку. Тут уже сработали не гены, а постоянные хлопки по спине и окрики: «Оля, не сутулься!»
Каждое утро мама целовала отца в лысину и повторяла: я тебя люблю. Папина лысина росла, пока не заняла всю голову. Ни одного волоска не осталось. Папа говорил, что его оазис превратился в пустыню. Он постоянно шутил, а мама смеялась. Смех звучал заливисто и звонко, как у задорных положительных героинь в сталинском кино. От этих ритуальных переливов Оля вздрагивала, как будто ее било током.
На самом деле мама много лет любила другого человека, они работали вместе. Он хирург, она анестезиолог. С ним у мамы была страсть, настоящая женская жизнь, а с папой – ответственность, чувство долга, подсознательный страх одиночества. Бодрый первомайский парад с улыбками и транспарантами, на которых написано: «Да здравствует крепкая семья!», «Слава верным любящим женам!», «Долг превыше всего!».
Хирург имел жену, двоих детей, уходить из семьи не собирался. К тому же роман крутил не только с Олиной мамой, но еще с разными другими женщинами, врачами и сестрами. Что-то вроде гарема из сослуживцев женского пола. Гениальный был хирург, но человек гадкий. Его, гадкого, мама любила, а папу, хорошего, – нет.
Оля, когда училась в институте, проходила практику в клинике, где работала мама. Там ей все рассказала по секрету одна из операционных сестер. Оля не поверила, думала, сплетни.
Хирург умер три года назад. Мама страшно плакала и сразу как-то вся сникла, постарела. Папа не сомневался, что она плачет по коллеге, с которым столько лет проработала бок о бок у операционного стола, и очень ей сочувствовал, вместе с ней отправился на похороны, на поминки.
Папа был неумный, нудный, но добрый и порядочный человек. Категорический оптимист и однолюб. Работал инженером в НИИ медицинского оборудования. Вел здоровый образ жизни, никогда не пил и не курил. Кеды, лыжи, песни у костра под гитару. Маму обожал. Видел и слышал только ее. Он всю жизнь продолжал шутить и не замечал, что никто, кроме мамы, никогда не смеется его шуткам.
Сейчас они идеальная пара, два старика, которые существуют как единый организм. Когда у мамы болят ноги, папа прихрамывает, когда у папы поднимается давление, у мамы стучит в висках. Что там за страсти кипели, кто кому врал, уже не имеет значения.
Оле в ее двадцать лет не стоило так буквально понимать мамины слова, принимать их за истину в последней инстанции и строить свою собственную жизнь по бессмысленной ханжеской формуле «долг превыше всего». Теперь винить остается только себя. Мама не принуждала ее балансировать на канате, совсем наоборот, звала спуститься на ровную твердую землю.
Это был какой-то особенный, инфернальный страх. Маленький призрак не то чтобы являлся Борису Александровичу, он просто не исчезал, он был соткан из сердечной боли и мертвого воздуха, который застревает в горле при астматическом приступе.
Старый учитель бродил по квартире, пил холодную воду из чайника. Пробовал читать, но строчки плыли перед глазами.
Ну были же на его учительском веку тяжелые и даже страшные дети. Воры, наркоманы, проститутки, доносчики, наглые ледяные подлецы. Он справлялся. Он декламировал про себя Пушкина и Тютчева. Он искал помощи у Толстого и Достоевского. Что же теперь?
Вы обознались, понятно? И не лезьте ко мне никогда! Старый педофил!
Борис Александрович включил компьютер, чтобы опять найти рекламу детского порно. Зашел на сайт Молоха, но кроме рассказов, там ничего не было. Шарил мышью по разным значкам, нажимал кнопки. Ничего. В первый раз он наткнулся на кадры из фильмов в результате какой-то случайной комбинации. Повторить не удавалось.
Теперь он почти не сомневался, что ошибся, и нелепо, страшно виноват перед Женей Качаловой. Он виноват, а она права в своей злой агрессии. Как же такое могло произойти с ним, опытнейшим педагогом, знатоком детской психологии?
Перед рассветом сквозь слои тяжелого химического сна просочилось прозрачное детское лицо в обрамлении каштановых косичек. Блестели зубы и глаза, тихий смех отдавался эхом во мраке. Маленький призрак смеялся над старым учителем.
Звонок будильника в семь часов был очевидным спасением. Борис Александрович уцепился за этот живой резкий звук и по нему, как по канату, стал карабкаться вверх, к реальности ледяного темного утра.
В комнате было холодно. Он спал при открытом окне. Обычно холод бодрил, но на этот раз напугал, показался могильным. С фотографии на письменном столе улыбались маленькие внучки. Свет лампы отражался в стекле, и между лицами двух девочек возникло третье. Борис Александрович погасил лампу, повернул фотографию к стене, отправился в душ. Пока он мылся, брился, пил чай, маленький призрак не оставлял его.
– Разве я в чем-то виноват? – прошептал Борис Александрович, обращаясь к рисунку на фарфоровой сахарнице.
Ангелоподобная немецкая девочка в розовом платье бежала по дорожке между розовыми кустами. Длинные каштановые локоны развевались на ветру. Обычно голова девочки была повернута чуть влево и вверх. Девочка смотрела на птичку, присевшую на куст. Сейчас она забыла о птичке, повернула лицо к Борису Александровичу и смеялась. Он отчетливо услышал тонкий серебряный звук, но вовремя сообразил, что это всего лишь ложка упала на пол.
Сахарница была от старинного саксонского сервиза. Сохранилось еще три чашки с блюдцами и молочник. На каждом предмете все та же девочка, прелестная Гретхен лет двенадцати.
Осенью, когда ничего еще не произошло, он заметил, что сервизная Гретхен похожа на Женю Качалову. Девочка приходила к нему домой несколько раз на дополнительные занятия по русскому языку, вместе с другими детьми. Обычная девочка. Разве что слишком маленькая и худенькая для своего возраста и очень хорошенькая, как рождественский ангелок со старинной открытки. Даже дурацкие косички-дреды не портили ее.






