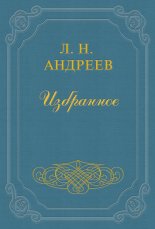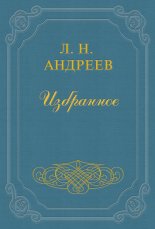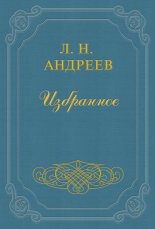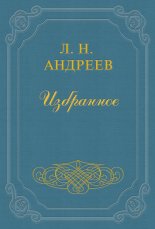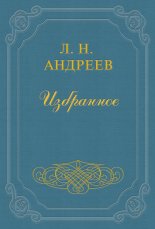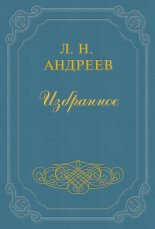Белые одежды Дудинцев Владимир

Ползучая теплота подошла к горлу Федора Ивановича, поднялась к голове, подступила к ушам, к корням волос. «Неужели опять это! – подумал он, ослабляя галстук на шее. – Опять я! Опять моя правда заслонила свет хорошему человеку! Неужели повторение!»
– Федору Ивановичу показалось странным, что все наши прекрасные прививки сделаны нами по крайней мере за четыре месяца до того, как на сессии академии прозвучал призыв ко всем нам сплотиться вокруг знамени мичуринской биологии, поднятого нашими выдающимися лидерами Трофимом Денисовичем и Кассианом Дамиановичем. А я скажу, что не за четыре месяца, а за полгода – в феврале мы уже сажали наши подвои в горшки. Что же, товарищи бывшие апробированные вейсманисты-морганисты, которым аттестационная комиссия не утвердила степеней, – выходит, вы загодя, задолго до сессии начали вашу перестройку? Это, конечно, сделало бы вам честь. Но тогда почему вы, уже запланировав свои прививки, ориентировав на них еще осенью своих сотрудников и аспирантов, почему вы не отзываете свои диссертации, публикуете статьи совсем другого содержания? Ну да, статья пролежала в редакции почти год, – тогда почему вы не выступаете с принципиальным заявлением, хотя бы устным? Забывчивость? Мягкость характера? Не приобрели еще мичуринской боевитости?
Она замолчала, глубоко вздохнув, набирая силы. Зала словно не было, – такая стояла тишина. Елена Владимировна сидела вдали неподвижная, прямая. Стригалев тоже замер, скрестив руки на груди, словно обнимал сам себя.
– Нет, товарищи, – тихо сказала Шамкова. – Никакой забывчивости нет. И характер – дай бог каждому. И боевитость такая, что ого-го. Дело все гораздо проще и печальнее. И печальнее! Все эти красивые и хорошо исполненные прививки – сплошной обман, самая настоящая виртуозная фальшивка, почуять которую может только человек с тонкой интуицией, такой, как Федор Иванович Дежкин. С помощью этой фальшивки обманывают общественность, государство, партию и, в конечном счете – самих себя. Привиты у них не просто дикари, товарищи. Полиплоиды! Колхицинирование проводится дома, на подоконнике – откуда-то ведь достали импортный колхицин! Откуда, спрашивается? Мы, по-моему, это зелье не импортируем… А потом полученного уродца приносят в институт. Рос на собственном корне, будет расти и на подвое! А мы будем тем временем скрещивать полиплоид с культурным сортом, искать философский камень, занимать дефицитную площадь, расходовать государственные средства! Как вы понимаете, я не щажу и себя. Будучи аспиранткой Ивана Ильича Стригалева, видя все это, видя двойную бухгалтерию, которую вел мой руководитель… А он уже год назад чувствовал, что идут черные для вейсманизма-морганизма времена, и завел два журнала. Два!
Восклицания у нее тоже получались тихими.
– Один мичуринский, фальшивый, другой – зашифрованный, формально-генетический. В фальшивом пишет: изменение числа хромосом под влиянием прививки. А изменяет-то кол-хи-цином!
– А получалось? – коварно спросил кто-то в зале. Раздался смех, кто-то захлопал.
– Не в том дело, что получалось, а в том, что велись фальшивые записи, – спокойно сказала Шамкова. – И я должна была довести все это до сведения общественности – и не сделала этого вовремя…
Она спокойно высказала все это и спокойно смотрела в зал, отдыхая.
– У вас все, Анжела Даниловна? – хмурясь, спросил председатель.
– Нет, не все, – она взглянула в свою бумагу. Тихо продолжала: – Меня удивляет, товарищи, – в наше время, когда вся страна включилась в великую битву за перестройку научных основ нашего сельского хозяйства, в такие дни занимать позицию, которая выгодна… которой будут рукоплескать за рубежом… И при том ладно уж сам… Но студентов, Сашу Жукова в это дело вовлекать, сбивать с толку! Комсомол старается формировать крепкие моральные устои, мировоззренческую убежденность… И вдруг так спокойно губить, коверкать молодому, совсем мальчику, жизнь. Я никогда не могла понять… Такой не знающий жалости эгоизм…
Она сошла с трибуны под страшный грохот и рев зала. Чуть слышно зазвонил графин. Сразу же поднялись в разных местах несколько рук.
– Товарищи! Товарищи, заявок с мест не принимаем, подавайте записки! – крикнул председатель.
– Сейчас начнется, – довольно громко сказал за спиной Федора Ивановича басистый старик.
И действительно, началось. Какие-то люди – добровольцы – один за другим спешили на трибуну, тряся головой, требовали самых суровых, решительных мер.
– Товарищи! – кричала какая-то пожилая женщина с красными волосами. – Вообразите, что было бы, если бы победили не мы, а фашисты. Они бы всех нас, мичуринцев, всех до одного перевешали! А этого-то закоренелого… Вейсманиста-морганиста… Поставщика аргументов для их расистских бредней…
– Христиан – львам! – вдруг внятно сказал кто-то в зале.
– Вы историк, вот скажите, – вполголоса басил сзади старик. – Вы не заметили – отчего бы это: как забрасывать кого камнями или омывать кому слезами ноги – всегда впереди женщины… Не задумывались, отчего это?
Минут через двадцать, в течение которых на трибуне сменилось человек шесть или семь и сквозь жаркий туман и грохот слышались их напряженные голоса, в президиуме поднялся Варичев.
– Товарищи! – сказал он под звон председательского графина. – Товарищи… Я хорошо понимаю ваши протесты. Я думаю, истина в нашем споре с вейсманистами-морганистами уже более чем ясна. Голос научной общественности – с ним нельзя не считаться… Хотелось бы услышать, как относятся к нему те… Иван Ильич, – сказал он миролюбиво. – Мы хотели бы послушать… Аудитория ждет от вас…
Шум быстро стал опадать. Далеко впереди Елена Владимировна чуть заметно пожала руку Стригалева. Он опять отхлебнул из белой бутылочки и встал – очень худой, взъерошенный, как будто спал, не раздеваясь, и его подняли. Угрюмо оглянулся на зал и стал выбираться из ряда. Не спеша пошел по проходу, не спеша поднялся на трибуну, почти налег на нее локтями, стал смотреть куда-то в потолок, ожидая тишины.
– Да, было, было два журнала. Два, – заговорил он тихим, как бы недовольным голосом и еще сильнее налег на трибуну, все так же глядя вверх. – В общем, что получается… Свобода не для всякого слова – часто я такое слышу. Враг тоже хотел бы протащить свою пропаганду, поэтому не подпускать его к трибуне. Что – не так? А я – враг. С точки зрения советской науки, стоящей на правильных позициях. Это сегодня каждому ясно. Кому даем трибуну? Кому даем средства, зеленый свет? Мичуринской науке в лице академиков Лысенко и Рядно. Конечно, не в лице Мичурина. Еще не известно, что бы старик Мичурин сказал. А кто, скажите мне, – тут он в первый раз пристально посмотрел в зал. – Кто определит, на правильных ли позициях стоят наши академики? Да сам же Кассиан Дамианович и скажет. А враг, то есть я, говорит, что он неправ, что если по академику Рядно все делать, отстанем на полвека. И начнем голодать. А коллектив – объективный критерий – кричит на это: предупреждаю в последний раз! Делай так, как требует академик Рядно. Я обращаюсь к начальству. А оно ничего не понимает и враждебно. Его тоже наши академики ведут под обе ручки, с бережением. А в конечном итоге ответственность за науку и, стало быть, практику, лежит на ком? На начальстве? Как бы не так – начальство скажет: меня обманули. Слишком часто говорили эти слова: «диалектически», «скачкообразно» – и я поверило. Поскольку специального образования не имею. И не на коллективе ответственность будет лежать. Он скажет: я заблуждался, меня обкурили этим… веселящим газом. Ответственность будет на том, кто все понимает, на кого газ не действует, на ком противогаз. На мне, на мне лежит ответственность. И меня надо будет судить, если я поддамся и не сумею ничего… Для чего тогда меня учили в советской школе? В таких условиях и приходится…
– И все же вы заблуждаетесь, – округлив глаза, перебил его из президиума ректор.
– Я не могу нажать на своем теле кнопку и перестать заблуждаться.
– Мы ее нажмем! – крикнул кто-то в зале.
– Вы отрицаете внешнюю среду, – мягко, отечески сказал Варичев.
– Никакой настоящий ученый не станет отрицать или утверждать то, что ему не известно с достоверностью. Мне достоверно известно…
– Вы все время смотрите куда-то в потолок, – так же мягко, с улыбкой перебил его ректор. – Вы кому говорите?
– Богу, богу… – с такой же улыбкой, показав стальные зубы, ответил Стригалев. И Федор Иванович заметил – в аудитории сразу потеплело. Но не надолго.
– Так я говорю: мне достоверно известно первое – чуть больше чем полупроцентный раствор колхицина дает удвоение числа хромосом у картофельного растения. Сам сотни раз удваивал. И знаю, как это делается и почему. Видел в микроскоп и держал в руках. Второе: это удвоение дает огранизмы, во многом отличающиеся от исходных. Третье: эти новые растения, если они до эксперимента были привезенными из Мексики дикарями, теперь, приобретя новые качества, вступают в скрещивание с «Солянум туберозум», с картошкой! То есть открываются новые пути для селекции. Так что же – мне отказаться от этого?
– Вы уродуете природу! – отчаянно закричал кто-то в зале.
Стригалев посмотрел в сторону крикуна и грустно покачал головой.
– Голос невежды. Дело в том, что все наши эксперименты это лишь повторение того, что в природе происходит миллионы лет. А вот ваше «не ждать милости, взять» – вот оно больше похоже на насилие. Только природу силой не больно возьмешь. Вот и я. Уступить силе мог бы. Но не уступлю. А убедиться – это не в моих силах. И вам пока не удается убедить…
– Почему? – сказал Варичев. – Среди нас есть товарищи, которых мы убедили… Они нашли в себе мужество…
– Ну, такого мужества я в себе не нахожу.
Стригалев помолчал немного, как бы ожидая новых вопросов.
– Крестьянина, крестьянина вы забыли! – закричал кто-то в дальнем углу зала. – Что он скажет о вашем колхицине?
– Крестьянин это не ученый, а практик, – тихо сказал Стригалев. – Практика это память о привычной последовательности явлений. Посадил зерно – должно прорасти. И действительно, растет. Это не наука, а память о причинных связях. Ученого характеризует знание основ процесса. Два года назад товарищ Ходеряхин во время отпуска где-то на своей родине в поле нашел колосья голозерного ячменя. Привез, высеял на делянке, получил урожай и говорит: я вывел новый сорт! Даже академик его поздравил. А это оказался всего-навсего широко распространенный китайский ячмень «Целесте». Он даже этого не знал! Товарищ Ходеряхин был здесь типичным практиком-крестьянином, но не ученым. Крестьянин может вырастить хороший урожай, но это не дает ему права называться ученым.
– А по-вашему, плохой урожай – это наука? – закричали из зала. – А хороший – значит, практика?
– Я высказал вам свою точку зрения, – сказал Стригалев, не замечая криков. – Никем серьезно не опровергнутую точку зрения.
Еще постоял на трибуне, поглядел в зал, оглянулся на президиум и не спеша сошел вниз.
Зал ровно шумел. В разных его концах шли дискуссии. В президиуме Цвях, поворачивая голову то в одну сторону, то в другую, пристально слушал и время от времени ставил перед собой вертикально свой карандаш. Посошков – опытный председатель – не звонил в свой графин, давал всем выговориться. Потом поднес палец с золотым кольцом к графину. И тут впереди Федора Ивановича у самой сцены раздался дребезжащий голос профессора Хейфеца:
– Прошу слова для заявления!
– Неужели каяться пойдет? – сказал кто-то сзади.
– Думаете, опознал? – спросил басистый старик.
– Не знаю… Но вид у него решительный.
Хейфец уже стоял на трибуне, торжественный, откинувшийся назад.
– Я хочу сделать следующее заявление, – задребезжал его голос в странной тишине. – Я не выступил с ним раньше из ложной сентиментальности – не поворачивался язык. Я не допускал мысли, что такие методы возможны… Слушая ваш, Петр Леонидович, доклад, я ожидал: вот-вот он назовет фамилию Ивана Ильича Стригалева. Вы не назвали, и я подумал: ну, великодушен наш… Я проникся уважением! И решил в свою очередь промолчать о том, что знал. А теперь заявляю, что я согласен с вами: нам действительно не по пути! Вчера, товарищи, двое из сидящих здесь в зале слышали и записали следующую беседу товарищей Варичева и Побияхо с Анжелой Шамковой. Они зашли в эту комнату… ну, эту, где фанерка. Чего не натворишь второпях. А за фанеркой, в моем кабинете – пока в моем, – эти два товарища нечаянно оказались. И вот что они услышали и записали. Слушайте! Варичев: товарищ Шамкова, ты знаешь, что твой руководитель формальный генетик? Она: нет. Он: а мы знаем. Придется тебе выступить на собрании. Она: с какой это стати? Он: а с такой: мы все знаем, вас во время ревизии Дежкин Федор Иванович уличил. Так что ты не запирайся, нам все известно. Не выступишь, так вылетишь из аспирантуры. Руководителя снимем, теперь это ясно, вылетишь и ты. А выступишь – получишь новую тему и нового руководителя. Замечаете, каков стиль! «Ты» – как с карманником в отделении милиции! Ну и после этого Шамкова, подумав, рассказала им все, что вы слышали. Потом Петр Леонидович вышел, и Побияхо одна домолачивала Шамкову. Тут уж товарищи и меня позвали послушать. Вы, Анна Богумиловна, сказали: «Милочка, ух, как я быстро сделаю тебя кандидатом!»
– Товарищ Хейфец, не сгущайте краски! – загремел из президиума Варичев. – Такой разговор был, но совсем в другой тональности.
– Хорошо! Не время доказывать. Но вы же сделали вид, что ничего не знаете! Должны были сразу честно сказать, внести в доклад! А то как новость сенсационную подали! Накаляете страсти.
– Мы молчали, чтоб дать возможность самому Ивану Ильичу…
– Вот, вот! Значит, вы его, как волка, в засаде подстерегали! Организованно!
– А ваша маскировка – это не прием? – закричал кто-то из зала.
– Мы в обороне. Это тактика.
– А мы – в наступление – сказал Варичев, поднимаясь. – Вы прислушайтесь к залу, товарищ Хейфец! Прислушайтесь! Коллектив не на вашей стороне.
– Как же я могу прислушиваться к коллективу, когда он весь обкурен парами догмы и, надышавшись, бредет, как во тьме, не видя пропастей и давя ногами невиновных!.. Когда он отдышится от этого газа…
– Товарищ Хейфец! Товарищ Хейфец!.. – это председатель, звеня графином, подал голос.
– …Когда он опомнится, тогда я отдамся на его суд. А сегодня лучшим коллективным деянием, деянием ради общества, ради всех, будет отделение от такого коллектива…
– Товарищ Хейфец! Я принимаю ваше устное заявление, – ледяным голосом протрубил Варичев. – И налагаю устную же резолюцию. Вы больше не член нашего коллектива. Можете…
– Мне здесь и делать нечего! – Хейфец отмахнулся рукой, спускаясь в зал. – Сделали из биологии филофосию! Сплошные обскуранты!
– Позор! – отчаянно закричал кто-то в зале.
– Ничего, буду сам ковыряться! – выкрикивал Хейфец, идя по проходу. – Заведу огород под кроватью! Хватитесь еще, хватитесь!
Хлопнула тяжелая дверь…
В глубоких сумерках Федор Иванович и его «главный» возвращались к себе в комнату для приезжающих. Федор Иванович молча углубленно курил, как-то внезапно ослабев. Во-первых, потрясло то, что у Стригалева, кроме стальных зубов, лагерного прошлого и какого-то общего сходства с никелевым геологом, оказались еще два журнала, двойная бухгалтерия. И он, Федор Иванович, опять приложил руку к тому, чтобы отравить жизнь такому человеку. И он уже чувствовал, что человек этот прав.
А во-вторых, он только что видел: Елена Владимировна и Стригалев быстро прошли, почти пробежали мимо и скрылись в потемневшем парке. Елена Владимировна держала его под руку, заглядывала ему в лицо. «Да, – думал Федор Иванович, – он, конечно, лучше меня, если честно признаться. Что – я? Опять „нечаянно“ человеку ножищу подставил! И с какой это стати, какое я имею право, приехав со стороны, вмешиваться в их давно сложившиеся устойчивые отношения, судя по всему, очень серьезные».
Цвях размяк по-своему. Глядя себе под ноги, размышлял вслух:
– Всегда, Федя, я не перестаю удивляться, наблюдая движение стай. Например, рыбьих мальков. Это же черт те что! Вот идут все параллельным курсом. Потом вдруг хлоп! – как по команде, все направо. Или налево… Так, вместе, маневрируя, и подрастают, потом вместе попадают в одну сеть, а там и в одну бочку… Что за закон?
«Неужели и здесь я, верный своей планиде, сунусь и разрушу – теперь целых две судьбы?» – думал Федор Иванович.
– Да, Федя, – Цвях вздохнул. – По-моему, мы с тобой гнали сегодня еще одну собачечку. А? Такое не забудешь…
«Нет, нет, ни в коем случае не сунусь! Бежать надо, бежать! Хватит с меня разрушенных судеб», – думал Федор Иванович, в то же время кивая Цвяху.
– Когда я был маленьким, – Цвях заулыбался. – Мать, бывало, пироги печет, и у нее остается: или тесто, или начинка. Если тесто – булочку испечет, накрутничек. Если начинка – котлетку. Я так думаю, Федя, Вонлярлярский – как такая вот булочка.
– Без начинки, – согласился Федор Иванович. – Но сколько их в булочной…
– Но добровольцы-то каковы! Как рванулись топтать! А глаза видел? Загадка века.
– Загадка веков, – сказал Федор Иванович. – Загадка всей человеческой популяции.
– Все же мир до конца не познаваем, – вдруг сказал Цвях. – Знаешь, я сейчас беседовал с одним из этих добровольцев. Молодой. Пока о вейсманизме шло – таращился. Потом я спрашиваю: «У вас, наверно, есть мама?» – «А как же!» – и уже мягкий. «И вы ее любите?» – «Кто же не любит свою мать?» – «Как тебя зовут, сынок?» – «Слава», – и вытер лоб, смотрит на меня ясными, добрыми такими глазами. Совсем другая система! Правда, в его взгляде проглядывался такой жучок… Он почувствовал, что я неспроста интересуюсь. В общем, загадочка!
Они помолчали некоторое время.
– И я спрашиваю себя, – продолжал Цвях. – В джунглях Амазонки висит на лиане вниз головой такое странное существо с зеленой шерстью, с круглыми глазами. О чем оно думает? Как? О чем думает собака? О чем и как думал головастый дурачок Гоша у нас в деревне? О чем думает этот доброволец? О чем в действительности, для себя, думает Варичев? Наверняка же не о том, что говорит! Нет, никогда не узнать. Башка раскалывается! Вот я – кто я такой? Наверно, прав Стригалев – обыкновенный я крестьянин. Причинные связи, последовательность фактов запомнил и делаю все, как эта связь велит. Посадил зерно – смотрю, растет. Лезет, понимаешь… Но они – если знают столько, сколько я, куда они суются? Почему так орут? Я, например, очень серьезно слушал этих… Хорошо ведь аргументируют. А те не понимают! А, Федя? Я тебе честно признаюсь, хочешь? Я до этого дня никогда не слышал ихних аргументов. Только наши… Думаю послезавтра удрать отсюда к чертям. Вернусь к своим яблоням, это дело мне знакомое, простое, проще ихних вопросов. Дело свое мы тут сделали, а наблюдать со связанными руками всю их заваруху нет сил. Прав, прав ты был, когда у Тумановой… Добро это страдание. Сидел я в этом президиуме и чувствовал: становлюсь все добрее. Еще немного, и заеду кому-нибудь по роже. Давай, Федя, послезавтра утречком на поезд, а?
«Вот! – подумал Федор Иванович. – Это и есть выход. Уеду!»
С грустью, но решительно он простился со своей мечтой. И даже замедлил шаг от внезапной слабости.
Глубоко вздохнул.
– Ты что, Федя? Чего охаешь?
– Да так…
– Не переживай. Я сам тогда чуть не подпрыгнул, когда ты… От восхищения. Это же само собой получается – радость по поводу своей проницательности. На научный восторг похоже, когда откроешь явление. Тут человек делается как полоумный. Ты же себя сам и остановил. Я все видел – ты опомнился. Вот только чуть поздновато. Не нами сказано: слово не воробей…
Федор Иванович молчал. Усиленно дымил папиросой.
– С этой биологической наукой сегодня все стали следователями, – ворчал Цвях. – Смотрят друг на друга, норовят с хвоста зайти. Конечно, в таких условиях держи ухо востро. Брякнешь что не так – и нет человека.
Сами того не замечая, они постепенно нагоняли шеренгу студенток. Девушки спорили о чем-то, то и дело останавливались, бросали растопыренные пальцы одна другой в лицо. Когда Федор Иванович и Цвях подошли к ним вплотную, студентки опять остановились. «Гнать, гнать его надо из комсомола!» – услышал Федор Иванович одно и то же, несколько раз повторяемое на разные голоса. С клюющими движениями головой.
– Кого это вы так, девушки? – Цвях, широко улыбаясь, остановился перед ними,
– Вы были на собрании? – спросила одна, и из мрака выступила ее юная красота, одухотворенная спором.
– Оттуда идем…
– Значит, слышали все! – наперебой сердито защебетали они, – А как же! Он же вейсманист-морганист! Вчера мы с ним поспорили…
– Это что, ваш товарищ?
– Сашка Жуков? Какой он товарищ! Товарищ!.. У Стригалева днем и ночью торчал. Все знал и молчал…
– А-а… – вдруг прокаркал в темноте некий узенький человечек, подошедший сзади. – Тогда правильно! Мало ему, дрянь такая! Исключить его! Посадить! Расстрелять! – удаляясь, каркал он с тончайшей издевкой.
– Вот видите! – сказал Цвях, постепенно переходя к нотации. – Вот так необдуманно покричите на улице и получится как донос. Глядишь, и из института человека исключат…
– И правильно сделают! – крикнула красивая и поджала губы. – Мы с ним не разговариваем!
Почти бегом Федор Иванович и Цвях бросились от них наутек.
– Ну цыплятки! – крякал и качал головой Цвях. – Совсем как у тети Поли! Клюют…
– Я их не могу осуждать, – негромко сказал Федор Иванович. – Сам в детстве клевал…
– Да, ты прав, прав. Юность – страшная вещь. Даже когда за правое дело бросается в огонь, она и тут бывает страшна, потому как не понимает же, не понимает ни черта! А рука уже тяжелая, как у большого. Я-то был тогда совсем ведь молодым, когда на крест веревку…
Они надолго замолчали. Потом Цвях развел руки, словно обнимал надвигающуюся ночь, и глубоко втянул в себя воздух.
– Прямо на глазах потемнело. А чувствуешь, Федя, какой воздух? Ночь любви! Погуляем напоследок?
Федор Иванович послушно подчинился, и они свернули в парк.
– Брось курить в такой вечер, – сказал Цвях и, выхватив у него изо рта папиросу, бросил. – Дыши и мечтай. Знаешь, о чем? О прекрасной женщине.
Они брели между деревьями, почти впотьмах. Иногда мимо них в теплом мраке скользили, неслышно уклонялись в сторону темные человеческие фигуры, сгустки тайны, все по двое – одна тень высокая, другая пониже. И Федор Иванович каждый раз угрюмо всматривался в них, прислушивался к тихим голосам.
Утром в субботу они, разбросав на койках свои вещи, складывали их в чемоданы.
– Никак вчерашний денек из головы не идет, – говорил Василий Степанович. – Я так думаю, Федя, у всех, кто там был вчера, проснулось это самое… Помнишь, говорил я тебе про спящую почку. Про героев и подлецов. По-моему, у всех.
– И в вас?
– Шевелится, Федя. Так что едем в самое время. Подальше от соблазна.
Федор Иванович вспомнил о своем неоконченном эксперименте. Пробирка с десятью мушками и мутно-розовым киселем на дне по-прежнему стояла на подоконнике в стакане, спрятанная от постороннего глаза. У мушек кипела жизнь. На границе с киселем у самого дна уже были приклеены к стеклу словно бы комочки манной крупы – яйца мушек.
– Выпустить надо их… – проговорил задумчиво Федор Иванович.
– Зачем было тогда огород городить? – сказал Цвях сзади него. – Ты сам говорил – ясность надо вносить. Возьмем с собой в Москву. Если тебе не интересно – я возьму.
После завтрака, выйдя из столовой, они разошлись. Цвях отправился в ректорат – отмечать командировочные удостоверения, а Федор Иванович, полный надежд, как охотник, углубился в парк, прошелся к учхозу. Но того, о ком он думал, встретить в парке на пути к корпусам не удалось. И в учхозе в этот день не было практикумов. В институте шли занятия, понятное дело, все были там, в аудиториях.
В два часа дня они, пообедав, завалились на койки. Федор Иванович лег, чтобы наедине с самим собой потосковать, но замечательно заснул и проспал часов до пяти. Проснувшись и сев на койке, он покачал головой, удивляясь самому себе. Потом вскочил и отправился к Борису Николаевичу Пораю – попрощаться. Дорога к дядику Борику шла сначала парком, потом полем, затем, перейдя по мосту через ручей, он оказался на знакомой улице, дошел до первой площади и некоторое время постоял под аркой большого дома – как раз под балконом-поэта Кондакова, под его спасательным кругом. Он внимательно осмотрел знакомое семиэтажное здание, но окон Елены Владимировны так и не нашел.
Дядик Борик жил в стороне от новой, застроенной серыми кирпичными домами улицы. В его переулочке были сплошь деревянные оштукатуренные домики с мезонинчиками – сплошная старина, царские времена. Федор Иванович прошел через двор, взошел по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж и позвонил у высокой старинной двери. Открыла маленькая желтолицая жена Порая. Она сразу узнала Федора Ивановича и пропела:
– Давненько, давненько! А у нашего дядика Борика сегодня опять день механизатора. Борис! – с досадой крикнула в глубь квартиры. – Ничего не слышит. Проснись, к тебе гости! Учитель пришел!
– Я попрощаться… – сказал Федор Иванович, проходя в большую комнату с двумя сосновыми стойками в центре, подпирающими потолок. По сторонам громоздилась всевозможная старинная мебель, а между стойками во главе длинного стола в старинном кресле с «ушами» восседал дядик Борик – поставив локти на стол, подперев обеими руками голову, запустив два пальца в рот и закусив их деснами – в позе глубочайшего раздумья. Тяжелые веки были опущены на глаза, жирные нечесанные пряди свалились на лоб. Перед ним стояла сковорода, на ней было несколько котлет и вилка с надетым куском. На две трети отпитая бутылка водки и граненый стакан с остатками на дне выдавали весь смысл «дня механизатора», и без того давно знакомый Федору Ивановичу.
– Проснись, кандидат наук! – женщина сильно потрясла его за плечо. – Пришли к тебе! Федор Иванович, Учитель пришел!
– Цыц! – чуть шевельнул он толстыми губами. Углубившись в себя, он дышал с нутряным озабоченным сопеньем. Потом веки медленно поднялись. Он поднес руку к бутылке, приглашающе ткнул пальцем. Осмысленный взор с лукавым вопросом остановился на госте.
– Нет, нет, я не буду, – поспешно сказал Федор Иванович.
– Не все такие, как ты, – подхватила женщина.
– Цыц!.. Переевшая мне мозги… – ползучим голосом пробормотал дядик Борик, перемежая слова сопеньем. – Это я вместо энергичного термина. Хорошего термина, который ей не нравится, – он усмехнулся. – Да, Учитель, у дядика Борика сегодня… Сегодня у него день механизатора. Досрочный. Если вы хотите разделить…
– Спасибо, дядик Борик, спасибо… Почему досрочный?
– Есть причина… Приходите дня через три. Сейчас я беседую с вечностью. Вам, трезвому, в нашем обществе места нет. Приходите, дядик Борик хотел вам что-то… Запамятовал…
– Я же уезжаю.
– В Москву? Ну что ж, с богом… Счастливого пути. Приезжайте…
И веки тяжело опустились.
Идя назад, Федор Иванович все же посматривал по сторонам, что-то, тихонько догорая, все еще напоминало о себе туповатой болью. В комнату приезжающих он вступил с очистившейся душой, перешедшей на новый путь. Да, эта поездка была для него серьезным испытанием, научила многому, произвела хорошенький массаж.
Цвях ждал его, сидя на своей койке.
– Касьян сейчас звонил. Придется мне одному ехать в Москву.
– Что такое?
– Тебе велит оставаться. Я ему за тебя ответил, что ты как раз об этом думал…
– Меня бы следовало спросить, – сказал Федор Иванович угрюмо. – Я уеду вместе с вами. Что смотрите? Уеду, уеду…
– Не уедешь, Федя. Тут, знаешь, сейчас что начнется? Не уедешь. Останешься на месяц исполняющим обязанности, осторожненько поможешь кому-нибудь. Ретивых маленько придержишь. Надо, надо остаться, я дал ему твое согласие. А то ведь Саула пошлет… Они здесь очень будут рады…
– Ну как же вы все-таки! – Федор Иванович сел – прямо рухнул на свою койку, хлопнул рукой по колену.
И сейчас же почувствовал, что все эти движения фальшивы. Замер на койке, прислушиваясь к самому себе, улавливая отдаленный голос. Этот голос уже не раз подталкивал его к какому-то решению. В переводе на человеческую речь это звучало примерно так: неужели ты мог бы удрать оттуда, где по твоей вине обрушилась чья-то судьба? Ведь если бы ты не развернул все свои перья, красуясь перед Еленой Владимировной, не разошелся вовсю там, в оранжерее, все могло бы быть иначе. И этот Стригалев – он ведь прямо копия того геолога, искавшего никель…
– Он еще сегодня позвонит, – сказал Цвях. Телефон зазвонил, когда в комнате совсем стемнело – было видно только синее окно. Федор Иванович снял трубку и сразу услышал веселое гусиное гагаканье академика Рядно.
– Я тебе почему звоню. Ну, во-первых, сынок, я доволен твоей работой. Ты выполнил сложное и ответственное задание. Справился. Проявил такт, правильно зацепил и наших. Так им, дуракам. Объективность прежде всего! И этого. Троллейбуса, вывел на чистую воду – это ж у них фельдмаршал был! И сам в стороне остался – чтоб не думали, что академику Рядно нужны жертвы. Я ж знал, кого послать! Саул на такие тонкости не способен. В общем, ставлю тебе пять, сынок. Пять с плюсом. И Варичев доволен. Теперь слушай во-вторых. Понимаешь, начатое дело нужно доводить до конца. То, что сделано – это только начало. Ты, конечно, и здесь мне вот так нужен, с твоим талантом, – он умолк на время. – Однако и там… Нужно еще насаждать и укреплять. Там сейчас начнут вейсманистские талмуды жечь – не бойся, это сделают без тебя, я сказал Варичеву. С такими вещами ты не станешь мараться, я ж знаю тебя, сынок. Ты мне учебный процесс на новые рельсы переведи. Учебники, методику – все это пришлют. Я прослежу. И проблемную лабораторию… Там пока ничего не трогай, так все оставь. Я тут для тебя новую проблему готовлю. На старом сусле, но с новыми дрожжами. Пока этого хватит. Идейка будет – упадешь, как узнаешь. Но это – после поговорим…
– Яас-сно, – сказал Федор Иванович.
– Энтузиазма не чую, Федя…
– Какой тут энтузиазм, когда кругом…
– Борьба идей, сынок. Закаляйся.
VI
Рано утром в воскресенье за окном раздался сигнал институтского автобуса. Федор Иванович подхватил чемодан своего товарища и вслед за Цвяхом вышел на крыльцо.
– Ну, – бодренько сказал Василий Степанович. – Втравил я тебя в это дело, теперь держись.
Крепко пожали друг другу руки, и Цвях укатил. И остался Федор Иванович один. Воскресенье тянулось очень медленно. Вдобавок еще начал накрапывать, а потом и всерьез разошелся мелкий осенний дождь. Федор Иванович почти весь день пролежал на своей койке, глядя в старинный сводчатый потолок.
В понедельник с утра он был в ректорате. Там секретарша Раечка дала ему прочитать приказ, где значилось, что кандидат биологических наук Дежкин Федор Иванович «сего числа и до особого распоряжения» назначается исполняющим обязанности заведующего кафедрой генетики и селекции с одновременным исполнением обязанностей заведующего проблемной лабораторией. Поставив под этим приказом простенькую подпись, Федор Иванович ушел в «свой» корпус.
Все преподаватели уже сидели в той комнате, что была рядом с кабинетом заведующего кафедрой. Ходеряхин тонко и грустно улыбался, Краснов вежливо глядел в пол. Анна Богумиловна издала веселый рык:
– Вот и наш зав!
Здесь же сидел за столом и профессор Хейфец. Встав, он тронул Федора Ивановича за локоть и тихо, почтительно попросил:
– Вы позволите мне взять портреты?
– Пожалуйста, – так же тихо ответил Федор Иванович. – Я еще не принимал у вас кафедру.
– А что там принимать… – старик посмотрел с древней, библейской тоской. И Федор Иванович ответно коснулся его руки.
– Пожалуйста, берите все, что вам надо. И я бы хотел, чтобы вы не навсегда…
– Что будем делать с иконостасом? – громко гаркнула Побияхо. – Может, отнесем эти портреты на хоздвор?
– А что на хоздворе?
– Федор Иванович, вы еще не знаете? – Тихонько прогудел около него Хейфец. – Там уже с семи утра костер… Жгут книги. Пожилая бездарь и молодая глупость жгут классические учебники.
– Портреты отдадим Натану Михайловичу, – сказал отчетливо Федор Иванович.
– Портрет академика Лысенко надо заменить, – заметила Побияхо.
– Что толку? – сказал ей с улыбкой Хейфец.
– Замену поручим вам, Анна Богумиловна, – Федор Иванович устремил на нее мягкий непроницаемый взгляд.
– А мне что делать? – подал голос Стригалев. Он тоже был здесь, сидел в углу.
– Как, что? Я вижу, вы в пиджаке и с галстуком. У вас сегодня, по-моему, лекция. Значит, вам идти в зал.
Тут он заметил Елену Владимировну. Все это время она пристально смотрела на него, но он был занят разговором с другими. Теперь заметил и на миг остановил на ней свой мягкий прохладный тициановский взгляд, который можно было прочитать примерно так:
«Надеюсь, мы покончили, наконец, со всеми боевыми заданиями. Слава богу. Теперь на основании приказа ректора мы можем перейти к спокойным деловым отношениям».
– Я считаю, что все должно идти, как шло, – сказал он. – Правда, с некоторыми поправками, смысл которых, я полагаю, всем ясен.
Что-то вздрогнуло в нем, и больше он на Елену Владимировну не смотрел. Он знал, что недостатков у него хоть отбавляй – он и неказист, и рост маловат, и слишком открыт, и наивен, и хорошо умеет попадать впросак, а она вон какая – ее совсем не видно. Нет, хватит! И он захлопнул все ставни.
Она, конечно, все это прочитала, похолодела и, гневно сведя честные четкие брови, стала смотреть в окно.
Стригалев поднялся, взял свою тоненькую кожаную папку и вышел. Комната постепенно пустела. Федор Иванович тронул кофту профессора Хейфеца.
– Натан Михайлович, пойдемте, я помогу вам снимать портреты.
Старик, посапывая, послушно поплелся за ним. В кабинете Федор Иванович поставил под портрет Менделя стол, сняв с него спиртовку, на которой неделю назад Леночка варила кофе. На столе утвердил стул – и вот портрет уже стоит на полу, и поникший Натан Михайлович рукавом кофты стирает паутину с тяжелой дубовой рамы.
Когда был снят со своего места Морган, послышался неуверенный стук, дверь кабинета приоткрылась и показался хмурый Стригалев.
– Вы не пошли? – Федор Иванович спрыгнул со стола.
– А вы посмотрите, что там делается…
Федор Иванович не стал ничего спрашивать. Похлопал в ладоши, отряхивая пыль, и, не оглядываясь, устремился в коридор быстрым, строгим шагом.
Обе половинки дверей Малой лекционной аудитории были распахнуты. На скамьях, амфитеатром уходящих к потолку, группы студентов замерли, и было видно, что появление строгого и решительного нового зава кафедрой прервало горячие споры. Все повернули головы к входу. Самая большая группа собралась внизу, на помосте, где была кафедра и стол для демонстрации экспериментов. Здесь же стояла Анжела Шамкова. Ее белый палец с бледным ногтем как бы писал нервные завитушки на листе бумаги, лежавшем на столе.
Федор Иванович подошел.
– Нет, ты подпишешь, – говорила Шамкова сильно покрасневшему молоденькому студенту. – Лекции он читал неинтересные. И мичуринское учение у него получалось с подкладочкой, с обманом. Он же вейсманист-морганист! Его все равно уже…
Студент с ужасом оглянулся, увидел Федора Ивановича и еще больше покраснел.
– Что здесь? – громко спросил Федор Иванович, чтоб спасти беднягу от наседавшей на него Шамковой. Взял со стола листок. Студент сразу же, показав товарищам круглые повеселевшие глаза, шагнул в сторону.
– Мы, студенты факультета генетики и селекции растений, просим ректорат избавить нас, – чеканя каждое слово, громко прочитал Федор Иванович, становясь непроницаемым. – …Избавить нас от обязательного слушания лекций И. И. Стригалева, который, как выяснилось…
На лицо Федора Ивановича легла жесткая тень официальности, губы стали тоньше.
– Почему я ничего не знаю об этом? Анжела Даниловна! Я все-таки здесь…
– Это согласовано, Федор Иванович…
– Вы же сами сказали – его все равно… И притом, уже. Зачем же еще этот дополнительный… ритуал?
– Федор Иванович! – Шамкова вздохнула с досадой. – Это письмо обсуждено парткомом и комсомольской организацией. Будет завтра напечатано в нашей газете.
– Д-да? Тогда конечно. Хотя, в общем, странно. Ну, и как дело идет?
– Есть не подписавшие. Некогда было провести работу…
– Ну-ка, что тут… Ого, собрали все-таки! По-моему, человек тридцать есть. А говорите, некогда. А это что? Анжела Даниловна! – Он остановился, посмотрел на нее с удивлением. – Что же это вы, вожак, и не подписались под этим историческим документом? А? Страшно? Напечатают в газете?..
Шамкова начала розоветь, опустила глаза.
– Любопытно… – он понизил голос. – Испугались? Знаете, как Библия определяет фарисеев? Возлагают на людей бремена тяжелые и неудобоносимые… Сами же пальцем не двинут…
Шамкова вспыхнула, оглянулась на студентов.
– Я же не… Я все-таки в аспирантуре…
– Вы прежде всего тот, кто зовет. Кто, как вы говорите, проводит работу.
Она с нетерпеливой досадой, громко вздохнув, схватила ручку.
– Впереди, впереди, – сказал Федор Иванович, холодно глядя на нее. – Впереди всех. Вот так. Теперь вы получили право проводить… вашу работу.
Окинув ее быстрым взглядом, Федор Иванович повернулся и вышел.
В глубине коридора, ближе к кабинету кафедры, ждал его Стригалев, прислонившись к стене.
– Да, вам, Иван Ильич, лучше туда не идти. Дело гиблое. Отцы и дети…
Стригалев чего-то ждал. Он смотрел и как бы протягивал руки – ждал помощи.
– Дверью не вздумайте хлопнуть, – сказал ему Федор Иванович. – Вы попали под бой. Отчасти и по моей, Иван Ильич, вине. Я постараюсь свою долю вам возместить.