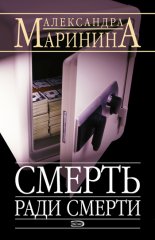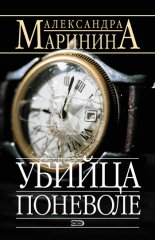Философия в будуаре, или Безнравственные наставники Сад Маркиз

Является ли тогда убийство преступлением перед обществом? Разве можно это себе представить? Какая разница для этого кровожадного общества, будет ли в нём одним членом больше или меньше? Пострадают ли от этого его законы, обычаи и нравы? Разве смерть одного человека влияла когда-нибудь на общую массу? А после потерь, понесённых в крупном сражении... да что там? - после истребления половины человечества, или, если вам угодно, всех жителей земли, за исключением небольшого количества оставшихся в живых, разве будет заметно хоть какое-либо изменение порядка вещей? Увы, нет. И Природа не заметит ничего, и глупое тщеславие человека, который возомнил, будто всё вокруг создано ради него, будет поистине повержено после полного уничтожения человеческого рода, и будет видно, что в Природе ничего не изменилось, и полёт звёзд не приостановился. Но продолжим.
Каким должно быть отношение к убийству в воинственно настроенной республике?
Было бы опасно порицать или наказывать за убийство. Республиканский дух взывает к некоторой жестокости, ибо если он слабеет, если сила покидает его, то он будет покорён во мгновение ока. Тут у меня появляется весьма странная мысль (и если она дерзка, то значит она верна), и я изложу её. Народ, который начинает своё существование с республиканского правления, может выжить только благодаря добродетелям, потому что, дабы достичь большего, надо всегда начинать с меньшего. Но народ, уже древний и дряхлеющий, который отважно сбрасывает с себя ярмо монархии, для того чтобы принять республиканскую форму правления, сможет продержаться только благодаря преступлениям, ибо он уже преступен, и если бы он захотел перейти от преступлений к добродетели, то есть, от насилия к миролюбию и милосердию, то он стал бы вялым и, в результате этого, вскоре погиб. Что произойдёт с деревом, если вы пересадите его с плодоносной почвы на песчаную иссохшую равнину? Все интеллектуальные идеи настолько подчинены материальной стороне Природы, что сравнения, почерпнутые из земледелия, никогда нас не подведут при исследовании морали.
Дикари, самые независимые люди и наиболее близкие к Природе, ежедневно совершают убийства, за которые у них не несут наказания. В Спарте, в Лакедемоне занимались охотой на илотов, точно так же, как во Франции охотятся на куропаток. Самые свободные народы - это те, кто сочувственно относится к убийству: в Минданао человек, пожелавший совершить убийство, возводится в ранг храбрых воинов, и его сразу украшают тюрбаном. У Карагусов необходимо убить семь человек, чтобы добиться чести носить этот головной убор. Жители Борнео считают, что все те, кого они предают смерти, будут служить им в загробном мире. Набожные испанцы давали обет Святому Якову Галисийскому убивать ежедневно по двенадцать американцев. В королевстве Тангут выбирали сильного и решительного юношу, которому разрешалось в определённые дни года убивать всех, кто ему повстречается! А существовал ли более предрасположенный к убийству народ, чем евреи? Это прослеживается во всех их обычаях и на каждой странице их истории.
И опять же, китайский император и мандарины провоцируют в народе мятеж, чтобы, благодаря такой уловке, превращать его в ужасную резню. Пусть же этот кроткий и изнеженный народ восстанет против своих тиранов - и до них дойдёт очередь, а их убийство будет справедливым делом. Убийство, всегда приемлемое, всегда необходимое, будет только менять своих жертв оно было радостью для одних и станет праздником для других.
Множестово различных народов допускает публичные убийства они полностью разрешены в Генуе, Венеции, Неаполе и по всей Албании в Качоа, на берегу реки Сан Доминго убийцы, не прячась и без всякого стыда, перерезают горло человека, на которого вы указали. Индусы принимают опиум, чтобы решиться на убийство, и потом устремляются на улицу, где жестоко убивают всякого, кто им подвернётся английские путешественники наблюдали этот обычай и в Батавии.
Существовал ли более великий и более кровожадный народ чем римляне? Какая ещё нация дольше оставалась великой и свободной? Бои гладиаторов развивали в народе храбрость, и он становился воинственным благодаря тому, что из смерти сделали игру. Арену цирка ежедневно заполняло до полутора тысяч жертв, и там женщины, более жестокие, чем мужчины, смели требовать, чтобы умирающие падали грациозно, чтобы их успели зарисовать, пока они корчатся в предсмертных судорогах. Другим удовольствием римлян было созерцать, как режут друг друга на куски карлики. А когда христианский культ, в то время начавший заражать мир, стал убеждать людей, что убивать друг друга - зло, тираны сразу заковали христиан в цепи, и недавние герои превратились в забаву для тиранов.
Короче говоря, везде с полным основанием считали, что убийцы, то есть люди, подавившие в себе чувствительность до такой степени, что они способны убить другого человека, не убоявшись мести общества или частного лица - везде, говорю я, полагали, что это исключительно храбрые люди и следовательно, весьма полезные для воинственного или республиканского общества. Мы можем найти народы, которые настолько жестоки, что их удовлетворяет только принесение в жертву детей, и часто собственных. Эти нравы широко распространены, и в определённых случаях их даже узаконивают. В некоторых диких племенах убивают детей тотчас после их рождения. На берегах Онтарио матери убивали дочерей сразу, как только те появлялись на свет, поскольку они были убеждены, что дочери рождаются только для несчастной жизни, ибо их судьба - стать жёнами в стране, где женщин считали невыносимыми существами.
В Тапробане и в королевстве Сопит все дети, рождавшиеся уродами, уничтожались родителями. Мадагаскарские женщины бросают детей диким зверям, если те родились в определённые дни недели. В республиках Греции новорожденных тщательно осматривали и если они не удовлетворяли требованиям, предъявляемым к ним как к будущим защитникам республики, их тотчас убивали: в то время не считалось необходимым строить роскошные дома с дорогим убранством для сохранения человеческих отбросов. (24) До переноса столицы империи все римляне, не желавшие кормить своих отпрысков, выбрасывали их в выгребные ямы. Законодатели древности без зазрения совести приговаривали детей к смерти, и ни один свод законов никогда не ограничивал права отца главенствовать над своей семьёй. Аристотель настоятельно советовал прибегать к абортам. Эти древние республиканцы, полные энтузиазма, горячего патриотизма, не признавали сострадания к личности, распространённого среди современных народов они своих детей любили меньше, а родину - больше. Во всех городах Китая каждое утро находят на улицах огромное количество брошенных детей на рассвете их собирают в телегу с отбросами, после чего отвозят и сбрасывают в овраг. Часто акушерки избавляли матерей, топя новорожденных в чанах с кипящей водой или бросая их в реку. В Пекине новорожденных клали в тростниковые корзинки и бросали в каналы, которые каждый день чистили известный путешественник Дюальд подсчитал, что каждый день набиралось более тридцати тысяч младенцев.
Нельзя отрицать, что в республике крайне необходимо и политически важно поставить преграду против перенаселения. Из абсолютно противоположных соображений надо поощрять рост населения при монархии, поскольку тираны обогащаются только за счёт количества рабов, и им крайне необходимы люди.
Не должно вызывать сомнений, что при республиканском правлении избыток населения является настоящим пороком. Однако вовсе нет необходимости устраивать резню, чтобы избавиться от излишка людей, как говаривали наши современные децемвиры нужно лишь не давать им возможности размножаться в большей мере, чем это требуется для того, чтобы быть счастливыми.
Остерегайтесь умножающегося народа, в котором каждый - независимая личность, и не сомневайтесь в том, что революции есть следствие перенаселения. Если, ради процветания государства, вы предоставляете воинам право убивать, то тогда, ради сохранения того же государства, дайте право каждому человеку ожесточиться, ибо это не противоречит Природе, и избавляться от детей, которых он не способен прокормить или которые оказываются бесполезны государству. Предоставьте ему право на свой страх и риск избавляться от всех врагов, что могут нанести ему вред, ибо в результате этих совершенно незначительных действий население будет держаться на умеренном уровне и никогда не достигнет такого размера, когда может возникнуть угроза свержения режима. Пусть монархисты говорят, что величие государства определяется только чрезмерным количеством его граждан.
Государство обречено на нищету, если размеры населения превысят его способность себя прокормить, но государство будет всегда процветать, если, ограничивая себя в нужных пределах, оно сможет вести торговлю своими излишками. Разве вы не обрезаете лишние ветви у дерева? И разве множество побегов не ослабляет ствол? Любая система, которая отходит от этих принципов, является безрассудством, и её неправильное функционирование приведёт нас прямо к разрушению тех основ, которые мы недавно воздвигли с таким трудом.
Для уменьшения населения вовсе не следует убивать уже взрослого человека, ибо несправедливо укорачивать дни сформировавшихся людей. Но скажу, что вполне справедливо предотвратить появление существа, совершенно бесполезного миру.
Человеческую породу следует чистить с колыбели если вы предвидите, что данное существо никогда не сможет стать полезным обществу, его нужно уничтожить. Вот единственно разумные способы уменьшения численности населения, чей размер может стать причиной бед.
Пришло время подвести итоги.
Должно ли убийство быть обузданным убийством? Конечно, нет. Не будем же подвергать убийцу иному наказанию, чем месть друзей или родственников убитого. Я прощаю вас, - сказал Луи 15 Шаролэ, убившему человека ради забавы, - но я также прощаю и того, кто убьёт вас. В этом возвышенном кредо содержатся все основы для закона против убийц. (25)
Короче говоря, убийство - это ужас, но часто необходимый ужас, отнюдь не считающийся преступлением, и который обязательно нужно терпеть в республиканском государстве. Я показал, каково положение повсюду но следует ли убийство рассматривать как действие, наказуемое смертью? Те, кто разрешат нижеследующую дилемму, смогут ответить на этот вопрос.
Убийство - это преступление или не преступление?
Если нет, то почему же создают законы, карающие за него? А если убийство является преступлением, то в силу какой дикарской логики вы наказываете его подобным преступлением?
Нам остаётся поговорить об обязанностях человека по отношению к самому себе.
Философ выполняет эти обязанности постольку, поскольку они поощряют его наслаждения или делают его жизнь безопасной, и поэтому совершенно бесполезно советовать ему их выполнять, и ещё бесполезнее угрожать ему наказанием за их невыполнение.
Единственное преступление такого порядка, которое человек может свершить по отношению к себе - это самоубийство. Тех, кто сомневается, я отсылаю к знаменитому письму Руссо. Почти во всех древних государствах самоубийство узаконивалось посредством либо политических законов, либо церковных.
Афиняне представляли Ареопагу доводы для своего самоубийства, после чего они закалывались. Все правительства Греции относились к самоубийству с терпимостью, и оно входило в проекты древних законодателей. Люди убивали себя публично и делали из своей смерти торжественное зрелище.
Римская республика поощряла самоубийц: знаменитые самопожертвования во имя отечества были не чем иным, как самоубийством. Когда Рим был взят галлами, самые прославленные сенаторы обрекли себя на смерть чувствуя силу их духа, мы перенимаем те же добродетели. Один солдат убил себя во время кампании 92-ого года, в отчаянии, что не мог последовать за товарищами на Жеммапскую битву. Постоянно вдохновляясь примером этих благородных республиканцев, мы вскоре превзойдём их в добродетели - именно государство создаёт человека. Наша храбрость была вконец ослаблена привычкой жить под властью деспотов деспотизм извратил наши нравы. Теперь мы возрождаемся.
Вскоре будет видно, на какие возвышенные поступки способны дух и характер Франции, когда ей дана свобода. Сохраним же ценой нашего богатства, ценой нашей жизни свободу, стоившую стольких жертв, о которых мы не станем жалеть, если достигнем цели. Каждый из падших добровольно принёс себя в жертву не позволим, чтобы их кровь пролилась напрасно но единство...
помните о единстве - иначе результаты нашей борьбы пойдут насмарку. На основе наших побед давайте установим замечательные законы наши бывшие законодатели, всё ещё рабы тирана, которого мы недавно убили, дали нам законы, достойные этого почитаемого ими тирана. Давайте переделаем их работу, давайте осознаем, что мы начнём трудиться, наконец, для республиканцев. Пусть наши законы будут мягкими, как люди, которыми они станут управлять.
Показав, что бесчисленные поступки, которые наши предки, прельщённые лживой религией, почитали за преступные, являются ничтожными пустяками, я свёл наш труд к очень малому. Давайте установим не много законов, но пусть они будут хорошими нужно не множить препоны, а упрочить законы, которыми мы пользуемся, и следить, чтобы конечной целью провозглашаемых законов было спокойствие и счастье граждан и слава республики. Но мне бы не хотелось, французы, чтобы, после изгнания врага с ваших земель, стремление распространять ваши принципы увело вас за пределы своей страны. Ибо только огнём и мечом вы сможете разнести их по всему свету. Прежде, чем отважиться на такой шаг, вспомните о безуспешности крестовых походов. Послушайте меня когда враг, отступая, пересечёт Рейн, охраняйте свои границы и оставайтесь дома, не преступая их. Оживите торговлю, активизируйте мануфактуру и рынок вновь создайте условия для процветания искусства, земледелия - столь необходимых в государстве, подобном вашему, целью которого должно быть обеспечение всех и всем без исключения. Европейские троны опрокинутся сами собой, потому что ваш пример, ваше благоденствие заставит их рухнуть без вашего вмешательства.
Неуязвимые в своей стране, охраняемые вашим правительством и законами, вы будете всем народам образцом для подражания. Не будет такого правительства, которое бы не стремилось следовать вашему примеру, которое бы не считало за честь быть вашим союзником. Но если, влекомые тщеславием установить свои принципы правления за пределами вашей страны, вы перестанете заботиться о благополучии у себя дома, то дремлющий деспотизм воспрянет, вас начнут раздирать внутренние распри, вы истощите свои финансы и своих солдат - и всё это для того, чтобы снова лобызать оковы, которые наденут на вас тираны, поработя вас во время вашего отсутствия. Всего, о чём вы мечтаете, вы можете достичь, не покидая родного очага пусть другие народы видят вас счастливыми, и они устремятся к своему счастью по дороге, которую вы проложили для них.
(26)
ЭЖЕНИ, обращаясь к Дольмансе. - Что ж, этот трактат производит впечатление очень добротно сделанного, и он настолько соответствует вашим принципам, по крайней мере, многим из них, что я склонна считать его автором - вас.
ДОЛЬМАНСЕ. - Да, действительно, мои мысли совпадают с кое-какими соображениями в трактате. А мои речи, как вы заметили, сделали только что прочитанное похожим на повторение...
ЭЖЕНИ. - Этого я как раз не заметила. Невозможно устать от мудрых речей.
Однако я нахожу, что некоторые из этих принципов таят в себе опасность.
ДОЛЬМАНСЕ. - В этом мире есть только две опасности: жалость и милосердие.
Доброта - не что иное, как слабость, в которой неблагодарность и наглость заставляют честных людей раскаиваться. Пусть внимательный наблюдатель подсчитает все опасности, таящиеся в жалости, и сравнит их с теми, что кроются в твёрдости и жестокости, и он увидит, что последних меньше, чем первых. Но мы уходим в сторону, Эжени давайте, в интересах вашего обучения, сделаем выжимку из всего только что сказанного: вот вам совет - никогда не следуйте голосу своего сердца, дитя моё это самый ненадёжный проводник, который дала нам Природа. Крепко закройте своё сердце от наглых поползновений невзгод.
Вам лучше отказать тому, кто поистине несчастлив, чем рисковать, доверяясь бандиту, интригану или заговорщику, ибо первое может быть весьма незначительным, а второе может нанести огромный вред.
ШЕВАЛЬЕ. - Позвольте мне обсудить фундаментальные положения, изложенные Дольмансе, потому что я хочу попытаться опровергнуть их, и, по-видимому, мне это удастся. Насколько иными были бы ваши взгляды, жестокий вы человек, если бы лишить вас громадного богатства, которое даёт вам возможность удовлетворять свои страсти. Вам бы следовало пожить несколько лет в отчаянной нищете, в которой ваше безжалостное воображение видит лишь поставщика несчастных людей, которых можно постегать кнутом! Пожалейте их, и не доводите свою душу до такого состояния, когда вы перестанете слышать пронзительные крики о помощи. Когда ваше тело, устав от наслаждений, томно покоится на ложе из лебяжьего пуха, взгляните на тех, кто, измождённый тяжким трудом, обеспечивает ваше существование. Взгляните на их ложе, состоящее из редких соломинок, что не в состоянии защитить от холода подобно животным, они лежат на мёрзлой земле. Взгляните на них, вы, окружённые учениками Комоса (27), которые блюдами с сочным мясом ежедневно пробуждают вашу чувственность. Взгляните, я говорю вам, на несчастных в том лесу, отбивающих у волков горькие коренья, найденные в иссохшей земле. К вашему нечистому ложу подводят трогательных созданий из храма Цитеры, которые с вами играют, смеются, чаруют а бедняк, лежащий рядом со своей заплаканной женой, даже и не подозревает о существовании подобных наслаждений. Вы купаетесь в роскоши, предаётесь излишествам, а у него, взгляните же, нет самого необходимого! Посмотрите на эту многострадальную семью, на его жену, которая трепетно делит своё внимание между заботами о своём муже, теряющем силы на её глазах, и заботами, что предписывает Природа, о плодах любви. Но она не имеет возможности выполнить ни одной из этих обязанностей, которые так святы для неё. И вы можете хладнокровно слушать, как она молит вас отдать ей ваши отбросы, в которых вы имеете жестокость ей отказать!
Варвар! Разве это не такие же люди, как и вы? А если такие же, то на каком основании вы должны наслаждаться, а они - страдать? Эжени, Эжени! Никогда не заглушайте в вашем сердце вещий голос Природы помимо вашей воли, он будет вести вас к добру, когда жаркие страсти, заглушающие его чистый голос, утихают. Оставим позади религиозные принципы - с этим я согласен, но не будем покидать добродетели, внушающие нам гуманные чувства, ибо только благодаря им мы можем вкусить сладость наслаждений душевных. Один добрый поступок искупит все заблуждения вашего ума и успокоит угрызения совести, порождённые вашим недостойным поведением. Он создаст в вашей душе священный уголок, и в нём вы будете находить утешение от излишеств, в которые вы впали из-за ваших заблуждений. Сестрица, да, я молод, я распутник, я нечестивец, я способен на любую мыслимую непристойность, но моё сердце остаётся со мной, оно чистое, друзья мои, и оно утешает меня от угрызений, что я предаюсь всем извращениям, присущим моему возрасту.
ДОЛЬМАНСЕ. - Да, шевалье, вы молоды, что доказывают ваши речи. Вам не хватает опыта. Послушаю вас, когда вы возмужаете, и тогда, мой дорогой, вы перестанете расхваливать людей, так как вы их хорошо изучите. Именно их неблагодарность иссушила моё сердце, их вероломство разрушило во мне все вредные добродетели, для которых я, возможно, был рождён, как и вы. Итак, если пороки одного приводят к образованию этих опасных добродетелей у другого, не окажем ли мы бесценную услугу, если вовремя задушим добродетели в юности. О друг мой! Зачем вы рассказываете мне об угрызениях совести? Может ли раскаяние существовать в душе того, кто ни в чём не усматривает преступления?
Пусть ваши убеждения искоренят все раскаяния, если вы страшитесь уколов совести возможно ли раскаиваться в действии, которое совершенно вам безразлично? Если вы перестали верить в существование зла, то в чём тогда можно раскаиваться?
ШЕВАЛЬЕ. - Угрызения исходят не от рассудка, а от сердца, так что измышленные софизмы не смогут унять порывы души.
ДОЛЬМАНСЕ. - И тем не менее, сердце обманывает нас, потому что оно лишь открывает нам заблуждения ума. Дайте окрепнуть разуму, и голос сердца тотчас утихнет. Чуть мы хотим мыслить логически, как ложные определения уводят нас в сторону лично я не знаю, что такое сердце я называю сердцем бессилие рассудка. Во мне горит огонь, который освещает мой путь, и я никогда не собьюсь с него, если я здоров и в хорошем расположении духа, если голова моя светла, и я полон сил. Но когда я чувствую, что старею, и меня одолевает ипохондрия или мной овладевают страхи, то тогда я теряю дорогу и говорю себе, что я чувствителен, но в действительности я лишь слаб и робок. Ещё раз повторяю для вас, Эжени, да не завладеет вами эта коварная чувствительность будьте уверены, что это не что иное, как слабоумие плачут только от страха, и вот почему короли ведут себя, как тираны. Отвергните, отметите хитрые советы шевалье. Призывая вас открыть сердце всем воображаемым несчастьям, он хочет, чтобы у вас появилась масса забот, которые к вам лично не имеют никакого отношения, но которые вызовут у вас бессмысленные страдания. Поверьте мне, Эжени, что удовольствия, порождённые безразличием, значительнее тех, что даёт чувствительность, ибо последние трогают только ваше сердце, тогда как первые заставляют трепетать всё ваше существо. Короче говоря, можно ли сравнить дозволенные наслаждения с теми изощрёнными наслаждениями, которые, совместно с иными бесценными радостями, разрывают путы, накинутые обществом, и преступают все законы?
ЭЖЕНИ. - Вы побеждаете, Дольмансе, все лавры принадлежат вам! Слова шевалье едва касаются моей души, а ваши соблазняют её и овладевают ею.
Послушайтесь моего совета, шевалье: если вы хотите убедить женщину, взывайте к её страстям, а не добродетелям.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ, обращаясь к шевалье, - Да, мой друг, лучше еби нас, а не читай нам проповеди, ты нас всё равно не обратишь, но можешь помешать нашим наставлениям, которыми должен пропитаться ум этой очаровательной девочки.
ЭЖЕНИ. - Помешать? Нет-нет, ваш труд закончен. То, что глупцы называют испорченностью, настолько глубоко укоренилось во мне, что нет никакой надежды на возвращение к старому, да и ваши принципы так надёжно обосновались в моём сердце, что казуистика шевалье не в состоянии их разрушить.
ДОЛЬМАНСЕ. - Она права не будем больше говорить об этом, шевалье. В этих дебатах вы бы показали себя не с лучшей стороны, а мы ожидаем от вас только совершенства.
ШЕВАЛЬЕ. - Ладно, мы собрались сюда с совершенно другой целью, чем та, что я сейчас преследовал. Я согласен с вами, давайте направимся прямо к цели.
А я приберегу свою мораль для тех, кто не так одержим, как вы, и будет способен её воспринять.
Г-ЖА ДЕ СЭНТ-АНЖ. - Вот именно, мой братец, нам нужна только твоя малафья. Мы отказываемся от твоей морали, она слишком вяла и слаба для таких развратников, как мы.
ЭЖЕНИ. - Я очень опасаюсь, Дольмансе, как бы жестокость, которую вы воспеваете с таким жаром, не повлияла на ваши удовольствия. Я уже говорила, что вы становитесь безжалостны во время наслаждения. И я чувствую в себе предрасположенность к этому пороку... Расскажите, чтобы мне было ясно, как вы относитесь к объекту наслаждения?
ДОЛЬМАНСЕ. - Как к абсолютному ничто - вот как я к нему отношусь, моя милая. Неважно, разделяет он моё наслаждение или нет, испытывает он удовлетворение или ничего не испытывает, или безразличен, или даже ощущает боль - важно, чтобы я был счастлив, а остальное не имеет значения.
ЭЖЕНИ. - Не правда ли, лучше, когда ваш партнёр испытывает боль?
ДОЛЬМАНСЕ. - Разумеется, это гораздо лучше я уже высказывал своё мнение по этому поводу. Следствия такой предрасположенности весьма заметны: они быстро и энергично направляют наши животные инстинкты по пути сладострастия. Исследуя серали в Африке, в Азии, в южной Европе, мы увидим, что повелители этих прославленных гаремов, когда у них вздымается хуй, вовсе не озабочены тем, чтобы их партнёры испытывали наслаждение. Они приказывают - и им повинуются, они наслаждаются - и никто не осмеливается испрашивать их ни о чём, а когда они удовлетворены, остальные удаляются.
Среди них есть и такие, что наказывают как за непочтительность, если кто-либо осмелится разделить их наслаждение. Король Акахемы безжалостно приказывал отрубить голову женщине, которая настолько дерзнула забыться в его присутствии, что испытала с ним наслаждение. И нередко король сам рубил головы. Этого, одного из наиболее примечательных азиатских деспотов, охраняли исключительно женщины приказы им он отдавал только знаками, и ту, что не поняла приказ, постигала жесточайшая смерть. Он либо сам пытал провинившихся, либо пытки происходили всегда перед его глазами.
Всё это, Эжени, полностью основано на принципах, которые я уже вам изложил.
Каковы наши желания во время наслаждения? Чтобы всё вокруг служило нашему наслаждению, помышляло исключительно о нас, заботилось только о нас. Если наши партнёры тоже испытывают наслаждение, то, очевидно, они будут больше заниматься собой, чем нами, и тогда наше собственное наслаждение окажется омрачено. Нет такого мужчины, который не хотел бы быть деспотом, когда у него стоит: он чувствует, что его удовольствие уменьшается, если видит, что другие испытывают такое же удовольствие. Охваченный вполне естественной в этот момент гордостью, он желал бы быть единственным в мире существом, способным испытать то, что он чувствует, а вид партнёра, испытывающего такое же наслаждение, низводит его к положению равенства с партнёром, что уменьшает невыразимую прелесть его деспотизма. (28) Кроме того, заблуждение полагать, что приносить наслаждение другим является тоже наслаждением это всё равно, что служить им, а мужчина, у которого эрекция, весьма далёк от желания оказаться кому-либо полезным. Напротив, причиняя боль, он испытывает прелестные ощущения, какие испытывает сильная личность от использования всей своей мощи. Тогда он властвует, он - тиран, и как это отражается на чувстве собственного достоинства! Не думайте, что оно замолкает в эти моменты.
Акт наслаждения - это страсть, которая, по моему убеждению, подчиняет себе все остальные, но в то же время она их все объединяет. Желание повелевать в этот момент настолько сильно распространено в Природе, что его можно наблюдать и у животных. Посмотрите, как размножаются те, что находятся в неволе, по сравнению с дикими и свободными животными? Верблюд является ещё более разительным примером: он будет совокупляться, только если вокруг никого нет если же появляется хозяин, он сразу покинет свою подругу и убежит. Если бы в намерения Природы не входило наделить человека чувством превосходства, она бы не сделала его сильнее существ, которых она предназначила ему в такие моменты. Слабость, на которую Природа обрекла женщину, бесспорно доказывает, что она создана для мужчины, который с ней как никогда наслаждается своей силой, используя её с такой жестокостью, с какой ему заблагорассудится, вплоть до пыток, если он того захочет, или чего похуже.
Разве кульминация наслаждения напоминала бы приступ ярости, если бы в намерения матери рода человеческого не входило сделать похожим поведение во время соития на поведение в состоянии гнева? Какой хорошо сложённый мужчина, словом, какой мужчина, наделённый здоровыми органами, не желает проявить тем или иным способом жестокость в наслаждении? Я прекрасно понимаю, что целые армии болванов, которые не осознают своих чувств, не смогут понять мою систему взглядов, но какое мне дело до этих дураков? Не для них я говорю.
Недоумки, обожествляющие женщин! Пусть они ползают в ногах своих наглых Дульсиней в ожидании вздоха, который их осчастливит. Они - презренные рабы женского пола, над которым они должны властвовать. Пусть они испытывают гнусное наслаждение от влачимых ими цепей, тогда как Природа дала им право порабощать других! Пусть эти твари прозябают в грязном уничижении - ведь убеждать их бесполезно! - но нельзя позволять им клеветать на то, что они не в состоянии постичь. И пусть они, наконец, поймут, что единственные люди, которые достойны быть выслушанными и которые могут устанавливать законы и поучать их - это люди со свободным, ярким, ничем не ограниченным воображением, как мы, мадам и я, и подобные нам...
Ёбаный Бог! У меня эрекция!.. Позовите Огюстэна, прошу вас. (Звонят. Тот входит.) Забавно, что великолепная жопа этого парня не выходит у меня из головы всё время, пока я говорю! Все мои мысли, помимо моей воли, были так или иначе связаны с ней... Покажи мне, Огюстэн, этот шедевр... дай же мне его поцеловать и поласкать, хотя бы четверть часа. Иди сюда, любовь моя, чтобы твоя жопа почувствовала пламя, которое Содом разжёг во мне. О! У него самые прекрасные в мире ягодицы... самые белые! Я бы хотел, чтобы Эжени встала на четвереньки и сосала ему хуй пока я двигаюсь в Огюстэне, и таким образом она подставит шевалье свой зад, в который тот погрузится. Госпожа де Сент-Анж, сев верхом на Огюстэна, предоставит мне свои ягодицы для поцелуев.
Вооружившись кошкой-девятихвосткой (29), она сможет, как мне кажется, если чуть наклонится, хлестать шевалье, а у него вследствие этого появится стимул не щадить нашу ученицу. (Все принимают нужную позу.) Да, именно так! Давайте постараемся, мои друзья! Поверьте мне, это такое наслаждение - создавать из вас живые картины - нет в мире художника, который бы смог их воплотить лучше, чем вы!.. У этого негодника и впрямь непролазно узкая жопа... это всё, что я могу сделать, чтобы закрепиться в ней. Не будете ли вы так добры, мадам, позвольте мне кусать и щипать вашу восхитительную плоть, пока я предаюсь ебле?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. - Сколько пожелаете, мой друг. Но предупреждаю вас, я готова для отмщения: клянусь, что за каждый укус или щипок я буду пердеть вам в рот.
ДОЛЬМАНСЕ. - Господи, ну и угроза!.. Да она лишь толкает меня покуситься на вас, моя дорогая. (Кусает её.) Ну-ка, посмотрим, сдержите ли вы слово. (Она пердит.) Ах, блядь, какая вкуснота!.. (Он шлёпает её и тут же получает новую порцию.) О, это божественно, мой ангел! Сбереги чуть-чуть для самого важного момента... и будь уверена, что я обойдусь с тобой чрезвычайно жестоко... я тебя использую совершенно по-варварски... Блядь! Я не могу больше терпеть... я кончаю!.. (Он кусает её, ударяет её, и она пердит, не переставая.) Вот как я расправляюсь с тобой, моя прекрасная сука!.. Вот она, моя власть над тобой!..
Так... а теперь так.. ещё вот так... И, наконец, я оскверню самого идола, которому я принесён в жертву! (Он кусает дырку её жопы. Круг развратников размыкается.)
Ну, а как ваши дела, друзья мои?
ЭЖЕНИ, (сплёвывая сперму и извергая её из жопы.) - Увы, дорогой наставник, видите, что со мной сделали ваши ученички! У меня спермы полный рот и жопа - она прёт со всех сторон.
ДОЛЬМАНСЕ, (резко.) - Стой! Я хочу чтобы ты излила мне в рот то, чем шевалье наполнил твой зад.
ЭЖЕНИ, (вставая в нужную позу.) - Какое сумасбродство!
ДОЛЬМАНСЕ. - Ах, нет ничего слаще малафьи вытекающей из глубин прекрасного зада... это пища богов. (Глотает.) Смотри, как чисто вылизал!
(Поворачивается к жопе Огюстэна и целует её.) Сударыни, разрешите мне уединиться с этим молодым человеком в соседней комнате.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. - А разве вы не можете проделать с ним всё, что хотите, здесь?
ДОЛЬМАНСЕ, (тихим и таинственным голосом.) - Нет, есть вещи, которые обязательно следует скрывать.
ЭЖЕНИ. - Ах Боже мой, скажите хотя бы, что вы собираетесь там делать!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. - Я его не выпущу, пока он не скажет.
ДОЛЬМАНСЕ. - Вы хотите это знать?
ЭЖЕНИ. - Безусловно!
ДОЛЬМАНСЕ, (увлекая Огюстэна.) - Ну, хорошо, сударыни, я намереваюсь...
нет, правда, я не могу этого сказать.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. - Разве есть такая мерзость, которую мы не достойны выслушать и совершить?
ШЕВАЛЬЕ. - Ну ладно, сестрица, я скажу вам. (Он шёпотом говорит что-то двум женщинам.)
ЭЖЕНИ, (с отвращением.) - Вы правы, это ужасно.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. - Отчего же? Я это и подозревала.
ДОЛЬМАНСЕ. - Вот видите. Я должен был умолчать об этой прихоти. Теперь вы понимаете, что надо быть одному, чтобы предаться подобным гнусностям.
ЭЖЕНИ. - Вы хотите, чтобы я пошла с вами? Я вас подрочу, пока вы будете развлекаться с Огюстэном.
ДОЛЬМАНСЕ. - Нет-нет, это дело чести, и оно должно происходить только между мужчинами. Женщина нам только помешает... Через минутку я буду к вашим услугам, милые сударыни. (Выходит вместе с Огюстэном.)
ДИАЛОГ ШЕСТОЙ
ГОСПОЖА де СЕНТ-АНЖ, ЭЖЕНИ, Шевалье
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. - Твой друг действительно великий развратник, братец.
ШЕВАЛЬЕ. - Значит, я не обманул, представляя его тебе как такового.
ЭЖЕНИ. - Я убеждена, что равного ему нет в мире... О, моя милая, он очарователен я так хочу видеться с ним почаще.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. - Стучат... Кто же это может быть? Я приказала никого не впускать... Должно быть, что-то срочное... Пойдите, шевалье, посмотрите, будьте добры.
ШЕВАЛЬЕ. - Лафлер принёс письмо. Он сказал, что помнил о вашем приказе, но дело показалось ему исключительно важным.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. - Ах! Что же это? Письмо от вашего отца, Эжени!
ЭЖЕНИ. - От отца?!.. Мы погибли!..
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. - Давайте прочтём его, прежде чем расстраиваться.
(Читает.)
Можете ли вы себе представить, сударыня, что моя несносная супруга, обеспокоенная поездкой дочери к вам, незамедлительно отправляется в путь, чтобы забрать её домой? Она навообразила такое... что даже если всё это и правда, то по сути оно является весьма обыкновенным. Я прошу вас строго наказать её за наглость вчера я высек её за нечто подобное, но одного урока оказалось недостаточно. Так что, умоляю Вас на коленях: одурачьте её как следует, и поверьте - вы не услышите от меня жалоб, что бы вы ей ни сделали...
Эта шлюха уже давно доводит меня... поистине... Вы понимаете меня? Что вы ни сделаете, будет хорошо - это всё, что я могу вам сказать. Она приедет вскоре после получения вами этого письма, так что будьте готовы. Прощайте. Как бы мне хотелось быть среди вас. И прошу Вас, не возвращайте мне Эжени, пока она не пройдёт полный инструктаж. Я предоставляю Вам возможность собрать первый урожай, но знайте, что, в некотором смысле, вы трудитесь и на меня.
Вот видишь, Эжени: совершенно не о чем беспокоиться. Но надо сказать, что жёнушка, о которой идёт речь, весьма дерзкая особа.
ЭЖЕНИ. - Блядь! Ну, раз папа даёт нам все полномочия, надо принять эту тварь, как она того заслуживает.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. - Иди сюда, поцелуй меня, моё сердечко. Как я рада видеть тебя в подобном состоянии!.. Успокойся, я обещаю тебе, что мы её не пощадим. Ты ведь хотела жертву, Эжени? Вот тебе и жертва, дарованная как Природой, так и судьбой.
ЭЖЕНИ. - Мы насладимся этим подарком, моя дорогая. Клянусь, уж мы её попользуем.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. - Мне не терпится знать, как эту новость воспримет Дольмансе.
ДОЛЬМАНСЕ, входя вместе с Огюстэном. - Это замечательная новость, сударыни я находился поблизости и всё слышал. Госпожа де Мистиваль приезжает как нельзя кстати. Надеюсь, вы твёрдо решили исполнить все надежды её мужа?
ЭЖЕНИ, обращаясь к Дольмансе. - Исполнить? Превзойти все его ожидания, моя любовь... Пусть земля разверзнется подо мной, если я дрогну, на какие бы ужасы вы ни обрекли эту потаскуху!.. Друг мой, доверьте мне руководство всем этим делом...
ДОЛЬМАНСЕ. - Позвольте вашей подруге и мне взять руководство, а все остальные должны просто следовать нашим указаниям... До чего же наглое создание! Ничего подобного не встречал!..
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. - Бестактная дура! А не одеться ли нам поприличнее, чтобы её принять?
ДОЛЬМАНСЕ. - Напротив, с первого мгновения, как она войдёт, у неё не должно остаться никаких сомнений, как мы проводим время с её дочерью. Давайте лучше будем в полном беспорядке.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. - Я слышу шум, это она!.. Смелее, Эжени, помни о наших принципах... О, господи - ну и восхитительная же будет сцена!..
ДИАЛОГ СЕДЬМОЙ И ПОСЛЕДНИЙ
ГОСПОЖА де СЕНТ-АНЖ, ЭЖЕНИ, Шевалье, ОГЮСТЭН, ДОЛЬМАНСЕ, ГОСПОЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ, госпоже де Сент-Анж. - Прошу извинить меня, мадам, за то, что я явилась к вам в дом без извещения о моём прибытии, но мне сказали, что здесь находится моя дочь, а в её возрасте ещё не позволительно путешествовать одной. Я прошу вас, мадам, быть настолько любезной, чтобы вернуть её мне и не гневаться на мою просьбу и поведение.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. - Ваше поведение исключительно невежливо, сударыня.
Послушав вас, можно подумать, что дочь ваша в плохих руках.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. - Честное слово! Судя по состоянию, в каком я нахожу её и вас, мадам, и вашу компанию, я думаю что не слишком ошиблась, полагая, что она в нехорошем положении, будучи здесь.
ДОЛЬМАНСЕ. - Мадам, это весьма значительное вступление. Мне не известно, насколько близко вы знакомы с госпожой де Сент-Анж, но не скрою, что на её месте я бы приказал выбросить вас в окно.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. - Что вы имеете в виду - выбросить в окно? Учтите, сударь, я не из тех женщин, кого вышвыривают из окон. Я понятия не имею, кто вы, но по вашим речам и по вашему виду нетрудно догадаться о ваших нравах.
Эжени, следуйте за мной!
ЭЖЕНИ. - Прошу прощения, мадам, но я не могу удостоиться такой чести.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. - Что? Моя дочь сопротивляется мне!
ДОЛЬМАНСЕ. - Нет, это ещё хуже - я думаю, что вы, мадам, наблюдаете случай официального неповиновения. Поверьте, вам не следует этого терпеть. Не желаете ли, чтобы я послал за розгами, чтобы наказать этого упрямого ребёнка?
ЭЖЕНИ. - Я весьма опасаюсь, что если вы за ними пошлёте, то они будут употреблены скорее на мадам, чем на мне.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. - Нахальная тварь!
ДОЛЬМАНСЕ, приближаясь к госпоже де Мистиваль. - Полегче, моя сладкая, здесь не позволено никаких оскорблений. Мы все являемся защитниками Эжени, и вы можете пожалеть о своей резкости по отношению к ней.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. - Как! Моя дочь мне не повинуется, а я не могу заставить её уважать мои права на неё?!
ДОЛЬМАНСЕ. - О каких правах, собственно говоря, идёт речь, мадам? Вы льстите себе мыслью, что они законны? Думали ли вы о ней, когда господин де Мистиваль, или кто бы там ни был, напустил в ваше влагалище несколько капель малафьи, из которых образовалась Эжени? А? Смею думать, что нет. Так с какой стати вы сегодня имеете право требовать от неё признательности за то, что кончили, когда кто-то ёб вашу мерзкую пизду? Знайте, мадам: нет ничего более вымышленного, чем отцовские и материнские сантименты к своим детям, и детские - по отношению к своим родителям. Ничто не даёт оснований, ничто не поддерживает, ничто не порождает такие чувства, которые здесь приветствуются, а там - презираются, ибо есть страны, где родители убивают своих детей, а есть - где дети перерезают горло своим родителям. Если бы взаимная любовь была установлена Природой, то голос крови не был бы вымыслом, и тогда родители, никогда не видевшие своих детей, не знавшие об их существовании, узнавали бы своих сыновей, обожали бы их, а сыновья различали бы своих отцов, бросались бы им в объятия и относились бы к ним с почтением. Что же мы видим вместо этого? Взаимную закоренелую ненависть:
дети, которые, ещё не достигнув зрелого возраста, не могут терпеть своих отцов отцы, которые отсылают подальше своих детей, потому что никогда не могли выносить их рядом с собой. Посему эти так называемые инстинкты - абсурдная выдумка. Своекорыстие изобретает их, обычай предписывает, привычка поддерживает, но Природа вовсе не вкладывала их в наше сердце. Скажите мне, разве животные испытывают подобные чувства? Конечно же, нет. Вот почему именно с них надо брать пример, когда хотят познать Природу. О, отцы! Не тревожьтесь по поводу, так сказать, несправедливости, если ваши страсти и интересы влекут вас на создание этих существ, бытие которых вам неведомо, и которые возникли благодаря нескольким каплям вашей спермы. Вы им ничего не должны, вы живёте не для них, а для себя вы были бы глупцами, если бы вас заботил кто-то, кроме вас самих. А вы, дорогие дети, которые гораздо свободней - если только возможно быть гораздо свободней - от этого родительского почтения, в основе которого лежит иллюзия, вы тоже должны осознать, что ничем не обязаны людям, чья кровь произвела вас на свет. У них нет ни жалости, ни благодарности, ни любви - и пусть они дали вам жизнь, но у них нет никакого права требовать этих чувств от вас. Они трудятся только на себя пусть и устраиваются, как хотят. Величайшей глупостью было бы заботиться о них - никакие отношения не могут заставить вас делать это, никакой закон не указывает, ничто не предписывает. А ежели, случайно, вы услышите внутренний голос - обычай ли вдохновляет его звучание, или он начинает прорезаться под влиянием ваших моральных убеждений - глушите его без всяких сомнений и жалости. Все эти абсурдные сантименты, которые Природа всегда отвергает, а разум - отрицает, есть лишь результат местных нравов, плод географического курьёза, климата!
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. - Как! А мои заботы, которыми я её окружала! А образование, которое я ей дала!..
ДОЛЬМАНСЕ. - О! Что касается забот, то они - лишь результат условностей или тщеславия. Вы сделали только то, что предписывают обычаи страны, в которой вы живёте. Так что Эжени не обязана вам ничем. Что же касается образования, которое вы ей дали, то оно оказалось отвратительным, и поэтому мы должны были заменить ей все убеждения, что вы ей втемяшили. Ни одно из них не принесло бы ей счастья, нет ни единого, которое не оказалось бы нелепым или лживым! Вы говорили ей о Боге, будто он существует, о добродетели, будто она необходима, о религии, будто все религиозные культы не есть результат бессовестного обмана и бесконечной глупости вы говорили об Иисусе Христе, будто бы этот мошенник не был разбойником и мерзавцем. Вы внушали ей, что ебаться - грех, тогда как ебля - самое прекрасное в жизни. Вы хотели сделать её высокоморальной, тогда как счастье девушки неотделимо от разврата и безнравственности, тогда как, без сомнения, самая счастливая женщина - это та, что погружена в грязь и похоть, та, что больше всех презирает предрассудки и издевательски высмеивает своё доброе имя. Не пребывайте в заблуждении, сударыня, вы ничего не сделали для своей дочери, вы не выполнили по отношению к ней ни одного обязательства, что налагает Природа. Так что Эжени может отплатить вам только ненавистью.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. - Господи милостивый! Моя Эжени пропала, это ясно...
Эжени, моя любимая Эжени, в последний раз внемли мольбе той, что дала тебе жизнь. Это не приказ, это просьба. К несчастью, очевидно, что ты окружена здесь чудовищами. Беги этой опасности, идём со мной, на коленях прошу тебя!
(Она падает на колени.)
ДОЛЬМАНСЕ. - Какая трогательная сцена!.. К делу, Эжени, будьте с ней помягче.
ЭЖЕНИ, (полуголая, как, без сомнения, помнит читатель.) - Вот вам, дорогая матушка, моя задница... Она точно на уровне ваших губ, поцелуйте её, моя сладкая, пососите её. Это всё, что Эжени может для вас сделать...
Запомните это, Дольмансе - я всегда буду вести себя как ваша достойная ученица.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ, (с ужасом отталкивая Эжени.) - Чудовище! Я отрекаюсь от тебя, ты мне больше не дочь!
ЭЖЕНИ. - Добавьте к этому несколько проклятий, коль пожелаете, дорогая маменька, и тогда всё это станет ещё трогательней. Но мне-то будет по-прежнему безразлично.
ДОЛЬМАНСЕ. - Полегче, мадам, полегче. Это оскорбление. С нашей точки зрения, вы слишком грубо отпихнули Эжени, а я ведь уже вам сказал, что она находится под нашим покровительством. За преступлением должно последовать наказание. Будьте добры раздеться догола, дабы получить то, что вы заслужили вашей грубостью.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. - Мне раздеться?!..
ДОЛЬМАНСЕ. - Огюстэн, раз она сопротивляется, послужи мадам горничной.
(Огюстэн грубо берётся за дело. Госпожа де Мистиваль старается защититься.)
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ, (госпоже де Сент-Анж.) - О Боже, где я нахожусь?
Сударыня, вы отдаёте себе отчёт, что позволяете так обращаться со мной в вашем доме? Вы что, думаете, я не буду жаловаться?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. - Я вовсе не уверена, что вам это удастся.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. - Господи, да меня здесь убьют!
ДОЛЬМАНСЕ. - Почему бы и нет?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. - Минуточку, господа. Прежде, чем тело этой красотки предстанет перед вашим взором, будет уместно предупредить вас о состоянии, в котором оно находится. Эжени только что шепнула мне на ушко, что вчера её муж чуть не сломал руку, хлестая её за какую-то мелкую провинность... и Эжени уверяет меня, что вы увидите жопу, которая выглядит как муаровая тафта.
ДОЛЬМАНСЕ, (едва госпожа де Мистиваль оказалась голой.) - Боже мой, это чистая правда. Мне кажется, что я никогда не видел такого истерзанного тела...
Но, господи Иисусе, у неё спереди не меньше следов, чем сзади! Однако... я тут вижу дивную жопу. (Он целует её и тискает.)
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. - Оставьте меня, оставьте, или я позову на помощь!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ, (подойдя к ней и схватив её за руку.) - Слушай, блядь, я тебе сейчас всё объясню!.. Ты - наша жертва, посланная твоим собственным мужем. Ты должна подчиниться судьбе, потому что ничто тебя не спасёт... Что тебя ждёт? Сама не знаю: может быть, тебя повесят, колесуют, четвертуют, вздёрнут на дыбу, сожгут заживо - выбор пыток зависит от твоей дочери, поскольку она будет распоряжаться твоей жизнью. Ты настрадаешься, блядь! Но прежде, чем мы прикончим тебя, ты пройдёшь через бесчисленное количество всевозможных унижений. И я предупреждаю, что кричать бесполезно - в этих стенах можно зарезать быка, и никто не услышит его мычания. Твои лошади и твои слуги уже отосланы. Так что повторяю, моя красотка, твой муж разрешил нам делать то, что мы делаем. Ты попала в ловушку только по своей глупости, и выбраться из неё невозможно.
ДОЛЬМАНСЕ. - Надеюсь, теперь мадам полностью успокоилась.
ЭЖЕНИ. - Слишком много чести, давать ей такие объяснения.
ДОЛЬМАНСЕ, (продолжая щупать и шлёпать её по ягодицам.) - Поистине, в лице госпожи де Сент-Анж вы имеете добрую подругу... Где теперь отыщешь такую искренность? Сколько прямоты в её тоне, когда она к вам обращается!..
Эжени, подойдите-ка сюда и выставьте свой зад рядом с материнским, я хочу сравнить ваши жопы. (Эжени повинуется.) Видит Бог, что ваша прекрасна, моя дорогая, но и жопа мамаши ещё совсем недурна... пока... через пару минут я позабавлюсь, ебя вас обеих... Огюстэн, подержи-ка мадам.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. - Господи помилуй, это же насилие!
ДОЛЬМАНСЕ, (продолжая выполнять задуманное и начиная выжопливать мамашу.) - Вовсе нет, нет ничего проще!.. Глядите, вы его едва почувствовали!..
Ясно, что ваш муж частенько ходил этой дорожкой. Твой черёд, Эжени... Да, не сравнить... Ну, вот, я доволен, мне просто хотелось размяться, чтобы войти в форму... ну а теперь установим нужный порядок. Прежде всего, сударыни, вы, Сент-Анж и вы, Эжени, извольте вооружиться искусственными хуями, чтобы по очереди всаживать их ей изо всех сил то в пизду, то в жопу. Шевалье, Огюстэн и я, действуя нашими собственными членами, будем сменять вас в нужный момент. Начну я, и как вы можете догадаться, я опять засвидетельствую почтение её жопе. В течение наших игр, постепенно, каждый волен решить для себя, какой пытке он хочет её подвергнуть, но имейте в виду, что её страдания должны нарастать постепенно, чтобы не убить её раньше времени... Огюстэн, милый мой мальчик, выеби и тем утешь меня ведь я обязан ебать в жопу эту старую корову.
Эжени, позвольте мне целовать ваш прекрасный зад, пока я ебу вашу мамочку, а вы, мадам, приблизьте ваш, чтобы я мог его потискать... по-сократовски.
Когда ебёшь в жопу, ты должен быть окружён стеной из жоп.
ЭЖЕНИ. - А что вы собираетесь делать с этой сукой, друг мой, когда вы начнёте изливать сперму?
ДОЛЬМАНСЕ, всё это время играя хлыстом. - Самое естественное, что может быть: вырывать из ляжек щипцами волосы и куски мяса.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ, понимая, какие страшные муки её ожидают, - Чудовище!
Преступник! Он изуродует меня!.. О, Боже милостивый!
ДОЛЬМАНСЕ. - Не взывайте к нему, голубушка, он останется глух к вашим мольбам, как и к мольбам прочих: никогда это всемогущее существо не ввязывалось в дело, суть которого - просто жопа.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. - О, как мне больно!
ДОЛЬМАНСЕ. - Как удивительна несовместимость человеческих проявлений!..
Ты страдаешь, моя возлюбленная, ты плачешь, а я вот кончаю... о, блядища!
Я бы тебя придушил, если бы я не хотел оставить это удовольствие для других. Она твоя, Сент-Анж. (Госпожа Сент-Анж ебёт её искусственным членом в жопу и в пизду и также наносит ей несколько ударов кулаком. Затем шевалье шествует по обеим дорожкам и, кончая, влепляет ей пощёчины. Следующим приступает Огюстэн, он действует подобным же образом, а в конце щиплет её и бьёт кулаком. Пока происходит эта битва, снаряд Дольмансе перелетает из жопы одного участника в жопу другого, и Дольмансе поддерживает всеобщее возбуждение своими речами.) Ну-ка, прекрасная Эжени, поебите свою мать, прежде всего в пизду.
ЭЖЕНИ. - Идите, милая матушка, я буду вашим мужем. Этот вроде побольше, чем у вашего супруга, не так ли? Ничего, он влезет... О, мамочка, дорогая, ты плачь, кричи, громко кричи, когда тебя ебёт дочка!.. А вы, Дольмансе, ебите меня в жопу!.. Ну, вот, я одновременно совершаю кровосмешение, адюльтер и содомию - я, девушка, потерявшая невинность только сегодня. Вот это прогресс, друзья мои!.. С какой скоростью я продвигаюсь по тернистой тропе порока!.. Да, я погибшая девушка!.. Ты, кажется, кончаешь, матушка... Дольмансе, посмотрите на её глаза, она кончает, не правда ли?.. Ах, блядь, я научу тебя, как развратничать!..
Ну, сука, а как тебе это нравится? (Она сжимает, щиплет, скручивает груди матери.) О, еби меня Дольмансе... еби, мой дружок... я умираю! (Кончая, Эжени обрушивает на груди и бока матери десять-двенадцать сильных ударов.)
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ, (близкая к обмороку.) - Пощадите меня, молю вас...
мне... мне плохо... я теряю сознание... (Госпожа де Сент-Анж хочет ей помочь, но Дольмансе останавливает её.)
ДОЛЬМАНСЕ. - Погодите, оставьте её, нет ничего сладострастнее, чем любоваться женщиной в обмороке. Мы похлещем её, и это приведёт её в сознание... Эжени, ложитесь на тело вашей жертвы... я хочу убедиться в несгибаемости вашей воли. Шевалье, поебите её на теле матери, лежащей в беспамятстве, и пусть Эжени дрочит нас - Огюстэна и меня - одновременно, обеими руками. А вы, Сент-Анж, дрочите её, пока её ебут.
ШЕВАЛЬЕ. - Вообще говоря, Дольмансе, то, что вы заставляете нас делать - ужасно. Мы надругаемся не только над Природой и небесами, но и над святыми законами человечности.
ДОЛЬМАНСЕ. - Ничто меня так не веселит, как тяжёлые приступы добродетели у шевалье. Но, из всего, что мы делаем, в чём, чёрт побери, он усматривает какое-либо надругательство над Природой, небесами и над человечеством? Друг мой, именно Природа наделяет распутников убеждениями, которые они претворяют в жизнь. Я уже тысячу раз говорил вам, что для идеального поддержания равновесия Природа нуждается то в пороках, то в добродетелях и внушает то одно желание, то другое, согласно своим надобностям, так что мы вовсе не делаем зла, уступая этим желаниям, какими бы они ни были. А что касается небес, мой дорогой шевалье, прошу вас, не надо их страшиться: есть единственный двигатель в этом мире, и этот двигатель - Природа. Чудеса, а вернее, физические явления этой матери человеческого рода по-разному толковались людьми и обожествлялись ими, принимая тысячи образов, один причудливее другого. Обманщики и пройдохи злоупотребляли легковерием ближних и потворствовали их нелепым грёзам. Вот что шевалье именует небесами и над чем он боится надругаться!.. Он также считает, что мы надругаемся над законами человечности, позволяя себе сегодня эти мелочи и глупости. Заруби себе на носу, мой трусливый простачок: то, что дураки называют человечностью, есть не что иное, как слабость, порождённая страхом и эгоизмом. Эта фальшивая добродетель порабощает только немощных людей, и она неведома тем, чей характер сформирован стоицизмом, храбростью и философией. За дело, шевалье, за дело и не бойся ничего. Даже если мы истолчём эту блядь в порошок, в этом не будет никакого преступления. Человеку невозможно совершить преступление. Когда Природа внушает человеку неотвратимое желание совершить злодеяние, она предусмотрительно делает для него невозможными те действия, которые могли бы помешать её работе или противоречить её воле. Будь же уверен, мой друг, что всё остальное вполне допустимо, ибо она не настолько глупа, чтобы позволить нам причинить ей неудобство или вносить беспорядок в её деятельность. Мы - слепые орудия её желаний, и если бы она пожелала уничтожить мир в огне, то единственным преступлением было бы оказывать ей сопротивление. Все преступники на земле - не что иное, как послушные исполнители её капризов... Итак, Эжени, ложитесь.
Но что я вижу?.. Она бледнеет!
ЭЖЕНИ, ложась на свою мать. - Бледнею? Я? Господи, вовсе нет! Скоро вы увидете, что совсем наоборот! (Ложится в нужную позу. Госпожа де Мистиваль по-прежнему в обмороке. Когда шевалье спускает, группа распадается.)
ДОЛЬМАНСЕ. - Как? Эта сука ещё не очнулась! Розги! Я говорю, принесите розги!.. Огюстэн, сбегай-ка и сорви мне в саду несколько веток терновника.
(Ожидая, он хлещет её по лицу.) Честное слово, я боюсь, что она сдохла:
ничего не помогает.
ЭЖЕНИ, (с раздражением.) - Сдохла?! Так что, выходит, я должна буду носить чёрное летом? А мне пошили такие прелестные платья!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. - Ах ты, маленькое чудовище! (Она разражается смехом.)
ДОЛЬМАНСЕ, (беря терновник у вернувшегося Огюстэна.) - Посмотрим, принесёт ли результаты это последнее средство. Эжени, сосите мне хуй, пока я стараюсь вернуть вам вашу мать. А ты, Огюстэн, верни мне удары, которые я буду расточать этой даме. Я не буду возражать, шевалье, если вы будете ебать в жопу свою сестричку, причём расположитесь так, чтобы я мог целовать ваши ягодицы, пока я тут орудую.
ШЕВАЛЬЕ. - Что ж, давайте подчинимся ему, раз нет возможности убедить этого мерзавца, что всё, что он заставляет нас делать - ужасно. (Выстраивается мизансцена. По мере того, как секут госпожу де Мистиваль, она приходит в себя.)
ДОЛЬМАНСЕ. - Ну, видите эффективность моего лекарства? Я же говорил, что оно надёжное.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ, (открывая глаза.) - О Боже! Зачем вы меня вызвали из могилы? Зачем вы возвращаете меня к ужасам жизни?
ДОЛЬМАНСЕ, (продолжая её хлестать.) - Да потому, дорогая маменька, что мы ещё не обо всём поговорили. Разве вы не должны выслушать приговор? Разве он не должен быть приведён в исполнение?.. Давайте-ка расположимся вокруг нашей жертвы, пусть она стоит на коленях в центре круга и пусть она в трепете слушает то, что мы ей объявим. Госпожа де Сент-Анж, не соблаговолите ли начать. (Нижеследующие речи произносятся в то время как действующие лица продолжают свои занятия.)
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. - Я приговариваю её к повешению.
ШЕВАЛЬЕ. - Разрезать, как в Китае, на восемьдесят тысяч кусочков.
ОГЮСТЭН. - А я бы её просто заживо сломал надвое.
ЭЖЕНИ. - Тело моей красивенькой матушки нашпигую серными фитилями и подожгу их один за другим. (Круг размыкается.)
ДОЛЬМАНСЕ, (хладнокровно.) - Хорошо, друзья мои. Будучи вашим руководителем и наставником, я смягчу приговор. Но отличие, которое обнаружится между моим приговором и тем, что требовали вы, будет заключаться в том, что ваши приговоры напоминают злые шутки, тогда как мой будет больше похож на плутовство. Я привёл слугу, который ждёт у дома. У него восхитительный член, подобного которому не найти в Природе. Однако из него сочится болезнь, ибо его пожирает одна из наиболее ужасных форм сифилиса, где-либо виданных. Я позову его, и мы устроим совокупление - он впрыснет свой яд в два естественных канала, которые украшают эту милую и любезную даму. В результате этого, в течение всего воздействия этой жестокой болезни, блядь будет помнить, что нельзя беспокоить дочь, когда та ебётся. (Все аплодируют. Вводят слугу, Дольмансе обращается к нему.) Ляпьерр, выеби эту женщину. Она в прекрасном здравии, и это развлечение, быть может, излечит тебя. По меньшей мере, это может стать прецедентом чудесного излечения.
ЛЯПЬЕРР. - Прямо перед всеми, сударь?
ДОЛЬМАНСЕ. - Ты что, боишься показать нам свой хуй?
ЛЯПЬЕРР. - Господи, конечно, нет! Он у меня очень красивый... За дело, сударыня, соблаговолите, подготовиться...
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. - О Боже, какое страшное проклятие!
ЭЖЕНИ. - Это лучше, чем умереть, матушка, уж по крайней мере, я поношу летом свои красивые платьица.