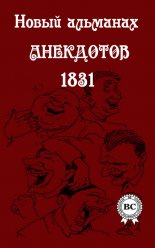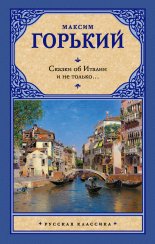Времена не выбирают… Кушнер Александр

И тень забытого поэта!
Я собирался много раз,
Но дождь, дела и поздний час,
Я мрачен, он нерасположен.
И вот я слышу: умер он.
Визит мой точно отменен.
И кто мне скажет, что отложен?
«Зачем Ван Гог вихреобразный…»
Зачем Ван Гог вихреобразный
Томит меня точкой неясной?
Как желт его автопортрет!
Перевязав больное ухо,
В зеленой куртке, как старуха,
Зачем глядит он мне вослед?
Зачем в кафе его полночном
Стоит лакей с лицом порочным?
Блестит бильярд без игроков?
Зачем тяжелый стул поставлен
Так, что навек покой отравлен,
Ждешь слез и стука башмаков?
Зачем он с ветром в крону дует?
Зачем он доктора рисует
С нелепой веточкой в руке?
Куда в косом его пейзаже
Без седока и без поклажи
Спешит коляска налегке?
«Путешествие…»
Что-то мне волны лазурные снятся,
Катятся, ластятся, жмутся, теснятся,
Мчатся назад и в обход.
Нет, не привычное Черное море,
А миражи в незнакомом просторе,
Белый, как соль, пароход.
Плыть? Но куда? На огней вереницу.
В Геную, Падую, Специю, Ниццу.
Что там, не видно ль земли?
Странно: в глаза не глядят мне матросы.
Крепко натянуты мощные тросы.
Нет, не Везувий вдали.
Припоминаю, что был уже случай.
Мне отвечают: «Себя ты не мучай,
Детские страхи откинь».
Нет, не в Италии мы и не в Польше.
Что-то мне это не нравится больше:
Гладь не такая и синь.
Так Баратынский с его пироскафом
Думал увидеть, как мячик за шкафом,
Влажный Элизий земной,
Башни Ливурны, а ждал его тесный
Ящик дубовый, Элизий небесный,
Серый кладбищенский зной.
«Читая шинельную оду…»
Читая шинельную оду
О свойствах огромной страны,
Меняющей быт и погоду
Раз сто до китайской стены,
Представил я реки, речушки,
Пустыни и Берингов лед —
Всё то, что зовется: от Кушки
До Карских студеных Ворот.
Как много от слова до слова
Пространства, тоски и судьбы!
Как ветра и снега от Львова
До Обской холодной губы.
Так вот что стоит за плечами
И дышит в затылок, как зверь,
Когда ледяными ночами
Не спишь и косишься на дверь.
Большая удача – родиться
В такой беспримерной стране.
Воистину есть чем гордиться,
Вперяясь в просторы в окне.
Но силы нужны и отвага
Сидеть под таким сквозняком!
И вся-то защита – бумага
Да лампа над тесным столом.
Буквы
В латинском шрифте, видим мы,
Сказались римские холмы
И средиземных волн барашки,
Игра чешуек и колец.
Как бы ползут стада овец,
Пастух вино сосет из фляжки.
Зато грузинский алфавит
На черенки мечом разбит
Иль сам упал с высокой полки.
Чуть дрогнет утренний туман —
Илья, Паоло, Тициан
Сбирают круглые осколки.
А в русских буквах «же» и «ша»
Живет размашисто душа,
Метет метель, шумя и пенясь.
В кафтане бойкий ямщичок,
Удал, хмелен и краснощек,
Лошадкой правит, подбоченясь.
А вот немецкая печать,
Так трудно буквы различать,
Как будто марбургские крыши.
Густая готика строки.
Ночные окрики, шаги.
Не разбудить бы! Тише! тише!
Летит еврейское письмо.
Куда? – Не ведает само,
Слова написаны, как ноты.
Скорее скрипочку хватай,
К щеке платочек прижимай,
Не плачь, играй… Ну что ты? Что ты?
«И если в ад я попаду…»
И если в ад я попаду,
Есть наказание в аду
И для меня: не лед, не пламя!
Мгновенья те, когда я мог
Рискнуть, но стыл и тер висок,
Опять пройдут перед глазами.
Всё счастье, сколько упустил,
В саду, в лесу и у перил,
В пути, в гостях и темном море…
Есть казнь в аду таким, как я:
То рай прошедшего житья,
Тоска о смертном недоборе.
«Вот сижу на шатком стуле…»
Вот сижу на шатком стуле
В тесной комнате моей,
Пью вино напареули,
Что осталось от гостей.
Мы печальны – что причиной?
Нас не любят – кто так строг.
Всей спиною за гардиной
Белый чувствую снежок.
На подходе зимний праздник,
Хвоя, вата, серпантин.
С каждым годом всё прекрасней
Снег и запах легких вин.
И любовь от повторенья
Не тускнеет, просто в ней
Больше знанья и терпенья
И немыслимых вещей.
«Скатерть, радость, благодать!…»
Скатерть, радость, благодать!
За обедом с проволочкой
Под столом люблю сгибать
Край ее с машинной строчкой.
Боже мой! Еще живу!
Всё могу еще потрогать
И каемку, и канву,
И на стол поставить локоть!
Угол скатерти в горсти.
Даже если это слабость,
О бессмыслица, блести!
Не кончайся, скатерть, радость!
Семидесятые
«Эти вечные счеты, расчеты, долги…»
Эти вечные счеты, расчеты, долги
И подсчеты, подсчеты.
Испещренные цифрами черновики.
Наши гении, мученики, должники.
Рифмы, рядом – расходы.
То ли в карты играл? То ли в долг занимал?
Было пасмурно, осень.
Век железный – зато и презренный металл.
Или рощу сажал и считал, и считал,
Сколько высадил елей и сосен?
Эта жизнь так нелепо и быстро течет!
Покажи, от чего начинать нам отсчет,
Чтоб не сделать ошибки?
Стих от прозы не бегает, наоборот!
Свет осенний и зыбкий.
Под высокими окнами, бурей гоним,
Мчится клен, и высоко взлетают над ним
Медных листьев тройчатки.
К этим сотням и тысячам круглым твоим
Приплюсуем десятки.
Снова дикая кошка бежит по пятам,
Приближается время платить по счетам,
Всё страшней ее взгляды:
Забегает вперед, прижимает к кустам —
И не будет пощады.
Всё равно эта жизнь и в конце хороша,
И в долгах, и в слезах, потому что свежа!
И послушная рифма,
Выбегая на зов, и легка, как душа,
И точна, точно цифра!
«У меня зазвонил телефон…»
У меня зазвонил телефон.
То не слон говорил. Что за стон!
Что за буря и плач? И гудки?
И щелчки, и звонки. Что за тон!
Я сказал: «Ничего не слыхать».
И в ответ застонало опять,
Загудело опять, и едва
Долетали до слуха слова:
«Вам звонят из Уфы». – Перерыв.
«Плохо слышно, увы». – Перерыв.
«Все архивы Уфы перерыв,
Не нашли мы, а вы?» – Перерыв.
«Все труды таковы, – говорю. —
С кем, простите, сейчас говорю?»
«Нет, простите, с кем мы говорим?
В прошлый раз говорили с другим!»
Кто-то в черную трубку дышал.