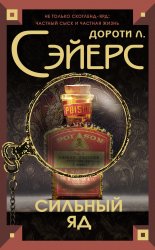Парфетки и мовешки Лассунская-Наркович Татьяна

Глава I
Медамочки, она дерется!
— Ее сиятельство княгиня Чапская просит пожаловать, — торжественно произнес важный институтский швейцар, широко распахивая двери в маленькую приемную начальницы.
— «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его», — прошептала нянюшка Викентьевна и поспешно взяла за руку свою питомицу, чернобровую, смуглолицую Ганю Савченко.
Девочка робко прижалась к своей нянюшке, и обе не без страха переступили порог приемной.
— Approchez-vous, mon enfant [1], — услышала Ганя слова, произнесенные на непонятном ей языке, и как вкопанная остановилась, крепко ухватившись за руку Викентьевны и с любопытством вглядываясь в пухлое лицо начальницы.
— Подойди ближе, — уже по-русски проговорила та, не без удивления рассматривая своих посетительниц.
Викентьевна, успевшая проникнуться особым уважением к княжескому титулу начальницы, отвесила низкий поклон и слегка подтолкнула к ней Ганю.
«А и хорошее здесь, видно, житье… Ишь как она, голубушка моя, с казенных-то хлебов распухла, — подумала няня о начальнице, — авось и Ганюшку мою голодом не заморят».
— Как твоя фамилия? — холодно обратилась maman [2] к оторопевшей девочке.
— Савченко, — робко проговорила Ганя.
— А-а… — протянула начальница, как бы вспоминая что-то.
— Так точно, Савченко фамилия моей барышни, — неожиданно вмешалась в разговор Викентьевна: от нее не ускользнуло смущение Гани, и она поспешила ей на помощь.
Княгиня недовольно покосилась в сторону «прислуги» и снова обратилась к девочке:
— От чего тебя не привез в институт кто-либо из родных?
— Папа на маневрах, а больше некому.
— Сиротка наша Ганюшка-то по матери будет, — ввернула свое объяснение Викентьевна.
— Какое странное имя — Ганя, — в недоумении протянула maman.
— Анною крестили-то… В честь покойной, значит, нашей барыни, — проговорила Викентьевна, не замечая брезгливой гримасы, вновь скользнувшей по лицу княгини: начальница была возмущена словоохотливостью нянюшки, поведение которой казалось ей непочтительным и даже фамильярным.
Но Викентьевна в простоте своей доброй, любящей души и не подозревала о неприятном впечатлении, которое она невольно производила на княгиню. Она была исполнена желания расположить начальницу к своей ненаглядной Ганюшке и потому дрогнувшим от волнения голосом продолжала:
— Души не чаяла покойница в дочке… И то сказать: единственное дитя… Как не любить-то было, не баловать… И не думал никто, что приведет Господь Ганюшку в чужих людях воспитать… А что поделаешь-то?… Как и воспитать-то отцу дитя без матери?… Сам-то день-деньской на службе, почитай и домой-то не заглядывает… А дитя-то растет… Уму-разуму учить пора… Еще Бога надо благодарить, что дядюшка-то нашей покойницы устроил Ганюшку сюда, в благородное, значит, заведение… Авось Бог-то даст, и хорошо ей здесь будет… Да и вы, матушка княгинюшка, не оставьте сироту своей ласкою, вас Господь за это вознаградит, — со слезами закончила Викентьевна и снова отвесила глубокий поклон.
— Хорошо, хорошо, моя милая, — устало проговорила maman, которую утомил этот разговор, и она с нетерпением поглядывала на дверь, как бы поджидая кого-то.
На пороге показалась приземистая старуха в форменном синем платье, с большим чепцом на седой голове.
— М-lle [3] Струкова! — обратилась к ней начальница: — Отведите, пожалуйста, Савченко в класс. Ну а вы, моя милая, можете теперь возвратиться домой, — кивнула она в сторону Викентьевны, давая той понять, что ей следует немедленно удалиться.
Викентьевна поняла и это движение, и то, что с этой минуты не нужна она будет своей любимице так, как была нужна долгие годы, когда заменяла ей родную мать. И словно что-то надорвалось в ее любящем сердце, от которого отнимали самое дорогое, что было на свете у этой простой, доброй женщины. И слезы, которые она с трудом сдерживала, вдруг вырвались горьким рыданием.
Викентьевна осыпала Ганю горячими, порывистыми ласками, крестила ее мелким, дрожащим крестом и, беспрестанно повторяя: «Ну, Христос с тобой, Христос с тобой!» — словно не могла оторваться от девочки, уткнувшейся ей в плечо и тоже громко, безутешно рыдавшей.
— Няня, возьми, возьми меня с собой, не хочу я здесь оставаться! — выкрикивала Ганя.
— Ш-ш… Господь с тобой, как это можно? — испуганно зашептала старуха. — А папа-то что скажет?… Что ты ему обещала?…
— Не хочу я здесь жить, не хочу! — упрямо кричала девочка.
— Перестань капризничать и не кричи! Здесь это не разрешается, ты это запомни, — строго проговорила начальница и направилась к выходу.
Струкова резко схватила Ганю за руку:
— Чего ревешь? — проворчала она. — А вы, нянюшка, идите-ка домой, а то слезами да причитаниями вы только расстраиваете девочку, — и с этими словами она поспешно вывела Ганю из приемной.
Викентьевна еще раз перекрестила вслед удалявшуюся любимицу и понуро двинулась домой.
А Ганя вдруг затихла; она не без любопытства озиралась по сторонам. Пройдя длинный классный коридор с множеством белых дверей, они вошли в просторную комнату, где двигались и шумели девочки в казенных форменных платьях. Только в стороне пугливо жались такие же новенькие, как Ганя.
— Вот вам новая подруга, — обратилась к девочкам Струкова и указала на Ганю. — Не шумите да не ссорьтесь, я сейчас вернусь, — и она поспешила из класса.
— Как твоя фамилия?
— Как тебя зовут?
— Сколько тебе лет?…
Вопросы любопытных, окруживших Ганю, так и сыпались.
Но прежде чем она успела ответить хоть на один из них, перед ней очутилась некрасивая большеголовая воспитанница с дерзким, неприятным лицом.
Она бесцеремонно протиснулась вперед и с нескрываемым любопытством разглядывала Ганю, задавая ей обычные в таких случаях вопросы.
Эта девочка не понравилась Гане, и она неохотно отвечала на ее расспросы, казавшиеся ей назойливыми. Эта девочка, Зина Исаева, или «Исайка-размахайка», как прозвали ее за резкость манер и движений, не пользовалась симпатией воспитанниц. Она была второгодницей в седьмом классе и старалась извлечь из своего положения все возможные преимущества.
Исаева любила «налететь» на новенькую, огорошить и высмеять ее перед другими, а слезы обиженной девочки не только не трогали сердца Исайки, но как бы льстили ее ложному самолюбию; она старалась внушить запуганным детям страх и уважение к себе.
Савченко с первого слова не понравилась Исаевой. От ее наблюдательности не ускользнуло, что новенькая с каким-то предубеждением смотрит на нее, и обе девочки враждебно насторожились.
«У-у, противная какая! И говорит-то как свысока, точно важная особа», — подумала Ганя, исподлобья разглядывая Исаеву.
А та, в свою очередь, успела мысленно причислить ее к «непокорным», и тут же решила «осадить» подозрительную новенькую. Для этого ей нужно было задеть самолюбие Савченко, а затем высмеять ее перед всем классом.
Ганя нехотя отвечала на ее расспросы, но в ней уже заговорило раздражение избалованного ребенка, не признававшего ничьей воли, кроме собственной.
«Что я, должна, что ли, отвечать этому “головастику”? — сердито думала она. — А вот не буду, не хочу!..»
Исаева заметила, что новенькая «завелась». «Тем лучше», — порадовалась она, предвкушая близость поражения своего нового врага.
— Тебя в какой класс приготовили?… — насмешливо приставала она к Савченко.
— Ни в какой, — сердито буркнула Ганя и резко отвернулась от Исаевой, давая той понять, что ей неприятен и нежелателен дальнейший разговор.
— Ха-ха-ха!.. — неожиданно услышала она за спиной. — Медамочки [4], вы слышали? Новенькую-то ни в какой класс не подготовили… Ха-ха-ха, такая громадная и вдруг, вообразите, приготовишка!.. Ха-ха-ха! Приготовишка, мокрые штанишки!..
Но ей не удалось повторить своей насмешки — Ганя повернулась к ней лицом:
— Ну, что до мокрых штанишек касается, то это еще вопрос, а вот что у тебя глаза будут мокрыми, так это я тебе обещаю, попробуй только повторить твою глупую дразнилку!.. — и Ганя потрясла в воздухе крепко сжатым кулачком.
Весь вид Савченко говорил о здоровье и физической силе, а пылавшие гневом глаза не предвещали ничего доброго.
— Ай, медамочки, она дерется! — испуганно взвизгнула Исаева и со всех ног бросилась из класса. Но на пороге она налетела на входившую в двери Струкову и чуть не сбила ее с ног.
— И куда только тебя несет?… — рассердилась старуха.
— Я, m-lle Струкова, за вами! Новенькая, m-lle, дерется, ей богу, m-lle, она на меня с кулаками бросилась, я насилу убежала! Ой, боюсь ее! — и Исаева состроила испуганную физиономию.
— Какая новенькая? Кто дерется? Ничего я в толк не возьму, да и не врешь ли ты? С тебя станется, — воспитательница недоверчиво покачала головой.
— Вот вам крест: не вру, весь класс видел, как на меня эта самая Савченка, что вы только что привели, с кулаками набросилась, я еле убежала от нее, — торопливо выкрикивала Исаева.
— Подойди-ка ты сюда, как тебя, Савченко, что ли, зовут? — Струкова подозвала Ганю. — Ты чего это дерешься, а?
— Я не дралась, — спокойно глядя ей в глаза, ответила девочка.
— Как не дралась? Слышала, что про тебя Исаева говорит? Что ж ты, отпираться будешь?…
— Я не дралась, эта девочка говорит вам неправду.
— Это ты врешь, ты! — завизжала Исаева. — Слышите, медамочки, она еще и отпирается…
— Новенькая не лжет.
— Исаева ее дразнила, а новенькая ей только пригрозила.
— Исаеву никто не тронул. Исаева ябедница, врунья, — раздались возмущенные голоса девочек.
Струкова нахмурилась.
— Подойди сюда, — обратилась она к Гане, — и расскажи, что ты тут натворила? Только помни, слово неправды услышу — строго накажу, — предупредила она.
— Я никогда не лгу! — гордо подняв голову, ответила Ганя, и в ее глазах засветилась обида.
«Ну, с этой повозиться придется: норовиста, сразу видать», — подумала Струкова, вглядываясь в задорное личико Гани с капризным изгибом черных бровей и большими пылающими глазами.
— Ну, говори же, — повторила она.
— Я все уже сказала, больше мне нечего добавить. Я не дралась, но если эта девочка тронет меня, я ее побью.
— Да ты с ума сошла! Кто это тебе здесь позволит! — возмутилась Струкова.
— А как же я буду защищаться? — в свою очередь удивилась Ганя.
— Если тебя кто обидит, ты должна прийти и сказать своей классной даме, а не драться, как уличный мальчишка.
— Я не буду жаловаться, — мрачно возразила Савченко; в ее голосе звучала непоколебимая решимость.
«Вот эта не выдаст, не подведет и не струсит», — думали окружающие девочки, прислушиваясь к разговору. Они с восторгом смотрели на смелую новенькую, не испугавшуюся ни Исаевой, ни институтской «грозы», как называли все крикливую старуху. Общая симпатия была на стороне Гани.
Струкова сразу уловила общее настроение и почувствовала, что с этим ребенком ей будет много хлопот. Из смелых ответов Гани она поняла, что придется иметь дело с открытой, честной, но упрямой натурой, с которой строгостью ничего не поделаешь, и поэтому сразу настроилась против новенькой.
«Надо немедленно поставить ее на место, а то еще своим примером других будет смущать», — подумала она и строго сказала:
— Ты у меня смотри, рукам воли не давай, а то плохо тебе, матушка моя, придется!
Ганя продолжала молча смотреть прямо в лицо старухе, и было что-то зловещее в выражении ее черных глаз.
Самолюбие девочки было больно задето, и со дна детской души поднималось незнакомое раньше чувство ненависти к обидчицам.
Глава II
Экзамен. — Викентьевна и Филат в роли педагогов
— Инспектор просит привести новеньких в Зеленый зал на экзамен, — подойдя к Струковой, проговорила высокая пепиньерка [5], m-lle Скворцова.
— Сейчас идем, — заторопилась старуха. — Ну, дети, собирайтесь, — обратилась она к новеньким.
У большинства девочек были испуганные лица; некоторые тихонько крестились, другие были готовы расплакаться от страха перед экзаменом.
Но Струкова не дала им времени опомниться. Быстро выровняв детей по росту, она поставила их попарно и, грузно выступая перед вереницей девочек, медленно спустилась в небольшой Зеленый зал.
Здесь все было приготовлено к экзамену: расставлены столы, классные доски, большие географические карты.
Учителя уже разместились за столами; пепиньерки озабоченно бегали от одного к другому, выполняя возложенные на них поручения.
Экзамен уже начался для девочек постарше, поступавших не в самый младший класс.
Едва Струкова со своими «малявками» появилась в дверях зала, как к ней предупредительно подлетела уже знакомая нам m-lle Скворцова, на помощь к которой поспешили еще несколько пепиньерок. Они быстро распределили девочек: кого на экзамен к батюшке, кого — к «немке», кого — к математичке, и так далее.
Ганю подвели к батюшке. Она с интересом разглядывала его доброе старческое лицо, обрамленное густыми, уже поседевшими волосами. Вслушивалась в его задушевный голос и невольно сравнивала его с «владыкой» своего родного приволжского городка.
Вместе с Викентьевной Ганя каждый праздник и каждый канун ходила в монастырь и, преодолевая усталость, выстаивала длинную архиерейскую службу. Внимательно вслушивалась она в заунывно-протяжное монастырское пение, и как-то спокойно становилось на ее детской душе. С замиранием сердца, поднявшись на цыпочки, чтобы лучше видеть, следила она за движениями архиерея, боясь пропустить хоть один важный момент богослужения. С волнением подходила она к руке владыки, после службы благословлявшего народ. Если случалось, архиерей возлагал свою руку на кудрявую головку Гани, и девочка вся трепетала от благоговейного восторга, охватывавшего ее в такие минуты.
Занятый службой, Савченко мало занимался воспитанием дочери, всецело предоставляя ее попечениям Викентьевны. А та души не чаяла в своей питомице, ходила за ней как мать родная, но, будучи неграмотной, мало чему могла научить свою любимицу.
Глубоко верующая и религиозная, она и Гане внушила те же чувства, а также научила ее молитвам и песнопениям, которых сама знала великое множество.
А долгими зимними вечерами, когда, случалось, отца не было дома, Ганя с Викентьевной забирались на кухню, где так уютно бывало сидеть, прижавшись друг к другу, и слушать монотонное чтение Филата — жития святых, Евангелие и Библию.
Филат служил когда-то денщиком еще у деда Гани, а после его смерти остался у капитана Савченко, исправляя должность повара и лакея.
Как и Викентьевна, Филат души не чаял в «сиротке», как часто называл он свою барышню. Старик ладил ей незатейливые игрушки, качал на коленях и пел ей песни своим надтреснутым голосом.
Он, играючи, научил девочку читать и писать. И, сидя на коленях Филата, Ганя усердно водила карандашом по обрывку серой бумаги, уцелевшей упаковки от крупы или муки. Но это не смущало ни Ганю, ни ее добродушного наставника, с восторгом наблюдавшего за успехами удивительно смышленого ребенка. Действительно, Ганя жадно, на лету, ловила скромные познания, которые мог дать ей Филат; все услышанное от старика глубоко западало в ее память.
Она научилась считать до тысячи; на пальцах бойко производила все четыре арифметических действия и быстро считала в уме. Девочка научилась бы и еще многому, но дальше не шли познания самого Филата…
С этими знаниями Ганя и явилась на экзамен, так как ее отец, решивший отдать девочку в институт, считал, что никакой подготовки для поступления туда Гане не нужно. «Все равно ее там по-своему переучат», — думал он, и был до известной степени прав в своих предположениях.
Ганя не чувствовала ни малейшего страха перед батюшкой. Дома никто не успел ей объяснить, что такое экзамен, и она не была запугана предстоящим испытанием. Ганя вслушивалась в ответ экзаменовавшейся перед нею девочки, которая, запинаясь, читала молитву, но вдруг растерянно остановилась.
— Ну-ка, подскажи соседке, — обращаясь к Гане, сказал священник.
Ганя спокойным, твердым голосом продолжила молитву и дочитала до конца.
— Хорошо, девочка, видать, что знаешь, — ободрил ее батюшка. — Как твоя фамилия-то? Савченко, говоришь? Ну так скажи мне, Савченко, еще и «Верую».
И снова Ганя отвечала, не чувствуя ни страха, ни волнения. По требованию батюшки рассказала она и о сотворении мира, и об изгнании Адама и Евы из рая. Батюшка внимательно прислушивался к ее ответу и одобрительно кивал головой.
— Молодец, и Закон знаешь хорошо, и отвечаешь толково. Ну, а скажи ты мне по совести, Боженьке-то усердно ли молишься?
— Молюсь, батюшка, — прямо глядя в глаза священнику, твердо ответила Ганя.
— А в церковь часто ли ходишь?
— Каждый праздник и под праздник.
— Вот за это хвалю, — ласково взглянув на новенькую, сказал батюшка. — Ну что же, тебя и держать дольше не буду, иди с Богом, — и быстрым движением руки вписал в экзаменационный листок крупное «12» [6].
Пепиньерка тотчас подскочила к Гане и повела ее к соседнему столу.
Костлявая, нервная учительница в очках раздраженно говорила стоявшей перед ней красной от волнения Соне Завадской:
— Ничего не знаешь, прямо поразительно, — она пожала плечами и с каким-то страданием в голосе добавила:
— Ну, скажи хоть, сколько будет пять да три.
— Девять, — подумав, робко ответила Завадская.
Учительницу так и передернуло:
— Ужасно, даже этого не знает!
И костлявая рука с размаху поставила «шестерку».
Ганя со страхом смотрела в морщинистое не по годам лицо m-lle Ершовой, или «Щуки», как называли ее институтки, часто прибавляя к этому прозвищу еще и «зубастая». Действительно, лицо Ершовой напоминало рыбу: узкое, длинное, с громадным ртом и с торчавшими как-то вперед зубами; белесоватые выпуклые глаза дополняли сходство. В институте ее не любили за раздражительность и боялись. Ничто так не выводило ее из себя, как если кто-либо из воспитанниц позволял себе крикнуть из-за угла: «Щука!»
Это прозвище приводило ее в ярость. С пылающими щеками она бросалась отыскивать виновную, которую, по близорукости, не успевала разглядеть в лицо. Но поиски обычно не помогали, девочка исчезала бесследно. Пробовала Ершова жаловаться классным дамам («классюхам» или «синявкам», как называли их между собой воспитанницы), но и те ничем не могли ей помочь: никакие увещевания и даже угрозы не действовали на институток. По правде говоря, даже институтское начальство не могло не согласиться с меткостью ее клички, и дамы между собой нередко сами называли Ершову «Щукой».
«Злая, наверное, ой, злая, — думала Ганя, следя за тем, как нервно подергивалось лицо Щуки. — Глаза-то у нее — точно из-за очков вперед выпрыгнуть хотят, а губы-то, губы какие тонкие, так и дрожат! Ох, даже страшно…»
— Три да семь, — неожиданно услышала Ганя обращенный к ней вопрос.
— Десять, — без запинки ответила девочка, быстро-быстро перебирая пальцами.
— Пять из девяти?
Пальчики Гани снова быстро задвигались.
— Четыре, — уверенно сказала она.
— Четыре-то четыре, а вот что это ты руками-то крутишь? Будто постоять спокойно не можешь, — сердито косясь на Ганю, проговорила Щука.
— Это я так считаю, — спокойно объяснила девочка.
— А-а, вот оно что! Так ты без пальцев и считать не умеешь? — насмешливо спросила учительница.
— Не умею, — чистосердечно созналась Савченко, — меня Филат иначе и не учил.
— Кто такой? Как ты сказала? — удивленно подняв на Ганю близорукие глаза, спросила Ершова.
— Филат, это наш денщик.
— Денщик? — в ужасе повторила Щука, и ее лицо изобразило брезгливость. — Что же это, тебя денщик в институт готовил? — ехидно заметила она.
— Никто не готовил, — пожав плечами, сказала девочка. Она не могла понять, почему на лице учительницы вдруг появилась такая кислая гримаса. — Папа говорил, что меня здесь всему научат, — добавила она.
— Филат так Филат, — неожиданно согласилась Ершова.
Ганя ей положительно понравилась: «Хорошая будет ученица, — подумала она, — видать, что способная и сообразительная, в приготовишках ей нечего делать». И, задав еще несколько вопросов, на которые Ганя удачно ответила, Щука поставила ей хорошую отметку.
— Ты говоришь, что папа не хотел готовить тебя в институт? А отчего же мама с тобой не позанималась? — неожиданно спросила она Ганю.
— У меня нет мамы, умерла давно, — дрогнувшим голосом ответила девочка.
— Ну а братишки, сестренки есть? — более мягким тоном продолжала Ершова свои расспросы. Она сама не могла бы объяснить, что влекло ее к новенькой и заставляло задавать необычные, как она в другом случае сказала бы сама себе, праздные вопросы.
— Никого нет, только папа один, — услышала она тихий ответ.
— Так тебе здесь и веселее будет, учись только хорошенько, — уже совсем ласково добавила Щука.
Пепиньерка подвела Ганю к немке. Когда выяснилось, что девочка совершенно не знает не только языков, но даже и латинской азбуки, толстая немка, в ужасе от ее невежества, закатила глаза и еще долго охала и вздыхала, осуждая родителей, не заботящихся об образовании детей. Зато русская учительница похвалила девочку за четкое, правильное чтение и недурно написанный диктант.
— Теперь ты свободна, и я отведу тебя к m-lle Струковой, — взяв Ганю за руку, сказала пепиньерка.
— А что, я провалилась в седьмой класс?
В эти минуты Ганя готова была дорого дать, только бы стать «седьмушкой» [7] — назло противной Исайке.
— Это еще неизвестно, все решится только на конференции.
— Конференция, конференция… — тихо повторила девочка. — А что это такое?
— Ты не знаешь, что такое конференция? — с каким-то состраданием глядя на Ганю, удивилась пепиньерка и тут же подумала: «Вот какой тупой, неразвитой ребенок! Не дай Бог, если меня назначат ее учительницей!» — Конференция, или совещание, это одно и то же, — усталым голосом пояснила она.
— И скоро будет эта самая конференция? — не унималась новенькая.
— После экзаменов.
Ганя открыла было рот, чтобы задать новый вопрос, но пепиньерка строго остановила ее:
— Никогда не лезь к старшим с расспросами. Это здесь не принято, это неприлично!
«За что она на меня рассердилась? Разве я сказала ей что-то обидное? Никогда никто не говорил мне того, что я сейчас от нее услышала. Напротив, и папа, и няня, и Филат — все, все объясняли мне то, чего я не понимала», — думала девочка. Она не могла понять, кто же прав: они, дорогие ее сердцу, никогда с ней строго не говорившие, или эта холодная, надменная пепиньерка?
Ганя не успела ответить себе на этот вопрос: они уже входили в классную комнату.
В тот же вечер она узнала, что принята в седьмой класс.
Глава III
Овцы и козлища. — Всех как одну. — Тайна переписки
От окна слышались громкие рыдания черненькой Акварелидзе, которую ловко и проворно стриг вертлявый парикмахер. На простыню, покрывавшую худенькие плечики девочки, падали длинные пряди иссиня-черных волос.
— Ну и чего ты ревешь? — сердито окликнула ее Струкова. — Что у тебя новых, что ли, не вырастет? Небось, еще лучше этих будут.
Но в ответ на это утешение девочка разрыдалась еще громче, и что-то безнадежное слышалось в детском плаче.
— Да что это, в самом деле, уймешься ли ты наконец? — Струкову раздражали плач и крики детей.
— Не извольте беспокоиться, сию минутку барышня будут готовы, — суетился парикмахер.
Он был очень доволен сегодняшним днем. Правда, за труды ему платили гроши, но в уме он подсчитывал, сколько получит от продажи длинных шелковистых кос его маленьких жертв: волосы поступали в его полную собственность. И, видимо, соображения его были очень приятными, так как он то и дело, улыбаясь, посматривал на груды разноцветных волос, лежавших на полу дортуара. Воображение рисовало ему прически, локоны и косы, которые он ловко создаст из этого дорогого материала; модницы заплатят ему за них хорошие деньги, в то время как обезображенные стрижкой девочки не раз всплакнут об утраченной естественной красе.
— Поплачут и утешатся, — говорил он себе в оправдание, вглядываясь в сразу подурневшее личико ребенка. Еще миг, и Акварелидзе поднялась со стула.
— Пожалуйте, барышня, вот вы и готовы! Взгляните в зеркало, ей-Богу, вам очень к лицу короткая стрижка, — уверял юркий парикмахер.
Девочка инстинктивно провела рукой по затылку. Вместо привычной толстой косы она нащупала остриженные в скобку волосы; голова показалась ей легкой, словно чужой. С громким рыданием бросилась она к подругам, ища у них сочувствия и утешения, а на ее место уже сажали следующего ребенка. Струкова то и дело окликала новеньких, порой оказывавших сопротивление; ее и без того всегда красные щеки пылали от гнева.
Почти все воспитанницы института проходили через ее руки, так как большинство девочек поступали в самый младший класс, где бессменно, уже в течение не одного десятка лет Струкова, или просто «Стружка», как называл ее весь институт, оставалась классной дамой. Резкая до грубости, она нисколько не считалась с маленькими, оторванными от семьи девочками, с трудом переносившими тяжесть разлуки с дорогими их сердцу родными и на первых порах совершенно терявшимися в непривычной обстановке, среди чужих, незнакомых людей.
Но, видно, Стружку не трогали красные, заплаканные глаза новеньких, и сердце ее оставалось равнодушным к детским страданиям. Она даже не пыталась отогреть их души ласковым словом участия, только строгими окриками старалась осушить наивные, горькие слезы. Вообще в ее задачи отнюдь не входило добиться любви и расположения вверенных ее попечению детей. Все ее старания сводились к тому, чтобы как можно скорее отшлифовать новеньких, то есть сгладить их своеобразие и особенности характера и по возможности подогнать под общий шаблон. И первое, что она предпринимала для этой цели, — стрижка детей, которая в значительной степени определяла однообразие их внешнего вида. И во всех этих маленьких девочках, остриженных в скобку, с гладкими черными гребенками на голове, в форменных зеленых «мундирах» с белыми рукавчиками, пелеринами и передниками трудно было узнать еще недавно кудрявых или длинноволосых Сонечку, Машеньку или Анечку. Теперь это были просто малявки, «седьмушки»; им предстояло надолго отвыкнуть от своих имен и стать Завадской, Липиной или Савченко…
В институте Стружку считали пристрастной и несправедливой, и это общее убеждение имело свои основания. Струкова зорко вглядывалась в свою юную паству и мысленно делила ее на «козлищ» и «овец».
«Овцами» она признавала хорошо воспитанных, сдержанных, а главное, тихих девочек, с которыми у нее не было ни хлопот, ни забот. Сюда же она причисляла и детей богатых родителей, большей частью проживавших в городе и следивших за воспитанием детей в институте; они часто вызывали Струкову и подолгу шепотом с ней беседовали.
«Овцы» пользовались различными поблажками, и во многом Струкова была к ним гораздо снисходительнее, чем к «козлищам». Последних она часто несправедливо притесняла, постоянно ставила им в пример «овец» и особенно донимала за шалости и проказы, на которые «козлища» были удивительно изобретательны. Они постоянно поражали Струкову смелостью замыслов и разнообразием своих затей.
«Козлищ» Струкова часто называла «наказанием Божьим» и карала их без суда, причем самым скорым и показательным образом. Бывали случаи, когда провинившаяся не на шутку «овца» попадала в разряд «козлищ», но не было ни одного примера обратного перехода.
Но, как ни странно, зачастую воспитанница, бывшая у Стружки на плохом счету, заслуживала самые лучшие отзывы от другой классной дамы. Редко сбывались и предсказания Струковой относительно будущих успехов девочек в учебе. Но тем не менее начальство почему-то именно к мнению Стружки прислушивалось особенно внимательно и всегда поступало сообразно ее советам. Немало способных, но шаловливых девочек, небрежно относившихся к учению, были названы ей бездарными и переведены в другой институт, где их, как неспособных к умственному развитию, обучали профессиональному труду. И не один ребенок впоследствии горько оплакивал злую судьбу, столкнувшую его со Стружкой, встреча с которой роковым образом исковеркала всю его дальнейшую жизнь.
— Ну, чего же ты? Видишь, твой черед идти стричься, чего дожидаешься-то? — вдруг сердито окликнула она Ганю.
— Не пойду, — угрюмо ответила девочка.
— Что-о? — в недоумении протянула классюха, как бы не доверяя собственным ушам.
— Не дам своих волос стричь! — упрямо повторила девочка, встряхивая густыми кудрями, рассыпавшимися по ее плечам.
— Да в уме ли ты? Кто это твоего позволения спрашивает? Скажите, пожалуйста, какая выискалась! — задыхаясь от гнева, выкрикивала Стружка. — Сию минуту ступай, и чтобы я голоса твоего не слышала!
Но Ганя не двинулась с места.
— Ну-у! — прикрикнула Стружка.
— Не пойду, — послышался тихий, но решительный ответ.
— Не пойдешь? А вот я тебе докажу, что ты пойдешь! — и старуха с силой дернула Ганю за руку.
И не успела девочка прийти в себя от неожиданности, как парикмахер уже подскочил к ней, что-то холодное коснулось ее шеи, захрустели волосы, и прядь темных кудрей упала к ее ногам.
— Ай, не троньте, не троньте меня, я все скажу папе! — в беспомощном отчаянии вырывалась девочка, в то время как неумолимая рука поспешно, вкривь и вкось стригла ее.
— Ах ты, змееныш ты этакий, еще грозиться смеет! — вне себя вскрикнула Струкова, но вдруг умолкла: в дортуар входила maman.
— Что случилось? В чем дело? — проговорила она своим обычным усталым, шипящим голосом.
— Да вот стричься не дается, прямо сладу нет.
И она указала на Ганю, которую все еще крепко держала за руку.
Maman пристально взглянула на девочку.
— Уже второй раз я присутствую при твоих капризах и вынуждена сделать тебе строгое замечание; помни, что если я еще раз услышу жалобу на твое дурное поведение, то отошлю тебя из института, — строго проговорила она.
Ганя стояла безмолвно, подавленная горем утраты своих чудесных волос. Казалось, она даже не слышала строгого выговора начальницы. А парикмахер, пользуясь тем, что девочка затихла, быстро подравнивал ей волосы, непокорно завивавшиеся на затылке.
— Так ты запомни, что я сказала, — внушительно добавила maman и тихо направилась к дверям.
А Ганя смотрела ей вслед, не вполне понимая, что говорила начальница и что именно так строго приказала ей запомнить.