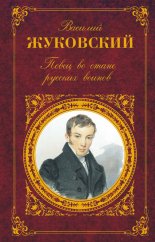Рождественские рассказы русских писателей Стрыгина Татьяна
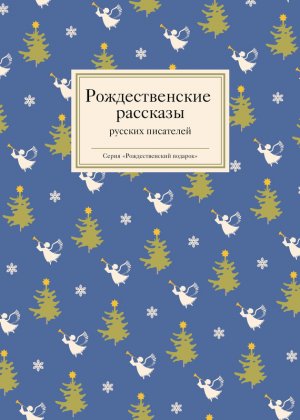
Но больше всего привлекала Ивана Иваныча в семью к Ипат Исаичу пятилетняя Анюша. Напоминала она ему его собственную Анюшу, а с ней и семью, и все, что потерял человек.
Тихо, пусто, мрачно стало все в душе Ивана Иваныча после смерти его девочки, точно в темном гробу у бобыля-покойника. И если бы в другое время случилась такая оказия, что Ипат Исаич обидел отказом в подарке, на который друг закадышный напрашивался, то все бы обошлось смехом да шуткой – а тут, на-поди, и разошлось, и расстроилось.
Как началось дело, как получил Ипат Исаич первый вызов от уездного бузулукского суда, так он глазам не верил, а с Марфой Парфеновной чуть даже удар не сделался.
Съездил Ипат Исаич в Бузулук и узнал, что почти вся его вотчина к соседу отошла, «так, мол, суд решил; можете, мол, подавать на апелляцию».
Пробовал Ипат Исаич и на апелляцию подавать и даже сам в Оренбург съездил, но ничего у него не вышло.
Тяжелое было это время для Ипат Исаича. И похудел, и поседел он, и даже думал Телепня на все четыре стороны отпустить, но Марфа Парфеновна упросила.
– Оставь, Ипаша, что в самом деле, есть еще кусок хлеба, с голоду не помрем, а парню деваться некуда.
Пережил этот лихой год Ипат Исаич с семьей и потихоньку помирился с своей участью.
IV
Прошел после этого еще год. Ипат Исаич и вся семья и все домашние совсем вошли в колею новой жизни и всю беду забыли.
– Мама! – спрашивает иногда Нюша. – А когда к нам опять приедет дядя Иваша?
– Никогда, Нюша, не приедет, никогда, моя ясочка бисерная. Дядя Иваша злой. Он у нас всю землю оттягал. Никогда он не приедет.
– Нет! Он добрый, и надо ему только сказать, мамочка. И я ему скажу. И он всю землю нам опять отдаст.
– Да! Как бы не отдал, держи карман!
– Отдаст!
– Не отдаст, конопляночка!
– Нет! Отдаст, мамочик.
И Нюша твердо была уверена, что дядя Иваша отдаст им опять землю. Да и как же было ей не верить в силу своего слова, когда дядя Иваша, в угоду ей, сам, бывало, превращался в дитя малое. Он с ней в куклы играет. Он ее на четвереньках возит. Он ее по всему саду на тележке катает. Бежит на своих длинных ногах, точно журавль, а Ипат Исаич на балконе стоит – помирает – хохочет.
У Нюши полон угол игрушек, и все ей дядя Иваша подарил, – кукол нарядных, лошадок всяких, баранов, козлов, медведей, гусей, петухов… чего хочешь, того просишь.
Как же ей было не верить, что он и землю назад отдаст? «Он только пошутил, – думает она, – а папа с мамой думают, что он и взаправду отнял».
Рождественским постом вдруг узнает Ипат Исаич из Бузулука, что на него опять иск подан. Был у него один сват и старый приятель в судейском приказе, которому он к каждому большому празднику посылал кур, индюков, гусей и тушу свиную. «Должен известить я вас, сватушка, – писал приятель, – что снова на вас взводят неприятности. Опять ваш злодей на вас поднялся и просьбу подал о том, будто ваша усадьба на его дедовской вотчине выстроена, и планы и свидетелей тому представил. А за куры и индюки и протчую живность низко кланяюсь моему сватушке и милостивой государыне Марфе Парфеновне…»
Не дочитал до конца Ипат Исаич. Кровь у него в голову ударила, потемнело в глазах. Послали в ближнее село к богатому помещику Криленкову за цирульником и кровь метнули.
Целый вечер все в доме ахали, да вздыхали, даже Нюша плакала и почти совсем решила, что «дядя Ивашка злой, волк ненасытый!».
А Рождество между тем приближалось. До Христова праздника оставалось всего пять дней.
V
Приходит Нюша вечером к Марфе Парфеновне.
– Мамочка! – говорит. – Ведь дядя Иваша рассердился за то, что папа ему барана не подарил.
– Кто это тебе сказал?! – допросила Марфа Парфеновна.
– Мне Эпихашка это сказала… Ну! слушай, мамочка… Пусть папа этого барана ему отдаст, а от меня вот ему еще барана. И она отдала картонного барана без рогов и в лоскутки его обернула.
– Ладно! – говорит Марфа Парфеновна в раздумьи, взяла и положила барана на подоконник, а сама думает:
«Разве и взаправду послать ему этого поганого барана, авось смилостивится… Ужели у него, прости Господи, души человечьей нет!!»
Пошла она к Ипату Исаичу. Долго они тихохонько шушукались, что решили – неизвестно, но после этого через два дня принялся Ипат Исаич письмо строчить.
Нашли лоскут синей бумаги. В чернильнице, вместо чернил, мухи оказались: подлили в нее горяченькой водицы, и получился бурый экстрактец. И вот этим экстрактцем Ипат Исаич настрочил письмо к соседушке. Целый день писал, – даже голова разболелась – и написал он следующее:
«Милостивый государь мой, батюшка-свет Иван Иванович, на что, государь мой, так немилосердно разгневаться изволили, что я вам в те поры барана не продал, находя оного барана себе необходимым.
Уповаем, что вы гнев свой на милость перемените, оного барана к вам с поклоном нижайше кланяемся и от нас с превеликим горем препровождаем. Примите, государь милостивый, и не лишите нас крова родительского, из коего мы на мороз лютый и убожество по грехам нашим изгнаны будем, а впрочем, остаемся, государь мой, вашего здоровья верные служители Ипат Туготыпкин. Месяца Декемвриа 24 дня. Жена Марфа Парфеновна, посылая вам поклон низкий, молит вас о том же, и младенец, дщерь Анна, также вам поклон шлет и от своего младенческого сердца барана игрушечного, коего вы ей пожаловали, с усердием и любовью посылает».
Написал письмо Ипат Исаич как раз в утро, в сочельник. Воском запечатал.
Мороз на дворе стоит здоровый. Кого, думает, с письмом послать? А конец не малый – двенадцать верных верст до усадьбы Ивана Иваныча. Думает: если послать мужика Гавлия или кучера Мамонта – все народ православный, хоть верхом пошлешь, а все прежде вечера не вернется, а тут праздник надо встречать. Как будто и грех христианскую душу посылать под великий Христов праздник.
И послали Телепня.
Посадили барана в мешок, а письмо положили за пазуху.
– Тащи баран к Иван… Кланяйся ему, баран отдай, письмо отдай… Понимаешь?!
– Лядна!
Снарядили, проводили, отправили.
Наступает рождественский вечер. Уже смеркаться стало. В большом доме Ивана Иваныча скучища непроходная. Ходит он по залам, на все лады зевает, ко всякой малости придирается. Всех людей своих расшугал. Экономка отправилась в село Троицкое, к заутрене. Один как есть бобыль остался в большом доме.
Ходит он, ходит и все думает: «Погоди же, ты, друг-приятель мой Ипат Исаич! Вот тебя на праздниках, как таракана, из избы на мороз выгонят и садик твой и домишко мне достанется. Не хотел ты, друг любезный, барана мне продать, так и хата твоя, и твой баран – все мне пойдет».
И от этой злой радости сердце у него трепещет и всю скуку долой гонит. Отхлынет злая радость, и вспомнит былое Иван Иванович.
Вспомнит он, как Ипат Исаич раз его из полыньи на Каме вытащил, от смерти лютой спас.
Вспомнит он, как он за ним и день и ночь ухаживал, от постели не отходил, когда он при смерти и в горячке лежал.
А тут мерещится ему, кстати, и покойница жена его Люба, и дочурочка Нюша, и вспомнит он другую Нюшу.
Вздохнет, глубоко вздохнет Иван Иванович, и все лицо его станет грустным да кротким.
Лег спать Иван Иванович, а сон не знай куда ушел. Возился, ворочался с боку на бок, переворачивался, и свечку гасил, и опять зажигал, огня высекал. Все не спится и что-то чудится.
И чудится ему, что какая-то птица, не то сова, не то филин – близко тут, за амбаром так жалобно пищит. Утихнет ненадолго и опять:
– Пи-ю-ю! Пи-ю-ю! Пи-ю-ю-ю!
Что такое за оказия?! Любопытство разобрало Иван Иваныча. Встал он, накинул тулупчик, валенки натянул, подпоясался ремешком и вышел во двор.
Звездная рождественская ночь, точно морозный шатер, раскинулась над спящей землей…
VI
А в это время у Ипат Исаича в доме не спали. Эпихашка все к празднику приготовила. Кучер Мамонт, Гаврюша и даже мужик Гавлий убрались, принарядились, чистые рубахи понадева-ли, скоромным маслом волосы примазали. Везде перед образами свечки и лампадочки зажгли и ждут не дождутся, когда на старинных часах Ипат Исаича стрелки полночь укажут.
А Ипат Исаич и Марфа Парфеновна не с радостью, а со страхом душевным ждут праздничка. Висит над их головами беда неминучая, и оба ждут не дождутся, что им принесет Телепень: горе или радость?
И Гавлий, и Мамонт, и Эпихашка то и дело выбегают за вороты: идет или нейдет «башкирско чучело»?
– Как же, дождешься его! – говорит Мамонт. – Давно к своим башкирам сбежал и барана стащил.
Но напрасно так они думают.
Только вошли они в избу, как немного погодя: скрип, скрип, скрип под оконцами. Выскочили, бегут: что такое?
Тащит Телепень скорехонько, тащит большой мешок.
– Чего такое приволок?!
– Батюшки! Никак ему киргизских овец надавали!
– И то, с курдюками!
И все бегут за ним в горницу; ввалились, заскрипели, – морозный пар клубами валит.
– Запирайте, – кричат, – двери-то! Все комнаты выстудили.
– Ну, где киргизски овцы? Кажи, «чучело»!
Телепень еле дышит, пыхтит. Пар от него, что из бани. Свалил он мешок на пол.
– Сичас… добри чиловек… годи мала-мала… вязать нет будем.
Развязал, распустил мешок. Из него показалась голова Ивана Иваныча!
Все ахнули, руками всплеснули.
Телепень вытащил Иван Иваныча, в тулупчике, и барана вытащил, рядом поставил.
– Вот тебе… добри чиловек… Иван тащил и баран тащил…
– Ах ты, идол некрещеный!
– Ах ты, бухар, азият… нехристь!
– Ахты, баран… дерево!..
И все кинулись к Иван Иванычу. Видят, что человек совсем обмерз. Слова не может сказать, только мычит, стонет и руками машет.
Повели его в угольную, уложили, шубами укутали. К рукам и ногам горячей золы приложили. Добрый стакан мятной в желудок впустили. Наконец, чаем с малиной отпоили, отпарили. Обогрелся, успокоился, уснул наконец Иван Иваныч.
Позвал Ипат Исаич остолопа башкирского. Насилу добудились его.
– Ах ты, богомерзкий истукан! Сказывай, зачем ты его притащил!.. Да не кричи! ни! ни!..
– Дюша моя!.. Сама говорил… Слушай Телепень: баран тащи, Иван тащи… Я Иван тащил, баран тащил… Чтоб тебе, дюша, весело был… Зачем бранишь?!
– Где же ты Ивана взял?
– А сам, дюша моя, ко мне пришел. Я его мала-мала манил… Угой (совой) кричал… Он ко мне шел… Я его маненька взял и мешкам клал.
– Зачем же я тебя, болвана сиволапого, с бараном-то послал?..
– А я думал… добри чиловек… Чтоб Иван один не скушна был… туда ему баран клал… Иван сидит, сидит… пищит мала-мала… Я говорю ему… годи… добри чиловек… У тебя баран есть… Баран сидит, сидит… кричит мала-мала… Я ему говорю… годи, баран, у тебя Иван есть…
– А письмо-то куда дел?
– Вот, дюша моя, и письмо… Нигде не ронял… Назад тащил… На его!
И вытащил Телепень письмо, смятое, размокшее от поту, и подал его Ипат Исаичу.
Прогнали спать Телепня; ахали, охали, дивовались, шептались и даже смеялись втихомолку и наконец все тоже спать полегли.
На другой день поднялись, когда уже ранняя обедня отошла.
Проснулся и Иван Иваныч, стал соображать, как он здесь очутился и как ему поступить в этом случае.
Должно заметить, что вчера он крепко перетрусил, когда Телепень сгреб его и засадил в мешок. Он думал, что его, раба Божья, сейчас же притащат к проруби и бух, прямо в озеро.
А утром очень уж обидно казалось ему, что его, как барана, насильно притащили.
В угловой комнате было тепло, приятно, на дворе солнышко светило, в углу перед образом тихим огоньком лампадочка теплилась. Хорошо было, отрадно; а досада и злоба все-таки нет-нет да и наплывут, накроют сердце темной тучей. И совсем уже он был готов рассердиться и потемнеть, как в это самое время дверь тихонько отворилась, вбежала Нюша и прямехонько бросилась к нему на шею.
– Здравствуй, дядя Иваша! Вот тебе мой баран. Я тебе его вчера послала, да дурень Телепень в мешок его положил… Слушай, дядя Иваша, ты моего папу, маму не обижай!.. Стыдно, грех тебе будет… Нас… нас… всех выгонят на улицу… жить нам негде будет… – И она расплакалась.
А дядя Иваша взял ее на руки и начал целовать. И Нюша плачет, и дядя Иван плачет.
И так ему легко, хорошо стало. Точно все прошло, и ничего не было, и старое опять вернулось во всей его старой прелести.
Вошли тихохонько Ипат Исаич и Марфа Парфеновна, вошли, оба молча низехонько поклонились.
А дядя Иваша подозвал их обоих, обнял и расцеловал.
И снова отдал Иван Иваныч, возвратил все, что оттягивал, и даже от собственной землицы степной целый клин подарил.
– Вот, мамочка, видишь, – говорит Нюша. – Я говорила тебе, что дядя Иваша только пошутил и все назад отдаст.
А вечером пришел Телепень и поклонился Ипат Исаичу.
– Прошшай!.. добри чиловек… домой иду.
– Как! Зачем? Куда!.. Домой…
– Ты меня все бранишь… Я тебе баран тащил… Иван тащил… А ты все бранишь…
И как ни уговаривали Телепня, – не остался.
– Да ты хоть подожди до утра, дурень! Куда, на ночь глядя, пойдешь?! Замерзнешь дорогой!
Но не остался Телепень и до утра. Ушел в свои края вольные, на простор лугов и ковыльных степей.
1895
Новый год
I
С Новым годом! С Новым годом! И все веселы и рады его рождению.
Он родился ровно в полночь! Когда старый год – седой, дряхлый стар и каш ка – укладывается спать в темный архив истории, тогда Новый год только, только что открывает свои младенческие глаза и на весь мир смотрит с улыбкой.
И все ему рады, веселы, счастливы и довольны. Все поздравляют друг друга, все говорят: «С Новым годом! С Новым годом!»
Он родится при громе музыки, при ярком свете ламп и канделябр. Пробки хлопают! Вино льется в бокалы, и всем весело, все чокаются бокалами и говорят:
– С Новым годом! С Новым годом!
А утром, когда румяное, морозное солнце Нового года заблестит миллионами бриллиантовых искорок на тротуарах, домах, лошадях, вывесках, деревьях, когда розовый нарядный дым полетит из всех труб, а розовый пар из всех морд и ртов, – тогда весь город засуетится, забегает. Заскрипят, покатятся кареты во все стороны, полетят санки, завизжат полозья на лощеном снегу. Все поедут, побегут друг к другу поздравлять с рождением Нового года.
Вот большая широкая улица! По тротуарам взад и вперед снует народ. Медленно, важно проходят теплые шубы с бобровыми воротниками. Бегут шинелишки и заплатанные пальтишки. Мерной, скорой поступью – в ногу: раз, два, раз, два – бегут, маршируют бравые солдатики.
Вот между народа бежит и старушоночка, а с ней трое деток. Старший сынок в маленьком обдерганном тулупчике без воротника и в протертых валенках бежит впереди, подпрыгивает, подплясывает и то и дело хватает за уши – бегут, бегут, скрип, скрип, скрип.
– Мороз лютой, погоняй, не стой!.. Бежим, матка, бежим!
– Бежим, касатик, бежим, родной. Мороз лютой, погоняй, не стой!.. Господи Иисусе! Бежим, Гришутка, бежим, лапушка!..
И Гришутка торопится, пыхтит, семенит ножонками. Скрип, скрип, скрип… От земли чуть видно. Шубка длинная, не по нем, но его поддерживает сестренка Груша. Поддерживает, а сама все жмется, ёжится. Похлопает, похлопает ручками в варежках и опять схватит Гришутку за ручку и – побежит, побежит!..
– Мороз лютой, погоняй, не стой!..
Но Гришутка не чувствует мороза. Ему тепло, ему жарко. Пар легким облачком вьется около его личика.
И весь он там, еще там, где они были назад тому с полчаса. В больших палатах, где большая, большая лестница уставлена вся статуями и цветами. Там швейцар с большими черными баками, весь в золотых галунах, в треугольной шляпе и с большою палкой.
Там живет сам «его превосходительство», и они ходили поздравлять его с Новым годом.
Каждый Новый год приходит Петровна с детками поздравлять его превосходительство, и каждый раз его превосходительство высылает ей три рубля за верную и усердную службу ее покойного мужа Михеича.
И на этот раз швейцар доложил – и через час выслали с лакеем новенькую, не согнутую трехрублевую бумажку.
Петровна поклонилась, поблагодарила, перекрестилась, дала швейцару двугривенный, на который он посмотрел искоса, подбросил на руке и затем с важностью опустил в жилетный карман.
Все время, пока они стояли в сенях у его превосходительства, Гришутка на все дивовался, все осматривал своими большими черными глазами и поминутно теребил мать за рукав.
– А это, мама, лестница? – лепечет он чуть слышно.
– Лестница, касатик, – шепчет мама.
– А куда она идет?
– Наверх, в комнаты.
– Они тоже большущие?
– Большущие, касатик, большущие.
– А на лестнице это сады рассажены?
– Сады, родименький, сады.
– А между ними что за куклы большущие, белые стоят?
– Это для красы, лапушка, для красы.
– А это что, вон там, светлое такое – большущее?
– Это зеркило, касатик, зеркило.
– А это, посреди, из чашки вверх бежит, это что такое, мамонька?
– Это фантал, касатик, фантал… А ты нишкни, лапушка, сейчас прийдут… Не хорошо болтать-то…
И Гришутка замолк, но не успокоился. Его черные глаза словно хотели проникнуть насквозь и ковер на лестнице, и медные прутья, которыми он был пристегнут, и лепку на сводах высоких пилястр, и грациозную фигурку сирены, поддерживающей чашу фонтана.
«Вот бы туда посмотреть! – думал он. – В те большущие комнаты, что наверху этой лестницы с куклами. Там, чай, каких чудес нет?..»
И он бежал дорогой и все придумывал, воображая – какие должны быть чудеса на этой большущей лестнице?
– Бежим, бежим, лапушка, замерзнешь, – торопила Груня.
И Гришутка инстинктивно бежал скоро, скоро, скоро. Скрип, скрип, скрип, скрип, скрип!..
II
Прибежали в иереулчишко, узенький, дрянненький, в двухэтажный серенький домишко и то на задний двор, чуть не в подвальный этаж; перед грязным, заплесканным крылечком целая гора намерзла грязных помоев. Скатились, точно в яму. Здравствуйте! Домой пришли.
– Холодно! Голодно!
– Погодите, ребятки, – говорит мать, – теперь у нас есть что поесть и чем погреться. Погодите, родненькие. Сейчас будем с Новым годом. Я духом слетаю, дровец куплю, того, сего.
И действительно, духом слетала. Только по дорожке, на самую чуточку-минуточку в питейный дом завернула и шкалик перепустила, – да тут же рядом в лавочке пряничков, орешков, леденчиков купила и три фунта колбасики вареной, да краюшку решотнаго, да полфунтика масла промерзлого – чтобы Новый год было масляно встречать.
– Ну! Пташечки-касаточки, вот вам! И того, и сего, и этого… Груня, клади, матка, живей дровец в печь! Насилу, насилу все-то дотащила.
И Груня положила дровец, растопила печку. Зажарили вареную колбасу в масле. Мать суетилась без отдыха. Груня и Вася помогали ей с усердием. Вскипятили самоварчик, достали с полочки чайник с отбитым носком, с трещинами, чашки полинялые и побурелые. Из сундука вынули сахар в жестяной коробочке и щепотку чаю, бережно завернутую в бумажку. Чай давно уже пахнул кожей и сеном. Впрочем, он и свежий был с тем же самым ароматом.
Только Гришутка не принимал участия в общей хлопотне. Он как сел у замерзлого окошечка, так и не отходил от него. Он хмурился и скоблил ледяные узоры на разбитых оконцах. Но, очевидно, машинально скоблил, а его душа и мечты находились там, там – в этих большущих сенях с мраморной лестницей, усаженной садами, уставленной большими куклами…
– Гришутка, касатик, дай скину красну рубашечку – да в сундучок спрячу – до праздника. А то, не ровен час, касатик, запачкаешь, упаси Господи!
– Нет, мама, я в ней останусь…
– Запачкаешь, мол, говорю, касатик. – И мать подходит к нему, обнимает и целует – в надежде, что касатик снимет драгоценную рубашечку из красного канауса и плисовые черные шаровары, подарок крестной матери; но касатик положительно возмущается…
– Отстань, мамонька! Говорю: не замай!.. От тебя вон водкой воняет…
– А это я для куражу, для праздничка, лапушка, выпила, – оправдывается мама, быстро вертя рукой около смеющегося, красного, истрескавшегося лица.
– Ну, ладно! Отстань, мамонька, я целый день буду в эвтом ходить, – вот что!
И мамонька отстала. «Пущай его, – думает она, – уснет младенец, я его, крошечку, раздену, а теперь пущай пощеголяет, душеньку для праздника потешит».
– На-ко, сахарный, леденчиков да пряничков! – предлагает она.
И сахарный машинально, задумчиво берет леденчики и прянички. Но, очевидно, думы его слаще ему леденчиков и пряничков.
Наелись, напились, – напраздничались. Пришли гости: кум, да сват, да свояченица, принесли гостинцев.
– С Новым годом, с новым счастьем. Дай Бог благополучно!..
Послали Ваню за полуштофом. Опять поставили самовар, и пошли чаи да россказни без конца и начала…
Наконец наговорились, разошлись по домам.
Стемнело. Гришутка припрятал пакет, что мать принесла с пряниками, и в нем с десяток пряничков и леденцов. Как ни тянуло его, он ни один не съел, все припрятал с пакетом, завернув его тщательно, и все держал за пазухой.
– Мамонька! – обратился Гришутка к матери, – а там, там, где мы были, – там долго спать не ложатся?..
– У его превосходительства?.. И-и, касатик медовой, ведь они баре, – сказала она шепотом. – У них ночь заместо дня. Мы давно уже спим, а они до вторых петухов будут сидеть.
– Что ж это они делают, мамонька?!
– А вот что, касатик. Седни вечером у них елка. Болыпущу, болыпущу таку елку поставят и всю ее разуберут всякими гостинцами, конспектами, да всю как есть свеченьками уставят. Страсть хорошо! А наверху, на самом верху звезда Христова горит… Таки прелести – что и рассказать нельзя. Вот они, значит, около этой елки все соберутся и пируют.
И Гришутка еще больше задумался. Большая елка, с Христовой звездой наверху, приняла в его детском все увеличивающем представлении сказочные, чудовищные размеры.
К вечеру матка стала совсем весела. Всех, и Ваню, и Груню, и Гришутку, заставляла плясать и сама прищелкивала и припевала:
- Уж я млада, млада сады садила,
- Ах! Я милого дружочка поджидала…
Наконец она совсем стала сонная. Ходила покачиваясь. Все прибирала. Разбила две чашки, расплакалась, свалилась и захрапела.
– Ну, – сказал Ваня сестре, – теперь матку до завтра не разбудишь. Пойдем за ворота поглазеем.
И они, накинув тулупчик и пальтишко, вышли за ворота.
Гришутка остался один.
В комнате совсем стемнело. Он присел около печки в угол, прислонился к ней и думал упорно все об одном и том же. Темная комната перед ним вся освещалась, горела огнями. Чудовищная елка вся убиралась невиданными дивами, и все ярче горела на ней звезда Христова. Наконец воображение устало. Гришутка зевнул, съежился, прислонился ловчее к печке и крепко заснул…
Долго, долго прогуляли Груша с Ваней: бегали на большую улицу, смотрели в окна магазинов, наконец вернулись, и целые клубы пара ворвались с ними в комнату. Он обхватил, разбудил Гришутку.
Весело перешептываясь и смеясь, дети разделись и спать улеглись, – а об Гришутке забыли.
Он тихонько привстал, потянулся. Подождал, пока брат и сестра заснули. Тихо, на цыпочках подошел он к своей шубке. Кое-как надел ее. Надел шапку, варежки, натянул валенки – и тихонько вышел, притворив дверь как мог плотнее.
Черная ночь обхватила его морозным воздухом. В переулке тускло мерцали фонари.
III
Он помнил только, что «его превосходительство» живет на улице, которая называется Большой Проточной, и что в эту улицу надо свернуть с Заречного проспекта.
Вышел он из переулочка на улицу и у первого попавшего «дядюшки» спросил – как ему пройти в Большую Проточную.
– Эх ты, малыш! – сказал дядюшка. – Как же ты эку даль пойдешь? Ступай до угла, а там поверни налево… И все прямо, прямо иди, все так-таки прямо все иди, иди по проспекту-то, а там спроси – укажут, чай, добры люди… Ах ты, малыш, малыш! Смотри через улицу не переходи! Задавят… Да тебя кто послал-то?!
– Никто, дядюшка, я сам, к его пливосходительству иду…
– Сам! – удивился дядюшка и долго смотрел вслед Гришутке, а он, подобрав шубку, бежал, бежал, как было указано. Пот давно уж капал с его раскрасневшегося личика. Он шатался. Ноги ему отказывались служить…
Наконец еле дыша, чуть не плача, подошел он к другому «дядюшке».
– Дяденька! Укажи мне, где Большая Проточная.
Дяденька поглядел на Гришутку, подумал. Нагнулся к нему.
– Считать умеешь?
– Нетути!..
– Нетути. Ну, вот что. Смотри, – и он растопырил пальцы. – Вот одна улица, другая, третья. И поверни ты в эту третью. Это и будет Большая Проточная… Понял?
– Понял! – прошептал Гришутка. – И с новыми силами, с новой бодростью в сердце побежал дальше.