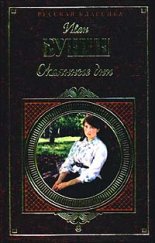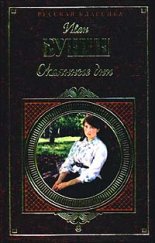Михайловский замок Форш Ольга

МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК
Глава первая
В 1798 году Наполеон мимоходом, направляясь в Египет, захватил остров Мальту. Несмотря на боевые запасы артиллерии, магистр Ордена сдался без всякого сопротивления и скрылся в Триест. Достоинство великого магистра предложено было русскому императору Павлу Первому. Мечтая о воскрешении древнего рыцарства, Павел не только принял предложение кавалеров Ордена, но дал приказ: «Повелеваем опубликовать о сем во всей империи нашей и новый титул внести в прочие титулы наши». Тотчас дана была аудиенция в Зимнем дворце депутации капитула Ордена, которая торжественно поднесла императору корону и регалии великого магистра. На Новый год Павел явился перед изумленными придворными в короне, супервесте и великолепной мантии и объявил, что впервые будут сожжены в Павловске в канун Иванова дня знаменитые костры Мальтийского ордена.
Преувеличенный восторг, с которым русский император отнесся к протекторату над Мальтийским орденом, вызвал в Европе насмешку, и с лукавой иронией записал аббат Жоржель: «Русский император, не принадлежащий к католической церкви, но исповедующий схизму Фотия, сделался гроссмейстером Ордена религиозного и военного, имеющего первым своим начальником папу. Император Павел поразил Европу».
Однако, кроме этой, забавной аббату, стороны дела, возникновение постоянных сношений с Мальтой было серьезным по своим последствиям расчетом Павла и продолжением умной политики Екатерины. Упрочив свое влияние на Мальте, Россия могла на Ближнем Востоке успешней бороться с Англией.
Накануне Иванова дня Павел ушел из дворца один в дальнюю прогулку. В конце липовой аллеи, на парадном плацу, уже сложены были в клетку и белели серебряной корой молодой березы девять костров; Гирлянды из редких оранжерейных цветов и прочие украшения плаца поручены были молодому ученику придворного живописца Бренны — Карлу Росси. Мать его была знаменитая прима-балерина, мадам Гертруда Росси, отчим — не менее знаменитый постановщик балетов Лепик, а настоящий отец его был неизвестен.
Император задумался, приближаясь в своей одинокой прогулке к любимой им Старой Сильвии. Было здесь безлюдно и не парадно. Под июньским солнцем особой свежестью пахли травы, еще не кошенные, блестевшие после недавнего дождя. На этих вот лужайках, бывало, отроком, в сопровождении любимого воспитателя Порошина, собирал он цветы и травы для гербария. Порошин, душой преданный, — был бы жив — охранял и сейчас…
Впрочем, к чему теперь охрана, если завтра ночью вспыхнут девять мальтийских костров? Иезуит патер Грубер, которому разрешено в любой час дня и ночи входить в императорскую спальню, сказал сегодня особо торжественно:
— Едва запылают девять костров во имя святого Иоанна, как охранительная стена, незримая глазу, будет воздвигнута вокруг вас, помазанника и духовного главы рыцарства всего мира.
Как всегда, в минуты, когда он верил всей душой в могущество охраняющих его сил, Павел вдруг освобождался от подозрений, страхи отступали от него, и он был счастлив тем простым счастьем, как в памятный день, когда царица-матушка подарила ему это сельцо — Павловское.
И, молодо оглянувшись вокруг голубыми глазами, прекрасными, когда не затемняло их безумие, отбросив докучные мысли, Павел с любопытствующим восхищением новичка, попавшего впервые в эти прелестные места, стал осматривать извилистые берега — веселой речки Славянки.
Двадцать лет тому назад Екатерина подарила ему зги земли, но полюбил их он много раньше. Сюда, в этот густой сосновый бор, когда здесь еще было всего два охотничьих домика, смешные Крик и Крак, спасался он, бывало, из Петербурга, оскорбляемый фаворитами.
…Все дальше шел Павел, любуясь цветущим своим парком. Вспоминал, как начинал разбивку его вдоль речки Славянки к старому шале и от него к мосту Крика. По модному английскому образцу вели посадку кустов, искусно пользуясь красивыми склонами речки. Давно забытая детская радость охватила, когда узнал места самых первых наивных построек: вот хижина монаха, трельяж, там беседка на китайский манер, и другая подальше — подражание Пиранези — построена в виде полуразрушенной башни-руины…
А какие были узорные цветники на многочисленных островках, какие шаловливые между островками каскады! Камерон давал указания на устройство просек. И хотя все, что напоминало царство и вкусы матушки, было непереносимо и наполовину уже уничтожено, Павел сейчас воздавал должное Камерону, вызывая в памяти им одним созданную особую легкость, изящество и прелесть планировки.
Когда под именем князей Северных он с женой путешествовал по Европе, построен был большой дворец, начата колоннада Аполлона, храм Дианы, большой каскад, вольер и дворцовая баня. Всё заботы ее, матушки-царицы.
Пока сын отсутствовал, Европы ради строила напоказ, чтобы крепко держалась молва об ее материнской заботе. О каждом пустяке писала своим друзьям заграницу, забрасывала их подарками, они же ее — хвалой. Всё для видимости… А скуповата была для истинных нужд семейных! Выписан был знаменитый Гонзаго для росписи дворца, а приехал — платежей нет. В необходимом, в белье и платье нуждались. Зато сейчас его время, его право.
Едва мать умерла шестого ноября, как уже двенадцатого император переименовал сельцо Павловское в город. И судорожно, с раздражением, стал по-своему переделывать парк: Славянку приказал запрудить, часть островов уничтожить…
Павел дошел до мыльни и Пиль-башни и присел на скамью.
Да, не тот теперь Павловск — подтянулся. А при матушке-то сколько фальшивого сентимента вызвал приказ его о прекращении нищенства? Правда, случился некий пересол — на цепь посадили одного инвалида… Так ведь не помер же он с того!
И с удовольствием Павел подумал о своих последних приказах директору парка: воспретить строжайше в парке свист, зряшные разговоры, непотребный хохот… не матушкин, чай, дом распутства. В городе Павловске пребывает он, самодержец, гроссмейстер Мальтийского ордена.
Впрочем, приличному веселью и он не препона: кавалькады, прогулки, завтраки в молочном домике, вечерний чай в шале. Но императору и отцу необходимо всегда знать, куда именно, надолго ли и зачем ушли от него его близкие. Придумал лотерею, чтобы прикрыть свою тайную подозрительную настороженность: вынимали как бы шутя билетики, куда именно идти сегодня, он же записывал.
Прогулки, им одобренные, были: в зверинец, в охотничью будку, по пограничной просеке и назад, по аглицкой дороге и через Звезду — семь верст. Самая длинная прогулка.
Любил, чтобы приходили назад точно, по часам. Все концы были выверены. Дышал спокойно, когда знал, что никуда зайти не могут, что некогда им пошушукаться — только и дела, что прошагать туда и обратно.
Вдруг Павел налился кровью, побагровел, сильней забилось сердце. Вспомнил, как недавно наткнулся на Александра, который записан был как ушедший на просеку. Александр с книжкой в руках сидел в беседке и в вытянутой руке держал большие карманные часы. На просеку он с прочими, видимо, не пошел, а сидел тут один и следил по часам, когда ему явиться к отцу.
Оттого что тогда сдержался и сына не обличил — тем тяжелее запомнил ему эту обиду.
Мысль о сыне повела в те места, которые с такой любовью украшала царица-матушка для любимца своего и — тайно мнила — наследника.
Павел двинулся к Александровской даче и с горечью думал: «Неужто матушка, столь разумная и в многих государственных случаях справедливая, не понимала, что, минуя отца для преимущества сына, она сеет в сердце моем страшные семена?»
Вот она — Александрова дача — воплощение сказки императрицыной о «розе без шипов и царевиче Хлоре», написанной для любимого внука.
Встали в памяти слова пиита:
- И отрок с самого начала,
- Когда рассудку мысль его внимала,
- Научится быть осторожным здесь…
Дом на крутом берегу, а в долине театр с золотым верхом. Недлинная аллея, обсаженная цветами, ведущая к дому, неожиданно обрывается, и восхищенному взору предстают раздолья полей и синева дальних лесов.
Павел не мог удержаться от зависти к сыну, когда попадал в царство его счастливого детства. Сколько внимания и нежности шло к внуку от той, которая обидно пренебрегала им, родным сыном. Таков ли был бы он сейчас, выпади ему в детстве жребий Александров?
«И отрок с самого начала… научится быть осторожным здесь». Да, осторожности Александр научился!
И вдруг неудержимо и больно пронзила сознание одна мысль — так огненная змейка, вновь возникшая на пожарище, которое, сдавалось, потушено, вырастает вмиг в злое пламя: Екатерина вовлекла Александра и Константина в постройку дворца. Ребята, забавляясь, клали фундамент. А что, если заложили туда и такое, что может взорваться? И оно взорвется?
Долго в оцепенении стоял, прислонясь к статуе Амура. В смертной тоске глядел, как Амур, на веки вечные обреченный натягивать лук свой, медленно розовел, словно оживал под лучами летнего солнца. Стоял неживой, пока совсем простая, здоровая мысль не пришла сама на выручку: да ведь дворец-то уже много лет тому назад строили, ребятишками сыновья были… Вздор это! Вздор и безумие! Сам дьявол взбудоражит вдруг подозрениями, спутает сроки, навеет бессмыслицу…
Павел пугливо оглянулся: не видал ли кто, не угадал ли его постыдные мысли? Вдруг посветлел и весело крикнул:
— Полкашка, сюда!
Стремглав летел к нему через кусты и тропинки большой лохматый пес. В собачьем восторге, что донюхался, где его хозяин, Полкан неистово прыгал, норовя лизнуть прямо в губы.
Ребячливо смеясь, Павел сам обнимал собаку, усаживал рядом с собой на скамейку. Полкан с сознанием исполненного долга высунул красный язык и спустил пышный хвост со скамьи.
Павел рассмеялся, вдруг что-то вспомнив, и сказал Полкану, доставая из кармана вчетверо сложенную бумажку:
— А ты, братец Полкан, — знаменитость. Адмиралы про тебя пишут. Вот послушай-ка…
И он стал читать собаке вслух то, что давеча дострочно списали из записок гостившего в Павловске адмирала Шишкова:
«Забавы наши в Павловске однообразны и скучны».
— Ну и поскучай, коли хочешь быть при дворе. Так, Полкашка?
«После обеда степенно, мерными шагами прогуливаемся по саду. После шести шествуем на беседу весьма утомительную. Государь с великими князьями садится рядом, мы подпираем стены, как безмолвные истуканы. Государь ведет с детьми сухие разговоры, мы же не смеем ни говорить между собой, ни вставать со стульев. На длинном шлейфе императрицы лежит всегда простая дворная собака».
— Это же ты, Полкашка! — мазнул Павел собаку листом по морде. — И простая и дворная, а мне сего адмирала милей.
«Неизвестно, откуда явилась сия собака. Но она не отстает от императора…»
— И не отставай, Полкан, охраняй меня!
«И скоро со всеми прочими сия собака стала предерзкая, государь может один ее гладить, и его она не кусает. Однажды она залаяла во время вахт-пара-да. Государь рассердился и крикнул: „Уберите ее от меня!“ Но она не далась никому на руки и просила прощенья, повалившись на спину, четыре лапы вверх, и махала хвостом, — он простил ее».
— А ведь и точно, было дело, — смеялся Павел. — Ну и дурак же этот Шишков, такое записывать! Как с ровней, с тобой, Полкашка, считается. Если бы римский безумец Калигула не произвел своего коня в сенаторы, я бы тебя, Полкан, пожаловал в адмиралы.
«Сия собака любит театр. Во время действия сидит в партере на задних ногах и смотрит на актеров, будто понимает их речи и действия».
— Донос на тебя, — веселился Павел. — Аи да адмирал Шишков! Завтра, на зависть ему, посажу тебя с собой рядом в ложу.
Павел спрятал бумажку в карман, решив еще посмеяться вечером вместе с Аннушкой Гагариной, и, веселый, пошел в сопровождении Полкана через мост, украшенный трофеями, к храму Цереры, рядом с которым высокой струей бил ключ, посвященный Марии Федоровне.
Император и пес напились студеной воды и, поднявшись на высокий холм, вошли в храм «Розы без шипов».
У храма был крутой купол на семи колоннах. Посреди алтарь, на нем ваза. В вазе прекрасная роза с гладким блестящим стеблем без единого шипа. На плафоне торжественная фреска: Петр с высоты небес смотрит на блаженствующую Россию — дородную женщину в сарафане. Она же, окруженная наукой и промышленностью, опирается на щит с изображением Фелицы. Внизу орел когтями разламывает рога луны.
Павел вспомнил, что граф Литта вручил ему статут Ордена, требующий неукоснительного выполнения всех правил, от чего крепла сила охраняющего действия ритуальных костров, которые зажгут завтра на парадном плацу. Он вынул записную книжку, посмотрел в который раз параграфы и сделанные к ним собственные отметки. Между прочим была и такая:
«Справиться у Винцента Бренны, кто истинный отец ученика Карла Росси? Если не дворянин, обладавший грамотой, восходящей к десяти предкам, личное присутствие одного Росси на сожжении костров допустить нельзя».
Кроме Росси, записаны были и другие.
Вдруг Полкан с веселым лаем кинулся со всех ног к небольшой открытой беседке, и Павел увидал там рисующим в альбоме того самого юношу, о котором только что думал.
Карл Росси так был охвачен своей работой, что, погладив мимоходом Полкана, даже не оглянулся на императора, хотя не мог не знать, что лохматый пес неотлучен при царе.
Павел большими шагами направился к беседке, он готов был разгневаться. Мария Федоровна, супруга, не нахвалится изяществом рисунков этого Росси, только по ним и режет свою слоновую кость, а намедни донесли, что в городе болтают — Михайловский-де замок воздвигается дарованием сего юного Карла, его учитель Бренна только проекты подписывает…
Тем более столь доблестному юнцу не след манкировать своему императору. Всем существом обязан он чувствовать его приближение.
Подойдя вплотную, Павел хлопнул Росси по спине. Тот, испуганный, вскочил:
— Ваше величество?..
— Хвалю, сударь, хвалю, — мгновенно смягчившись, скороговоркой проговорил Павел, — у вас чистый взгляд, чистый!
Росси недоумевающе смотрел на императора широко расставленными глазами, еще весь поглощенный своей работой.
— Дышать забываете, сударь, когда рисуете, — смеялся Павел, — не то что салютовать вовремя своему императору. А ну, покажите.
— Эскизы украшений для завтрашнего празднества, — протянул Росси альбом.
Он был очень молод, прекрасной внешности. Соразмерность частей его стройного тела давала впечатление особого изящества. Волосы вились, усиливая приветливость лица, глаза, светлые, с ярко отмеченным зрачком, доверчиво, не страшась, смотрели в глаза императора.
— Ваши рисунки отменного качества, сударь. А известно ли вам символическое содержание завтрашнего таинства костров?
Павлу отрадно было думать, что никакой задней, скрываемой мысли у этого юноши нет, он полон одним беззаветным увлечением своим искусством. И горько мелькнуло: «Вот такого б мне сына… такому б я верил».
Полуобняв Росси, облизанного мохнатым Полканом, Павел пошел с ним обратно к Большому дворцу. Дорогой он давал Карлу последние указания, как надлежит распределить гирлянды и венки, какую постепенность требует сожжение костров и фейерверка. Подойдя к плацу, где сейчас производилось учение, Павел нахмурился, заложил руки за спину, что всегда у него было началом гнева. Вдруг он оттолкнул Полкана и один проскочил далеко вперед, бросив Росси. Ему показалось, что сын Александр, командовавший марширующими гатчинцами, потушил мгновенную усмешку, увидя отца с молодым архитектором. К тому же и гарнизон шагал не по артикулу. Хотя это были любимые гатчинцы, под командою Александра они с неряшеством, неточно печатали шаг.
Вмиг рассердившись на сына, на гатчинцев и неимоверным усилием воли сдержав этот гнев, Павел круто повернулся к оторопевшему Росси и неприятным, повизгивающим голосом прокричал ему:
— О вашем происхождении, сударь, не имею чести знать в точности! Матушка ваша — прима-балерина, вотчим — Лепик, ну-с, а, собственно, родной ваш батюшка кто будет?
Павел попал в больное место. Росси покраснел до слез, однако, не теряя достоинства, отчетливо вымолвил:
— Я не знаю сам, ваше величество, кто мой родной отец.
Опять юноша стал приятен.
— Бы-ва-ет… — с мягкой насмешкой протянул Павел, вспомнив, как сам немало страдал от пересудов досужих придворных, что он не сын Петра Третьего, а всего-навсего Сергея Салтыкова.
— Учителю вашему, Бренне, передайте, что прожекты я ваши одобрил. А точные сведения об отце — добыть от матери и представить мне наутро.
Павел, стуча каблуками, держа за ошейник Полкана, зашагал быстро к дворцу, а Карл Росси, потрясенный происшедшим, избегая ненужных встреч, пошел темными аллеями на почтовый двор.
Тройка отличных коней быстро домчала Карла до города. Он взял ялик и, перед тем как увидеться с матерью в театре, поехал кататься по Неве. Как спасательный круг утопающему, чтобы выбраться из за-, хлестнувшей пучины, необходимо Карлу в хватившей его лютой тоске убедиться, что все так же незыблем вознесенный над Невой монумент Фальконета, все так же великолепны творения Растрелли, усыпанные украшениями, залитые золотом, дремотно мерцающие под нежным, нежарким северным солнцем.
Карл мысленно вызвал в памяти своей и то, чего сейчас не было перед глазами: вот усилием воли, под мерный плеск весел, перенесся он в здание изящного Камерона, и тотчас знакомой утешающей лаской коснулось его разбитых чувств это ожившее в новой форме чудесное искусство древней Помпеи. От Камероновой галереи перешел он мыслями к строгим, величественным колоннадам Кваренги, этой души воскрешенного Рима, и ему стало легче, отпустили горечь и боль.
Эти воображаемые, мгновенные, по желанию вызванные путешествия по творениям великих мастеров зодчества были ему привычны с детства, как его сверстникам слова молитв. В минуту душевного упадка они просто спасали. Выхватывали по волшебству из тяжелой действительности и, как на ковре-самолете, вмиг переносили в область навеки незыблемого и прекрасного.
Яличник налег на весла, и Карл погрузился в бездумный отдых, глядя на студеную и летом, сине-стальную воду Невы, на чаек, белых и легких, как большие хлопья снега.
Чайки, занесенные на многоводную красавицу реку с моря, казалось, приносили с собой и его освежающий морской запах.
С освобождающей душу отрадой смотрел Карл на гранит, одевший Неву, на Мраморный дворец Риналъди, на изумлявшую каждый раз заново своей воздушной красотой Фельтенову сквозную решетку Летнего сада…
Далеко отступило, выпало из памяти лживое придворное общество Павловска, и потухли обиды, нанесенные безумным царем и легкомыслием родной матери.
В углах средней башни Адмиралтейства, рядом с флагами, вдруг зажглись фонари, — так повелела Екатерина после наводнения, — и Карл, боясь опоздать в театр к матери, приказал яличнику причалить к берегу.
Ему повезло. Сегодня дежурили служители, знавшие его с детства, они беспрепятственно пропустили в уборную матери. Она была одна.
— Мадама гримируется, — сказала горничная, — но вы пожалуйте…
— О сынок мой маленький, хотя уже большой, — с нежной лаской пропела Гертруда, не отрываясь от зеркала, перед которым она кончала накладывать грим. — Ты сейчас увидишь мать крылатой Психеей, Я буду сегодня чудесно танцевать. О, я уничтожу Настасью Берилеву, уничтожу!
Гертруда постучала заячьей лапкой по столу.
— Настасье сбавят столовые и квартирные и на башмаки и на чулки. Не ей равняться со мной!
Карл съежился, онемел. Как далека была от него эта мать, полная закулисных интриг. И даже свои ласковые слова говорила она ему без всякой мысли, как говорят любимой комнатной собачке.
Карл встал, подошел к Гертруде, сказал жестоко, не глядя:
— Я требую от вас правды, пора мне узнать… кто, собственно, мой отец?
— О, зачем так сердито! — простонала Гертруда. — Ты ранишь мое сердце этим голосом.
Она не сказала — словами…
— Император мне задал вопрос, и я должен узнать про отца. Понимаете: кто тот человек, от которого я рожден?
Гертруда жеманно хихикнула и, как в балете, погрозила игриво пальчиком:
— Неприлично говорить о таком со своей матерью!
— Мать должна открыть тайну моего появления на свет.
Росси подошел к выходной двери и загородил ее собою, чтобы Гертруда, не упорхнула без ответа на сцену.
Мадам Гертруда, все еще прекрасная, неистребимо молодая, подбежала к сыну, высокому ростом. Поднявшись на носки, туго обтянутые розовыми туфельками, она пригнула голову Карла обнаженными душистыми руками к своей груди и с очаровательной грацией прошептала;
— Сын мой, дитя… ведь я не ведаю и сама, кто твой отец! Но я люблю тебя за двоих. И сейчас я буду танцевать для тебя… только для тебя.
В дверь постучали. «Иду!» — весело крикнула Гертруда и, еще прильнув к сыну, сказала с мольбой:
— Не надо нам ссориться, дорогой, не надо!
Прима-балерина была права. Едва сын увидел ее на сцене театра легкокрылой, поистине воздушной Психеей, он все ей простил. Точность рисунка ее танца, волшебный полет, совершенство движений восхитили его, освободили, унесли. Прославленный танец Гертруды Росси был совершенной силой искусства, снимавшей бремя вседневных тягостей. Недаром писали про нее, что она вызывает благодарные слезы восторга.
А когда, минуя жадные взоры гвардейцев-балетоманов, ловивших ее улыбку, ему одному, возлюбленному сыну, она послала воздушным шарфом приветствие и скрылась за кулисами, — Карл выбежал из театра.
Он боялся, что мать позовет его ужинать. Он уже не хотел утратить свое разнеженное дивным танцем благодарное к ней чувство. На сцене мать совершенный художник, в жизни — неумная, тщеславная женщина. Какие с ней счеты!..
Была лунная ночь. В зеленоватом прозрачном свете стоял город. Росси, не отдавая себе отчета, не глядя по сторонам, почти без сознания мчался по непривычным ночным улицам к великому утешителю своему, бессмертному всаднику Фальконета. Перед ним замер.
Глядя на Петра, юноша испытывал великое удовлетворение.
Его охватило настроение совершенного бескорыстия. Ничего он для себя не хотел и вместе с тем сейчас впервые узнал — он свершит в своей жизни великое, для всех нужное.
Он глядел неотрывно на освещенного лунным светом скакуна, который откуда-то, из недр, вихрем взлетел на самую вершину скалы.
Невиданный этот конь пес на себе всадника, увенчанного лаврами. Всадник простер над городом отеческую десницу. Он звал вперед.
И Карл ощутил всем своим существом, что несокрушимая, всепреодолевающая воля к созданию еще никем не угаданных зданий до конца дней стала ему второй природой.
Глава вторая
Согласно ритуалу мальтийских рыцарей Карл Рос-си не был включен в число гостей, имеющих право присутствовать при сожжении девяти костров. Необходимых по статуту предков у него не оказалось.
— Как художнику, вам даже будет любопытнее охватить все зрелище сразу, с вершины ближайшего холма…
Так, с любезной улыбкой, желая смягчить удар его самолюбию, сказал Росси церемониймейстер Ордена.
Но Карлу было только дело до того, что скажет ему его Психея, Катрин Тугарина.
Воспитанная отцом-вольтерьянцем, веселая насмешница — кто лучше ее способен подметить неумное чванство придворных, их фальшь, ханжество? Как мило, наверное, она посмеется над тем, что у него не хватило предков, тогда как у нее их излишек.
Но сейчас искать встречи с Катрин невозможно, работы еще по горло. Придется отложить свидание до позднего вечера, уже после сожжения знаменитых костров. Любопытно, прочтет ли Катрин без ошибки его любовный мадригал на гирляндах? Подбором разнообразных оттенков живых цветов Карл собирался окончательно выразить Катрин свои чувства. Ему уже удалось послать ей предупреждающую записку:
«Возобновите в памяти „язык цветов“, чтобы прочесть на гирляндах костров предназначенные вам слова».
Хотя император Павел строго преследовал все забавы, которые были в обычае при дворе его матери, у каждой девицы хранился в тайничке вместе с толкователем снов и «язык цветов».
Карл отправился в оранжерею, где он должен был дать последние указания помощникам. Дорогой он еще раз осмотрел воздушные зеленые беседки, затейливые павильоны, боскеты, сооруженные по его рисункам, и остался доволен. Хотя ему давно хотелось на чем-то громадном развернуть свой дар, которому, чувствовал он, уже пора найти достойное применение, — эти легкие, веселые работы из живого материала самой природы восхищали его. Он был как первый создатель мира, располагая по собственному вкусу купы дерев и кустов, нагромождая скалы и камни в излучинах речки, вознося лиственные арки, низвергая каскады…
В оранжерее подручный Митя рассказал Карлу, что и наследник Александр по поводу запрета худож-пикам, как не имеющим достаточного количества предков, присутствовать на празднестве вместе со двором, прищурясь, вымолвил: «И дело. Всяк сверчок знай свой шесток. Иные из молодых уж слишком подбираются к государю…»
— Это он на вас намекал, Карл Иванович, — бережно сказал Митя, — все отметили, наследник вроде вам завидует, потому что государь особливо к вам ласков.
— Для ученика Лагарпова такие чувства едва ли подходящи, — улыбнулся Росси, — но меня Александр и вправду не слишком жалует.
Карл вспомнил, как он недавно принес в кабинет Марии Федоровны заказанные ею рисунки для чернильницы, а она, восхищаясь, протянула их наследнику и сказала;
— Хорошо, если бы вы так умели для меня рисовать.
— Но я ведь в художники не готовлюсь, — вспыхнул Александр.
— Очень помню, мой сын, — вы готовитесь царствовать, — уязвленная его тоном, подчеркнула мать.
И намедни как нехорошо на него глянул Александр, когда с обнявшим его императором он подошел к марширующим гатчинцам.
— Самолюбив очень, — неодобрительно сказал Митя, — и фрунтом задерган, и отцом запуган, и глухоту свою скрывает. А у вас так все выходит легко и свободно.
— Наследнику, конечно, живется невесело, но довольно о нем. Нам с тобой, Митя, сейчас дело кончать. И домой мне еще заглянуть, переодеться…
Карл быстро и точно сделал последние распоряжения; не в силах сдержать счастливую улыбку, перечислил Мите, какие оттенки цветов еще необходимо доставить из самой дальней оранжереи. Наконец он двинулся к проспекту Лепика — так, по приказу Павла, именем его отчима окрещена была близлежащая прямая улица, в конце которой возвышалась затейливая дача знаменитого танцовщика.
Митя догнал Карла и, шагая с ним в ногу, застенчиво сказал:
— Просить вас хочу об одном деле…
— Проси, Митя, только шаг не задерживай.
— Узнайте у господина Лепика про Машеньку. Она ведь всегда при вашей матушке в кордебалете танцует. Сильфидой ее прозвали… а сольной партии всё не дают. Очень ей это обидно. Проведать бы у господина Лепика, есть ли скорая надежда?
— Спрошу, Митя, — улыбнулся Карл. — Машенька — твоя невеста?
— Выкупить мне ее надо раньше, — грустно ответил Митя. — Я, Карл Иванович, на это жизнь свою положу. Сумма немалая, но благодаря вашей помощи и господина Бренны я- кое-что уже скопил. Годика через два-три авось…
— Будет ли Машенька так долго ждать? Соблазнителей много в балете.
— Она верная, — прервал, вспыхнув, Митя. — Она давеча мне сказала: «Лучше умру, а бесчестьем сольной партии не возьму».
— Хорошо, Митя, что ты веришь Машеньке. Вот и я верю…
Карл запнулся и покраснел. Митя сам деликатно закончил:
— Вашей избраннице, Карл Иванович, тоже вполне можно верить. Умница какая, красавица… Уж я вам для мадригала всё как есть подберу. Куда мне доставить цветы?
— Всю охапку неси прямо к кострам, я туда скоро приду. А просьбу твою, будь покоен, исполню. Ну, беги.
Митя был племянник и крестник замечательного литейщика Хайлова, который спас при отливке монумент Фальконета от гибели. Он был сероглазый юноша, почти с белыми льняными волосами, младший ученик Бренны, который употреблялся больше для работ подготовительных, нежели живописных. Как мастера Возрождения, Бренна почитал приличным иметь штат подростков-помощников при выполнении больших заказов и работ, требуемых двором.
Росси сразу отличил Митю за недюжинные способности, прямодушный ум и, узнав про мечту его выкупить свою невесту, стал ему передавать доходную работу.
Митя нравился ему и сам по себе и тем, что был племянником человека, который вызывал особое уважение. Бецкий передал отливку памятника Петра самому Фальконету, а надзор за работой — русскому мастеру Хайлову. Меди заготовили триста пятьдесят пудов, и когда она, растопленная, была уже пущена в нижние части формы и заполнила их, произошел прорыв, и медь разлилась по полу.
Фальконет в отчаянии, что его труд рушится и честь погибает, выбежал вон из мастерской. Его примеру последовали все рабочие, кроме Митиного дяди. Один он, не потерявшись, заделал отверстие и стал, с опасностью для жизни, вычерпывать медь и вновь заполнять ею формы.
Отливка вышла на славу, только лишних два года пошло на шлифовку изъяна. За спасение памятника Хайлов получил денежную награду и первым долгом выкупил из крепостного состояния родную сестру с Митей, его крестником. Литейный мастер был крепкий, умный, вольный человек, и Митя, подрастая, наследовал его независимый нрав. Карла Росси он преданно любил, восхищался его талантом и мечтал в будущем, когда женится на свободной Машеньке, строить под его началом.
Карл Росси подходил к даче своего отчима, очень приметной благодаря большой террасе, затканной сверху донизу ярко-красным турецким бобом.
Павел не выносил танцующих мужчин, считая, что самим богом они предназначены быть только воинами. Но для Лепика император сделал исключение: кроме того, что Лепик был европейски признанный танцовщик, он писал балеты на модные классические темы, среди которых попадались и военные — балет «Дезертир».
Феликс Лепик вместе с Гертрудой Росси и ее маленьким мальчиком Карлом — после триумфов в Париже и Лондоне — из Италии приехал в Россию.
Карл значился в бумагах — пасынок Лепиков; так он был записан и дальше на службу при дворе.
После особого успеха поставленных Лепиком балетов собственного сочинения — «Амур и Психея», «Прекрасная Арсена» — ему предоставлена была, к зависти всех прочих актеров, «безденежно» ложа третьего яруса и наивысший оклад.
Феликс Лепик дремал в большом кресле на собственной террасе, а несколько поодаль стоял мальчишка-казачок с длиннейшим чубуком в руках. Вся фигурка казачка выражала большое напряжение. По опыту он знал, что если промедлит минуту, чтобы поднести барину, едва он проснется, раскуренную трубку, — размашистый удар по спине этим самым, вырванным из рук, чубуком будет ему назиданием. Казачок не переставая дул на тлеющие угольки, Лепик мирно похрапывал, и черные усы его, отпущенные за лето, пока он не танцевал, а только писал балет, вздрагивали, как у таракана. Нос был горбатый, римский, а брови, как намазанные густой черной краской, полукружием обегали закрытые веками глаза. Одет Лепик был пестро, словно фазан: шелковый халат с разводами, на голове красная феска, узорные шитые туфли на босу ногу.
Сон отчима был чуток. Еще сладко храпел его римский нос, как внезапно приоткрылся карий глаз, с любопытством оглянул Карла, и Лепик прокричал тенорком: — Пасынка бог послал! С чем поздравить?
Он вскочил с кресла, легко подбежал к Росси — и скороговоркой насмешливо сказал:
— Веночки, беседки, гирлянды цветов — дамское занятие, дамское… Не вижу для вас в том много чести — не в садовники вас готовили.
Карл что-то хотел возразить, Лепик не дал, сам продолжал, махая руками:
— Говорят, ваш учитель Бренна, как на осле, на вас воду возит… Вашими руками жар загребает. Постоять за себя не умеете. Ну, с чем пришли? Есть до меня дело? Говорите скорей, я сейчас примусь за работу.
Лепик выхватил у подскочившего казачка свой чубук, кинулся обратно в кресло и скоро исчез в клубах дыма, как сказочный волшебник.
Воспользовавшись минутой, когда отчим, занятый делом, принужден был помолчать, Росси, памятуя просьбу Мити, сказал:
— С моей матерью танцует в вашей постановке некая Машенька, именуемая за грацию Сильфидой. Она в кордебалете…
— Знаю Сильфиду и первый ее одобряю, — сказал важно Лепик. — Ну и что же, ты влюблен?
— Она невеста моего приятеля Мити, одного из младших учеников наших. Он просил меня узнать, есть ли надежда получить ей вскорости сольное выступление?
Лепик вынул изо рта чубук и рассмеялся.
— Как раз вчера получила. Из-за ее упрямства твоя мать разбила два хороших стеклянных стакана, пока наконец убедила Сильфиду. Маша свое счастье поняла и сделала то единственное, чего не хотела делать: по приглашению нашего князя Игреева с ним поужинала наедине. А сегодня я получил предписание дать ей партию Амура, И если твой приятель не будет дурить, эта Маша от щедрот князя скорее добудет себе вольную сама, нежели ожидая, до седых волос выкупа от жениха. Убеди этого Митю… Жизнь есть жизнь!
— Как можете вы так говорить? Вы ничего не понимаете в таких людях, как Митя…
Лепик заклектал опять птичьим смехом, потом выпучил страшно глаза и крикнул:
— Умная рыба ищет, где глубже, умный человек — где лучше! Здешняя русская пословица есть истина, а жизнь есть жизнь. Это надо понимать, а вы тоже не понимаете. Почему вы наотрез отказались учиться танцам? Вы отказались от своей фортуны. О, если бы вы танцевали!
Лепик ловко бросил подскочившему казачку свой потухший чубук.
— Если бы вы танцевали, вы могли бы стать наследником славы вашей матери и моей… да, моей славы.
Лепик хлопнул небольшой растопыренной рукой по шелковым разводам выпиравшей грудной клетки и поднял голос, как актер высокой трагедии;
— Если бы вы танцевали, я бы мог вас вполне назвать своим сыном. Но молодой человек, рисующий беседки, цветочки, веночки, вместо того чтобы посвятить себя благородному богу движения, — мне не может быть сыном.
— И желания особого к тому не имею, — сказал холодно Росси.
— Предерзкий негодяй! — вскричал гневно Лепик. Брови его, черные и толстые, как пиявки, вздернулись кверху, щеки побагровели, римский нос побелел.
Карл круто повернулся и пошел в свою комнату переодеться.
— Осел!.. — крикнул ему вдогонку отчим, кидая на пол ноты, пепельницу, черешковый чубук, вырванный у перепуганного казачка, и с нарастающим гневом продолжал: — Пудель любит танцевать… Лошадь любит танцевать… Одного осла надо стегать, чтобы он танцевал. Но и осел танцует… Вы — хуже осла.
Не найдя больше достойных для утишения своего гнева предметов, Лепик дрыгнул ногой и послал далеко в коридор, через незакрытую дверь, свою туфлю с босой ноги.
Казачок, как собачка, стремглав кинулся к туфле и водворил ее снова на ногу барина.
Вдруг Лепик сразу охладился, взял в руки карандаш и, как ни в чем не бывало, стал им выстукивать такт и напевать что-то, черкая в нотах.
А Карл, нарядный, красивый, полный мечтаний о восхитительной Катрин, желая, чтобы его не увидел отчим, черным ходом направился к парадному месту.
Карл шел и думал о том, как он встретится с Катрин. Вероятно, она уже знает, что его не будет на парадном торжестве. Конечно, она не сочтет это для него унижением. Сколько раз сама ему говорила, что таланты выше всякого происхождения. Да, одной ей, восхитительной Психее, хотел Карл рассказать о том, что пережил недавно ночью у памятника Петра. Рассказать, как ему, великому всаднику, и самому себе дал обет — сделаться первым в мире зодчим.
И, взяв ее прекрасную руку, он ей скажет:
— Быть может, вы, Катрин, никому не отдадите вашу свободу, пока я этим зодчим не стану?
Или нет… зачем так долго ждать? Быть может, довольно ему только вернуться из двухлетней поездки в Италию, куда повезти его хочет Бренна. И когда он, как Баженов, привезет из Рима и Флоренции признание его высоких успехов, — с ее умом, свободой взглядов, ужели она сама не скажет смело отцу:
— Я люблю этого художника. У него большое будущее…
И отец-вольтерьянец благосклонно ответит;
— Как вы оба можете сомневаться в моем согласии?
Так юношески мечтая, наслаждаясь медовым запахом лип, Карл вдруг приметил в конце темной старой аллеи два белых платья. Как узнать, кто эти гуляющие так близко от дворца? Карл, чтобы остаться самому незримым, когда белые платья с ним сравняются, спрятался за скамью, укрытую кустами жасмина. В просветы ветвей вдруг мелькнули голубые ленты, как дымок завился белый газовый шарф, и обе женщины, смеясь, кинулись вперегонки к скамье. Это была Катрин со своей замужней подругой Аделью.
Насмеявшись, они продолжали прерванный разговор, и вдруг Катрин назвала его по имени. Она сказала:
— Какое же благополучное разрешение судьбы любезного Дарла Росси вы придумали, дорогая Адель?
Адель, смеясь, вынула из ридикюля книжку в сафьяновом переплете:
— Это наш женский оракул. Здесь советы на все случаи жизни и на самые тайные наши желания. Откроем заветную главу…
— Я хочу прочесть сама. — Катрин потянула книжку.
— Только читайте вслух, ведь в вашем деле заинтересована и я, — лукаво сказала Адель. — Начинайте отсюда. Это подходящий для наших разговоров анекдот прошлого времени.