Блистающие облака Паустовский Константин
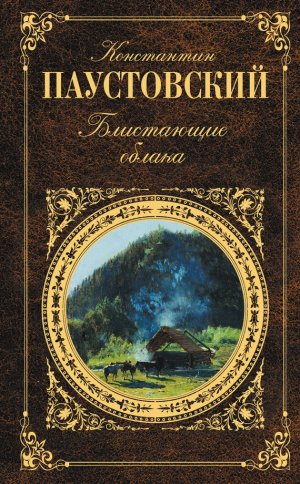
Ему снились дикие керченские камни. По ним бежала прозрачная вода, она пахла простыми цветами, и старухи протягивали ему граненые стаканы с этой водой и шептали:
- Купите на счастье, молодой человек!
БЕЗЗАБОТНЫЙ ПОПУТЧИК
С утра дул белый (так казалось Батурину) и сырой ветер. Перепадали тихие дожди. Батурин шел на пристань: пришла телеграмма от Берга, что он приедет с первым пароходом.
На пристани горами было навалено прессованное сено, пахло лугами, под настилом урчала мыльная вода. Керчь под дождем понравилась Батурину,- в чистых лужах плавали листья, неизмеримая морская свежесть залила город.
На рейде дымил грязный пароход, давая нетерпеливые гудки. Батурин вскочил на катер. Катер, выплевывая грязную воду и высоко поднимая нос, пошел к пароходу. Сразу ушла теснота. Рейд открылся исполинским озером, направо за мысом зеленело Черное море. На катере к Батурину подсел маленький человек с серыми веселыми глазами,- тот самый, что принимал объявление в "Красной Керчи".
- Уезжаете? - спросил он Батурина, как старого приятеля, придерживая от ветра зеленую фетровую шляпу.
- Нет, товарища встречаю.
- А я за новостями для газеты. Я и репортер, и корректор, и фельетонист, и все, что хотите. Капитаны у меня знакомые.
Иной даже иностранную газету даст - и то хлеб. Ну как, нашли вы киноартиста?
- Да, почти...
Человечек взглянул на Батурина и расхохотался.
- Чудак-покойник! Что за охота разыскивать американцев.
Катер проскочил около высокой кормы парохода,- это был "Пестель". Волна мыла красный ржавый руль. Берг висел на планшире и махал кепкой.
Он спустился по трапу в катер, расцеловался с Батуриным и, пока катер мотало у борта, успел рассказать свою одесскую историю. В Севастополе он ничего не нашел, поиздержался. Одно время питался сельтерской водой и вафлями. Потом начал писать очерки для "Маяка Коммуны" и даже привез с собой шесть червонцев.
- А я,- сказал Батурин,- нашел здесь Нелидову. У нее нет дневника. Он у Пиррисона. Где Пиррисон - неизвестно. Я еще толком с ней не говорил.
Берг обрадовался.
- Вы говорите так, будто нашли трамвайный билет. Чудак. Теперь вчетвером мы отыщем его в два счета.
Берг расспросил о Нелидовой, внимательно посмотрел на Багурина.
- Болели?
- Да, болею...- неохотно ответил Батурин.- Малярия...
Человечек с серыми глазами снова подсел к Батурину, назвал себя. Фамилия его была громкая - Глан.
На обратном пути он слушал Берга и Батурина и изредка вставлял слова,всегда кстати. На берегу, когда Берг с Батуриным сели на извозчика, он сел с ними, и это показалось естественным. Берг, очевидно, считал его знакомым Батурина и не скрываясь говорил о поисках, новых "гениальных" планах и неудачах. У Батурина же было ощущение, что Глан - свой человек.
Около "Зантэ" Глан попрощался с ними, обещал зайти перед вечером и убежал, развевая полы дырявого пальто.
В номере Берг сказал Батурину:
- Чудесный город. Пустынный, весь в море, в греках, в камнях. Тут материалу бездна!
Батурин улыбнулся и поймал себя на мысли, что со вчерашнего дня, а особенно сегодня, когда приехал Берг, город потерял свою былую больничную мертвенность.
Берг внес веселую суету. Он рассказал несколько нелепых историй, через полчаса познакомился с мадам Сиригос и вызвал у нее большую симпатию познаниями по части еврейской кухни. С сизого ее лица не сползала лоснящаяся улыбка.
К вечеру пришел Глан и предложил пойти выпить пива. Батурин отказался. Он сказал Бергу, что сегодня пойдет к Нелидовой один, а его познакомит завтра,- так удобнее.
- Да ведь она сегодня играет в "Потопе",- сказал Глан.- Куда же вы к ней пойдете?
Батурин вспомнил, что Нелидова звала его к десяти часам, но все же отказался остаться. Он решил пойти в театр.
- Ну, черт с вами,- сказал Берг.- Идите. А я пойду с Гланом по пивным. Вот где должна быть бездна материала!
В пивной "Босфор" они сели под портретом лейтенанта Шмидта. В мокрых сумерках зажгли огни,- они казались особенно прозрачными и желтыми, как первые свечи на рождественской елке.
Глан был бродяга. Сумрак пивной и тишина сырого вечера располагали к разговорам. Он рассказал Бергу свою жизнь.
Родился он в Западном крае в русско-еврейской семье. Во время войны его сослали на поселение в Нерчинск за студенческие беспорядки. После революции он жил на Дальнем Востоке, работал кочегаром на паровозе, дрался с японцами и бежал от них на Сахалин. Оттуда он пробрался в Шанхай, там голодал и грузил рис на вонючие пароходы. В Шанхае он случайно отравился опиумом, пролежал два месяца в скучном французском лазарете, влюбился в сиделку-француженку. Ей об этом он не сказал и вот так, без всяких причин, назло себе уехал из Шанхая в Харбин. Потом долго скитался по России.
- Больше трех месяцев я нигде не жил,- сказал Глан,- не могу. Сосет под ложечкой.
Обезьянье его лицо с добрыми морщинками около глаз чем-то напоминало Бергу Пушкина.
Глан был пугливо-деликатен и загорался и гас с необычайной быстротой. Он знал наизусть многие стихи Блока, увлекался Гюго и с редкой быстротой перескакивал в своих рассказах от Арзамаса, где чудесно мочат яблоки с клюквой, к Самарканду, голубому от мечетей и рыжему от засухи.
Разговор с ним вызывал впечатление, какое получается при разглядывании вещей через граненый хрустальный сосуд при ярком солнце. Линии смещаются, контуры очерчены спектральными полосами, земля горит оранжевым пламенем, а люди приобретают отчетливые и смуглые краски, как на картинах старых мастеров.
Берг с изумлением узнал, что Глан только сегодня познакомился с Батуриным и понятия не имеет об истории поисков. Историю эту Глан выслушал настороженно.
- Возьмите меня с собой. У меня есть полтораста рублей. Как вы думаете, месяца на два хватит?
Берг усмехнулся.
- Хватит, конечно. Надо будет написать капитану. Пока между Бергом и Гланом шла беседа в пивной, Батурин сидел в театре. Театр был душный и тесный, почти пустой. Батурин сидел задумавшись и не глядел на сцену. Нелидовой еще не было. Она играла проститутку Лизи.
Когда Лизи вошла в бар, Батурин сжался, прикрыл лицо рукой,- ему не хотелось, чтобы она увидела его. Тягучая топорность провинциального спектакля приобрела с ее появлением печальную остроту. Нелидова играла просто, как бы устало. Батурин отнял руку от лица, откинулся и следил за каждым ее движением. Кровь ударила ему в голову, он скрипнул зубами и прошептал:
- Черт...
Это было похоже на странную насмешку, Лизи была Валей. В ней, как и в Вале, для рядовой проститутки было слишком много теплоты и боли. Та же легкая походка, так же косо и четко срезаны волосы на щеке. Так же робко, как Валя - Батурина, она взяла за руку маклака Бира, румяного негодяя со скрипучим портфелем. Бир был Пиррисоном.
В антракте Батурин вышел на улицу и курил, прислонившись к фонарному столбу. Он хотел уйти, но после звонка вернулся в зал.
До конца спектакля он сидел с каменным побледневшим лицом. Однажды Нелидова посмотрела в его сторону и, казалось, узнала: она уронила горящую папиросу и прижала ее каблуком лаковой туфли.
После спектакля Батурин пошел к морю и выкупался с пристани. Ему хотелось еще большей свежести, почти холода. Казалось, что из него выветривается длительная болезнь, очищается застоявшаяся тяжелая кровь.
Из порта он пошел к Нелидовой. Несколько раз он про себя позвал Валю, и прежняя черная тяжесть сменилась легкими слезами. Батурин сдержал их, глотнул воздух. Он не мог понять, что с ним происходит. Боль очищалась от мути. Широкая печаль залила сердце, и он подумал, как много в мире обиды, невысказанной тоски и гнева. Валя была с ним, казалось, он держал ее узкую ладонь. Она говорила ему, что все пройдет и стоит жить, чтобы щуриться от ослепительного солнца.
Он открыл чугунную калитку. В окне был слабый свет, ветер надувал занавески. Батурин хотел окликнуть Нелидову, но вспомнил, что не знает ее имени. Он постучал о раму окна. Нелидова отдернула занавеску, наклонилась и несколько секунд смотрела на него.
- Я жду давно,- сказала она, и Батурин заметил ее сухие и яркие губы.Входите.
В комнате было тесно и странно; она напоминала кладовую антиквара. Свет лампы падал желтыми полосами на яркие старые шали, на мятый шелк и разбросанные всюду книги.
Нелидова села в тени на диване. Батурин - на подоконнике. Он отодвинул стакан с осыпавшимися цветами. Они пахли тлением, желтой, застоявшейся водой.
- Как душно,- медленно сказал Батурин, разглядывая свои темные от загара руки.- Я только что купался в море. Жаль, что люди не могут менять кожу, как змеи... У меня желание содрать с себя кожу и вымыть легкие, сердце, мозги холодной водой. Понимаете, такой нарастающий внутренний жар. Его очень трудно терпеть...
Он говорил как бы для себя, забыв, что он не один. Голос его звучал глухо, он часто останавливался и задумывался. Нелидова сидела неподвижно.
- Но дело не в этом,- продолжал Батурин.- Рано еще подводить итог. Его подведем не мы, а помните, как у Киплинга, - смерть, когда вычеркнет нас красным карандашом из списка живых. Киплинг писал прекрасные баллады - я помню одну: о человеке, попавшем в ад. Там сказано так:
И Тамплинсон взглянул вперед
И увидал в ночи
Звезды, замученной в аду,
Кровавые лучи.
И Тамплинсон взглянул назад
И увидал сквозь бред
Звезды, замученной в аду,
Молочно-белый свет...
- Да... вот.- Батурин не отрывал глаз от своих рук.- Читаешь сотни книг - и вдруг будто горячий ветер ударит в голову. Так и теперь. Я ничего не читал страшнее этих строчек. Я повторяю их часто и вспоминаю о ней... "Звезды, замученной в аду, молочно-белый свет..." В этих словах есть большая горечь. Они человечны, эти слова, они разрывают сердце.
Нельзя говорить о сентиментальности, как думает Берг. Я - не немецкая бонна. Я пережил все это. И Киплинг был совсем не сентиментальный британец,он был крепкий, черствый, он воспевал войну и диких зверей. Но не в этом дело. Случилось так, что в полчаса с земли, с людей, со всего сдуло налет романтики.
Батурин не думал, поймет ли Нелидова его спутанную речь. Он постучал пальцами по стакану с цветами. На подоконник упало несколько желтых лепестков. Батурин собрал их, положил на ладонь и долго рассматривал.
- Случилось это в Бердянске. Какой-то китаец ударил в висок утюгом - на виске у нее билась тонкая вена, и все... Во время войн я не понимал и не оправдывал убийств. Теперь я думаю иначе. Есть среди людей прослойки, которые должны быть уничтожены. Прежде всего те, кто плюет на культуру, на труд, на материнство, на женщин. Человек с рефлексом вместо души, человек плотоядный, зараженный эгоцентризмом, должен быть уничтожен. Посмотрим, кто пересилит. Мы сильны своим гневом и непримиримостью, они - жадностью и волосатым кулаком.
Батурин сдунул лепестки.
- Для меня многое неясно. Я не знаю, как это выйдет и смогу ли я убить. Думаю, что да. Возможно, что после этого я убью себя,- он виновато улыбнулся,- я очень слаб, во мне нет жестокости...
Батурин взглянул на Нелидову, будто проснулся.
- Вот вы...- сказал он тихо.- Вот вы. Жена Пиррисона. Вы знаете, что все, о чем я говорил, относится к нему?
Нелидова молчала.
- Не хотите отвечать? Это понятно. Может быть, я говорил неясно. Вы вправе сейчас же заставить меня уйти или наговорить мне кучу злых слов,дело, конечно, не в этом. Три месяца назад я бы этого не сказал - так я был спокоен и противен себе. Казалось, все вытекло из души, как вода из дырявого бака. Оказалось - не так. Я начал поиски. Были разные встречи. В Ростове я встретил проститутку Валю, о ней я не могу ничего рассказать, не стоит и пробовать, ничего не выйдет... Ее убил в Бердянске китаец,- Батурин встал и оперся на подоконник,- китаец-прачка родом из Фучжоу. Труп ее лежал в прачечной и был покрыт простыней...
Батурин сделал шаг к Нелидовой.
- Простыней,- быстро повторил он, задыхаясь,- и на простыне были вышиты слова "Георг Пиррисон".
Нелидова вскочила. Мучительная морщина легла у нее на лбу.
- Что вы говорите, вы - сумасшедший,- прошептала она.
- Она была прекрасна,- сказал Батурин и тяжело сел на подоконник.Китайца звали Ли Ван.
- Замолчите, не может быть! - крикнула Нелидова.- Я думала, вы бредите, пока вы не назвали Ли Вана. Это наш бывший слуга, он жил у нас полгода в Москве, потом уехал. Ли Ван убил! Я не могу понять этого. Ласковый, тихий Ли Ван.
- К черту Ли Вана! - Батурин поморщился. - Я должен окончить. Ли Ван, слуга Пиррисона, убил ее. Перед этим она два раза травилась из-за Пиррисона. Не смейте кричать. У меня больше права кричать. Я буду кричать, если на то пошло,- Батурин повысил голос,- Она два раза травилась из-за Пиррисона, когда он был в Ростове. Почему? Да потому, что он ее замучил, он привык все, за что платит, использовать до конца. Я распутаю этот узел, даже если бы это стоило мне жизни. Я не болтаю пустые слова, вы сами видите.
- Что вы хотите сделать?
- Я убью Пиррисона.
- Нет,- крикнула Нелидова,- не трогайте его! Вы его не знаете. Он убьет вас прежде, чем вы пошевелитесь.
Батурин засмеялся:
- Он уже убил меня, не волнуйтесь. Таких людей необходимо уничтожать.
Нелидова сказала шепотом, от которого Батурин вздрогнул:
- Зачем вы говорите так? А если он убьет вас? Даже этот палец ваш не заслуживает смерти.
Батурин пристально поглядел в ее лицо.
- Вы бредите,- сказал он,- где вы слышали эти пустые слова? Моя игра сделана плохо. Я сорвался. Вы можете донести на меня, меня арестуют, но в конце концов выпустят, и своего я добьюсь.
Нелидова молча опустилась на пол. Батурин наклонился к ней. У нее опять был обморок. Он перенес ее на диван и подумал, что два обморока за два дня это много. Он положил ей на голову мокрое полотенце, снова сел на окно и погрузился в пустое и гулкое оцепенение.
Она пришла в себя через несколько минут, показавшихся Батурину часами, села на диван, легко вздохнула и сказала внятно:
- Я вам могу простить многое... Уходите. Но не уезжайте, не предупредив меня... Вы должны забыть все эти мысли, с такими мыслями нельзя жить. Вот еще... я не успела сказать... Вы уверены, что Пиррисон меня бросил. Это неверно. Я прогнала его еще в Москве и уехала на юг совсем не за ним....
- А зачем же?
- Так...- Нелидова отвернулась и тихо заплакала.- А теперь идите.
Батурин вышел. Синий рассвет был протянут полосой над Таманью. В темных ветвях возились птицы.
Утром принесли телеграмму от капитана. "Пиррисон в Батуме,- сообщал капитан.- Выезжайте немедленно, справьтесь в Батуме во второй типографии метранпажа Зарембы".
Берг недовольно выслушал рассказ Батурина о том, что с Нелидовой он так и не договорился.
- Не волыньте,- сказал Берг.- Завтра надо ехать и обязательно взять ее с собой. Попытайтесь поговорить еще раз.
Батурин согласился. Он пошел к ней, но не застал дома,- она была в театре. Батурин пошел в театр. Там было темно и пахло пылью. Он вызвал Нелидову в сумрачное фойе.
- Елена Владимировна,- сказал Батурин (он вспомнил наконец ее имя).- Я пришел за ответом, Завтра я уезжаю. Приехал еще один из искателей, мой друг, писатель Берг. Сегодня утром мы получили от третьего искателя, капитана Кравченко, телеграмму из Батума. Он требует, чтобы мы немедленно выезжали. Очевидно, он напал на след Пиррисона. Мы его найдем, никто нам в этом помешать не сможет. Вы едете с нами?
Нелидова похудела за ночь, глаза ее ввалились.
- Да, еду,- сухо сказала она, стоя против Батурина.- Я уже сообщила директору театра, что разрываю контракт. Когда надо быть готовой?
- Завтра к двенадцати часам.
- Хорошо. Я приеду на пристань.
- Я заеду за вами.
- Не надо, я не убегу.
Она повернулась и пошла по темному коридору. Черное короткое платье переливалось серым, будто было покрыто полосами светящейся пыли. Батурин закурил, посмотрел на дородных женщин и поджарых амуров, нарисованных на стенах, и сказал тихо: "Ну ладно, раз так, тем лучше",- и вышел из театра. В номере он сказал Бергу:
- Она едет с нами, но не забывайте, что она - враг. Держитесь осторожней. Пиррисона она прогнала, но мне кажется, она до сих пор его любит. Похоже, что она едет больше за тем, чтобы оградить его от неприятностей.
- Не подгадим,- ответил Берг.- Да... Вот еще один искатель навязался Глан. Просится, чтобы взять его с собой. Вы как думаете?
- Пусть едет. Нам же легче.
Берг помолчал.
- Вы думаете, что с Пиррисоном могут быть неприятности?
- Да. Это опасный человек. Я кое-что узнал о нем.
- Расскажете?
- Да, потом...
Утром Берг побежал в агентство и взял билеты,- всем палубные, а Нелидовой койку в каюте. На пристань пошли пешком. Глан связал ремнем чемоданы и взвалил на плечи. Утро было свежее, по горизонту лежала мгла.
- Заштормуем,- сказал Берг возбужденно.- Покачаемся, Глан. Смотрите: кажется, норд идет.
На пристани их ждала Нелидова. Она стояла около двух блестящих желтых чемоданов. Ветер дул ей в лицо. Она спокойно посмотрела на Батурина. Сухие и яркие ее губы были плотно сжаты. Батурину она протянула узкую руку в перчатке, Бергу и Глану только кивнула.
Снова Батурин, стоя с ней рядом в ожидании катера и перекидываясь пустыми словами, вспомнил о холодных и мраморных лицах древних богинь.
- Будет шторм,- сказал Бачурин.- Видите: мгла по горизонту.
- Ну что ж, тем лучше.
Глаза Нелидовой блеснули.
- Кто это? - Она показала глазами на Берга и Глана.
- Это Берг. А это так... попутчик.
- Однако вас много...
Батурин промолчал. Он помог ей спуститься в катер. У него было такое чувство, что он везет арестованную. "Какая чушь",- подумал он.
Берг с Гланом перетащили ее чемоданы. На пароходе она ушла в каюту и не выходила до вечера.
Сидя на корме, вытянув ноги и поглядывая на потемневшее море, Берг сказал:
- Похоже, что вы, Батурин, вроде комиссара при знатной иностранке, а мы носильщики. Ну что ж, потерпим. Она красива и не верит нам ни на грош. Какого дьявола она согласилась ехать с нами?
- Она хочет видеть Пиррисона,- ответил Глан.- Представился удобный случай. Нас она ненавидит. С Батуриным она разговаривает, как Николай говорил с Керенским.
Море свежело. На западе горел кровавый свет. Мрачный дым лежал на востоке.
- Ветер идет,- предупредил матрос, свертывая брезент над деком.
Неуютность вечера, задувавшего изредка в лицо холодными и крепкими порывами, слепые огни парохода в буром мраке, шум волн, скрип снастей и пустынная палуба вызывали беспокойство. На пароходе почти не было пассажиров. В Керчи многие сошли, испугавшись близкого шторма. С Кавказского побережья пришли телеграммы, что бушует шторм в девять баллов и около Туапсе погибло парусное судно.
Спрятавшись за люком на корме, Батурин, Берг и Глан закусили консервами с белым хлебом. Глан принес из камбуза кипяток. Чай казался изумительно вкусным и крепким, ветер и ночь - молодыми. Радовало сознание, что до самого Батума не надо ничего делать, некуда торопиться,- только курить, смотреть на волны, рассказывать разные истории и спать на палубе, укутавшись с головой в пальто.
Пароход уже качало. Он тягуче скрипел, дрожал от вращенья винтов и хлопал черной кормой, как гигантской ладонью, по серой волне. Соленые брызги попадали в лицо, и Берг с наслаждением облизывал губы.
Батурин долго стоял, спрятавшись за рубкой, и курил, потом лег рядом с Бергом и спросил тихо:
- Берг, у вас не было сына?
Берг поднялся на локтях, посмотрел на Батурина и ответил:
- У меня есть ребенок,- сын или дочь, я не знаю, Почему вы спрашиваете?
- Так, подумал о детях. Где это было?
- В Ленинграде...-неохотно ответил Берг.-Вы помните: я вам рассказывал о дочери профессора... она ждала ребенка от меня. Я тогда не дорассказал...
- И вы ее бросили?
- Да,- ответил, поперхнувшись, Берг, сел и закурил.
Спички гасли одна за другой.
Пароход вскинуло, он косо пополз вниз. На мостике засвистели.
- Начинается,- пробормотал Берг.- Попали в шторм, поздравляю. Бросим говорить о прошлом. Это невесело.
- Невесело? - переспросил Батурин и затих.
Уснул он не скоро. Было холодно. Они качались, тесно прижимаясь друг к другу, и поминутно просыпались, Хотелось курить, но ветер гасил спички и выдувал табак из папирос. Только у самой палубы, спрятав голову за люк, можно было лежать и собирать по частицам драгоценное человеческое тепло, приносившее непрочный сон. Ветер налетал из темноты с угрюмым гулом. Острые звезды белели в кромешном небе.
Батурин забылся; казалось, прошла минута, не больше, но ему приснилось множество снов. Кто-то тряс его за плечо. Он поднял голову и разглядел в темноте Нелидову. Пароход шел без огней. Батурин сел и вздрогнул,- с ревом катились мимо ветер и море. Корма взлетала, застилая звезды, и падала, окунаясь в чернильную воду. Труба яростно хрипела. Ветер рвал в клочья жирный дым. Лицо дрожало под его ударами и леденело. Тонкое и короткое пальто Нелидовой ветер трепал и бил им по лицу Батурина. Он услышал легкий и свежий запах ее платья.
Нелидова наклонилась и крикнула:
- Вы с ума сошли, вас снесет! Идите в кают-компанию, там никого нет. Смотрите, что творится!
- Полный шторм! - крикнул в ответ Батурин.- Чудесно! Как вы думаете, дойдем до Новороссийска?
- Не знаю... Не все ли равно? Подвиньтесь, я сяду. В каюте мне страшно.
Берг и Глан проснулись. Нелидова села между Бергом и Батуриным, и они закрыли ее полами пальто. Она сильно вздрагивала. Пробежал матрос с мокрым плащом, наклонился и крикнул:
- Эй, пассажиры, смывайтесь в каюту,- зальет!
Берг пошевелился.
- Не надо,- сказала Нелидова.- Посидим еще. Спать все равно не будем.
Шторм гремел и надвигался с востока стеной, закрывая звезды.
- Не смотрите на восток,- посоветовал Берг Нелидовой,- страшно. Смотрите на палубу, на нас, на свои руки, вообще на простые и знакомые вещи,- будет легче. Глотайте воздух, иначе укачаетесь.
Так они сидели тесно и тихо, изредка перекидываясь словами, потом сразу вздрогнули: сквозь рев шторма доносились странные оборванные звуки. Глан пел незнакомую песню:
Уходят в море корабли,
Пылают крылья,
В огне заката крылья-паруса...
А на берег блистающею пылью
Ложится-падает вечерняя роса.
- Вот сумасшедший,- прошептал Берг, но сразу стало спокойнее; человек поет: значит, шторм не так страшен, как кажется. Глан пел тонким печальным тенором.
Ветер засвистел в снастях с нарастающей яростью, испуганные звезды скачками понеслись к горизонту. Голос Глана сорвало, унесло в ночь, и пушечным ударом на пароход обрушилась водяная гора. Шторм крепчал.
- Пойдем, смоет.- Батурин встал, качнулся и схватил Нелидову за плечо.
Ветер обрывал пуговицы на пальто, по ногам несло брызги.
В кают-компании мутно светила лампочка. Пароход валился с борта на борт, трещал и хрипел. Чемоданы с шорохом ездили, цепляясь за привинченные стулья, в умывальниках, за стенами кают, плескалась вода. Шторм трубил за наглухо завинченными иллюминаторами с космической силой.
- Ну, попали,- пробормотал Берг.- Разобьет, пожалуй, эту коробку.
- Вы боитесь моря? - спросила вскользь Нелидова.
Она сидела с ногами на красном бархатном диване. Лицо ее было измучено. Серое пальто потемнело от брызг.
- Нет,- резко ответил Берг.- Я бывал и не в таких переделках. Хоть я и еврей, но ни моря, ни воды не боюсь.
Нелидова усмехнулась. Глан дремал, сдувая со щеки назойливую муху, вздрагивал и осоловело поглядывал на тусклые лампочки.
Батурин сидел около Нелидовой. Для устойчивости он оперся локтями о колени, положил голову на ладони и, казалось, глубоко задумался. Он прислушивался к шуму шторма и думал о Вале. Он нащупал в кармане ее записку, вынул и, качаясь, теряя строчки, прочел:
"Раз я любила, но не так, совсем не так, больше дурачилась... Я спасла ему жизнь, после этого он сказал мне, что ненавидит меня, и ушел".
"Может быть, мы погибнем,- думал Батурин, и его пугала не смерть, а лишь то, что перед смертью мокрое платье прилипнет к телу и свяжет движения.- Стоит ли спрашивать,- пожалуй, бесполезно".
Но все же он спросил Берга, глядя на пол каюты:
- Берг, отец той женщины, о которой мы недавно говорили, был профессор?
- Да.
- Что он читал?
- Он был профессор-клиницист, врач.
В каюту вошел капитан. Вода капала с его плаща на пол. Он отогнул рукав, посмотрел на часы, хмуро взглянул на Нелидову, закурил и сел к столу. Все молчали.
- Четыре часа,- сказал хрипло капитан и закашлялся.- Штормяга крепчает, и барометр падает,- получается паршивая комбинация!
- Выдержим? -спросил Берг.
Капитан не ответил, бросил папиросу в полоскательницу и вышел.
- Берг,- позвал Батурин,- садитесь здесь.
Он показал на диван рядом с собой. Берг сел, привалился на бок. Слова капитана ему не понравились, начиналась тоска.
- Он ничего вам не ответил?
- На такие вопросы моряки не отвечают.- Глан открыл глаза.- Зря вы спросили. Откуда он может знать: слышите, как крушит?
- Берг,- продолжал Батурин, будто пропустил мимо ушей весь этот разговор,- может быть, утром мы будем в Новороссийске. Так? А может быть, к утру нас вообще не будет. Поэтому я и спрашиваю вас, - хотите вы знать, что случилось с той женщиной и с вашим сыном?
Берг подозрительно взглянул на Батурина и хрипло ответил:
- Что вы знаете? Если вы хотите шутить, то это гадость. Я лучше думал о вас, Батурин.
- Какие тут шутки.- Батурин поднял голову и поглядел на Берга спокойно и ласково.- Скажите сами, способны вы шутить на этом разваливающемся корабле?
Берг закурил, руки его тряслись. Он не мог ничего ответить и только помотал головой.
- Не печальтесь, Берг,- сказал Батурин,- ваш сын, ему было два года, сгорел в Ростове во время пожара в госпитале. Женщину зовут Валя. Я могу подробно вам ее описать, но это не нужно. Она была проституткой. Месяц тому назад ее убил в Бердянске китаец.
Берг отвернулся от Батурина, плечи его опустились. Он слабо махнул рукой, будто отмахиваясь от кошмара.






