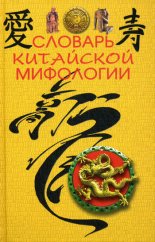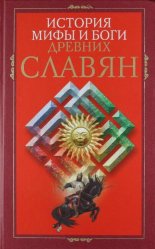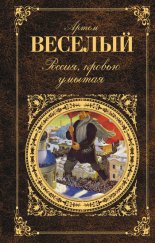Полное собрание рассказов в одном томе Шукшин Василий
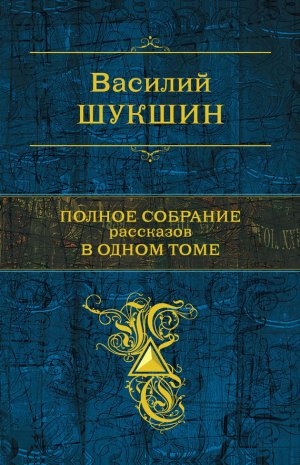
Пришла Анна.
– Собрался?
– Тут, понимаешь… штука одна потерялась, – сокрушенно заговорил Михайло. – Куда она, окаянная?
– Господи! – Анна поджала малиновые губы. На глазах ее заблестели светлые капельки слез. – Ни стыда ни совести у человека! Побудь ты хозяином в доме! Приедет раз в год и то никак не может расстаться со своими штуками…
Михайло поспешно подошел к жене.
– Чего сделать, Нюся?
– Сядь со мной. – Анна смахнула слезы.
Сели.
– У Василисы Калугиной есть полупальто плюшевое… хоро-ошенькое! Видел, наверно, она в нем по воскресеньям на базар ездит!
Михайло на всякий случай сказал:
– Ага! Такое, знаешь… – Михайло хотел показать, какое пальто у Василисы, но скорее показал, как сама Василиса ходит: вихляясь без меры. Ему очень хотелось угодить жене.
– Вот. Она это полупальто продает. Просит четыре сотни.
– Так… – Михайло не знал, много это или мало.
– Так вот я думаю: купить бы его? А тебе на пальто соберем ближе к зиме. Шибко оно глянется мне, Миша. Я давеча примерила – как влитое сидит!
Михайло тронул ладонью свою выпуклую грудь.
– Взять это полупальто. Чего тут думать?
– Погоди ты! Разлысил лоб… Денег-то нету. А я вот что придумала: давай продадим одну овечку! А себе ягненка возьмем…
– Правильно! – воскликнул Михайло.
– Что правильно?
– Продать овечку.
– Тебе хоть все продать! – Анна даже поморщилась.
Михайло растерянно заморгал добрыми глазами.
– Сама же говорит, елки зеленые!
– Так я говорю, а ты пожалей. А то я – продать, и ты – продать. Ну и распродадим так все на свете!
Михайло открыто залюбовался женой.
– Какая ты у меня… головастая!
Анна покраснела от похвалы.
– Разглядел только…
Из бани возвращались поздно. Уже стемнело.
Михайло по дороге отстал. Анна с крыльца услышала, как скрипнула дверца кабины.
– Миша!
– Аиньки! Я сейчас, Нюся, воду из радиатора спущу.
– Замараешь белье-то!
Михайло в ответ зазвякал гаечным ключом.
– Миша!
– Одну минуту, Нюся.
– Я говорю, замараешь белье-то!
– Я же не прижимаюсь к ней.
Анна скинула с пробоя дверную цепочку и осталась ждать мужа на крыльце.
Михайло, мелькая во тьме кальсонами, походил около машины, вздохнул, положил ключ на крыло, направился к избе.
– Ну, сделал?
– Надо бы карбюратор посмотреть. Стрелять что-то начала.
– Ты ее не целуешь, случайно? Ведь за мной в женихах так не ухаживал, как за ней, черт ее надавал, проклятую! – рассердилась Анна.
– Ну вот… При чем она здесь?
– При том. Жизни никакой нету.
В избе было чисто, тепло. На шестке весело гудел самовар.
Михайло прилег на кровать; Анна собирала на стол ужин.
Неслышно ходила по избе, носила бесконечные туески, кринки и рассказывала последние новости:
– …Он уж было закрывать собрался магазин свой. А тот – то ли поджидал специально – тут и был! «Здрасти, – говорит, – я ревизор…»
– Хэх! Ну? – Михайло слушал.
– Ну, тот туда-сюда – заегозил. Тыр-пыр – семь дыр, а выскочить некуда. Да. Хворым прикинулся…
– А ревизор что?
– А ревизор свое гнет: «Давайте делать ревизию». Опытный попался.
– Тэк. Влопался, голубчик?
– Всю ночь сидели. А утром нашего Ганю прямо из магазина да в КПЗ.
– Сколько дали?
– Еще не судили. Во вторник суд будет. А за ними давно уж народ замечал. Зоечка-то его последнее время в день по два раза переодевалась. Не знала, какое платье надеть. Как на пропасть! А сейчас ноет ходит: «Может, ошибка еще». Ошибка! Ганя ошибется!
Михайло задумался о чем-то.
За окнами стало светло: взошла луна. Где-то за деревней голосила поздняя гармонь.
– Садись, Миша.
Михайло задавил в пальцах окурок, скрипнул кроватью.
– У нас одеяло какое-нибудь старое есть? – спросил он.
– Зачем?
– А в кузов постелить. Зерна много сыплется.
– Что они, не могут вам брезенты выдать?
– Их пока жареный петух не клюнет – не хватятся. Все обещают.
– Завтра найдем чего-нибудь.
Ужинали не торопясь, долго.
Анна слазила в подпол, нацедила ковшик медовухи – для пробы.
– Ну-ка, оцени.
Михайло одним духом осушил ковш, отер губы и только после этого выдохнул:
– Ох… хороша-а!
– К празднику совсем дойдет. Ешь теперь. Прямо с лица весь опал. Ты шибко уж дурной, Миша, до работы. Нельзя так. Другие, посмотришь, гладкие приедут, как боровья… сытые – загляденье! А на тебя смотреть страшно.
– Ничего-о, – гудел Михайло. – Как у вас тут?
– Рожь сортируем. Пылища!.. Бери вон блинцы со сметанкой. Из новой пшеницы. Хлеба-то нынче сколько, Миша! Прямо страсть берет. Куда уж его столько?
– Нужно. Весь СССР прокормить – это… одна шестая часть.
– Ешь, ешь! Люблю смотреть, как ты ешь. Иной раз аж слезы наворачиваются почему-то.
Михайло раскраснелся, глаза заискрились веселой лаской. Смотрел на жену, как будто хотел сказать ей что-то очень нежное. Но, видно, не находил нужного слова.
Спать легли совсем поздно.
В окна лился негреющий серебристый свет. На полу, в светлом квадрате, шевелилось темное кружево теней.
Гармонь ушла на покой. Теперь только далеко в степи ровно, на одной ноте, гудел одинокий трактор.
– Ночь-то! – восторженно прошептал Михайло.
Анна, уже полусонная, пошевелилась.
– А?
– Ночь, говорю…
– Хорошая.
– Сказка просто!
– Перед рассветом под окном пташка какая-то распевает, – невнятно проговорила Анна, забираясь под руку мужа. – До того красиво…
– Соловей?
– Какие же сейчас соловьи!
– Да, верно…
Замолчали.
Анна, крутившая весь день тяжелую веялку, скоро уснула.
Михайло полежал еще немного, потом осторожно высвободил свою руку, вылез из-под одеяла и на цыпочках вышел из избы.
Когда через полчаса Анна хватилась мужа и выглянула в окно, она увидела его у машины. На крыле ослепительно блестели под луной его белые кальсоны. Михайло продувал карбюратор.
Анна негромко окликнула его.
Михайло вздрогнул, сложил на крыло детали и мелкой рысью побежал в избу. Молчком залез под одеяло и притих.
Анна, устраиваясь около его бока, выговаривала ему:
– На одну ночь приедет и то норовит убежать! Я ее подожгу когда-нибудь, твою машину. Она дождется у меня!
Михайло ласково похлопал жену по плечу – успокаивал.
Когда обида малость прошла, он повернулся к ней и стал рассказывать шепотом:
– Там что, оказывается: ма-аленький клочочек ваты попал в жиклер. А он же, знаешь, жиклер… там иголка не пролезет.
– Ну, теперь-то все хоть?
– Конечно.
– Бензином опять несет! Ох… господи!..
Михайло хохотнул, но тут же замолчал.
Долго лежали молча. Анна опять стала дышать глубоко и ровно.
Михайло осторожно кашлянул, послушал дыхание жены и начал вытаскивать руку.
– Ты опять? – спросила Анна.
– Я попить хочу.
– В сенцах в кувшине – квас. Потом закрой его.
Михайло долго возился среди тазов, кадочек, нашел наконец кувшин, опустился на колени и, приложившись, долго пил холодный, с кислинкой квас.
– Хо-ох! Елки зеленые! Тебе надо?
– Нет, не хочу.
Михайло шумно вытер губы, распахнул дверь сеней…
Стояла удивительная ночь – огромная, светлая, тихая… По небу кое-где плыли легкие, насквозь пронизанные лунным светом облачка.
Вдыхая всей грудью вольный, настоянный на запахе полыни воздух, Михайло сказал негромко:
– Ты гляди, что делается!.. Ночь-то!..
Письмо любимой
В пятнадцать лет я писал свое первое любовное письмо. Невероятное письмо. Голова у меня шла кругом, в жар кидало, когда писал, но – писал.
Как я влюбился.
Она была приезжая – это поразило мое воображение. Все сразу полюбилось мне в этой девочке: глаза, косы, походка… Нравилось, что она тихая, что учится в школе (я там уже не учился), что она – комсомолка. А когда у них там, в школе, один парень пытался из-за нее отравиться (потом говорили, только попугал), я совсем голову потерял.
Не помню теперь, как случилось, что я пошел провожать ее из клуба.
Помню, была весна… Я даже и не выламывался, молчал. Сердце в груди ворочалось, как картофелина в кипятке. Не верилось, что я иду с Марией (так ее все называли – Мария, и это тоже мне ужасно нравилось!), изумлялся своей смелости, страшился, что она передумает и скажет: «Не надо меня провожать», – и уйдет одна. И мучился – господи, как мучился! – что молчу. Молчу, как проклятый. Ни одного слова не могу из себя выдавить. А ведь умел и приврать при случае, и…
На прощанье только прижал Марию покрепче к груди и скорей-скорей домой, как на крыльях полетел. «Ну, гадство! – думал. – Теперь вы меня не возьмете!» Сильный был в ту ночь, добрый, всех любил… И себя тоже. Когда кого-нибудь любишь, то и себя заодно любишь.
Потом я дня три не видел Марию, она не ходила в клуб. «Ничего, – думал, – я за это время пока осмелею». Успел подраться с одним дураковатым парнем.
– Провожал Марию? – спросил он.
– Ну.
– Гну! Хватит. Теперь я буду.
Колун парень, ухмылка такая противная… Но здоровый. Я умел «брать на калган» – головой бить. Пока он махал своими граблями, я его пару раз «взял на калган», он отстал.
А Марии – нет. (Потом узнали, что отец не стал пускать ее на улицу.) А я думал, что ни капли ей не понравился и она не хочет видеть меня, молчуна. Или – тоже возможно – опасается: выйдет, а я ей всыплю за то, что не хочет со мной дружить. Так делали у нас: не хочет девка дружить с парнем и бегает от него задами и переулками, пока не сыщется заступник.
И вот тогда-то и сел я за письмо.
«Слушай, Мария, – писал я, – ты что, с этим Иваном П. начала дружить? Ты с ума сошла! Ты же не знаешь этого парня – он надсмеется над тобой и бросит. Его надо опасаться, как огня, потому что он уже испорченный. А ты девочка нежная. А у него отец родной – враг народа, и он сам на ножах ходит. Так что смотри. Мой тебе совет: заведи себе хорошего мальчика, скромного, будете вместе ходить в школу и одновременно дружить. А этого дурака ты даже из головы выкинь – он опасный. Почему он бросил школу? Думаешь, правда, по бедности? А ху-ху не хо-хо? Он побывал в городе, снюхался там с урками, и теперь ему одна дорожка – в тюрьму. Так что смотри. С какими ты глазами пойдешь потом в школу, когда ему выездная сессия сунет в клубе лет пять? Ты же со стыда сгоришь. Что скажут тебе твои родные мать с отцом, когда его повезут в тюрьму? А его повезут, вот увидишь. У него все мысли направлены – где бы только своровать или кого-нибудь пырнуть ножом. Ну, тебя он, конечно, не пырнет, но научит плохому. Какая про тебя славушка пойдет! А ты еще молодая, тебе жить да жить. А его песенка спета. Опасайся его. Никогда с ним не дружи и обходи стороной. Он знается с такими людьми, которые могут и квартиру вашу обчистить, тем более что вы – богатенькие. Вот он на вас-то и наведет их. А случись – ночное дело – прирезать могут. А он будет смотреть и улыбаться. Ты никогда не узнаешь, кто это тебе писал, но писал знающий человек. И он желает тебе только добра».
Вот так.
Много лет спустя Мария, моя бывшая жена, глядя на меня грустными, добрыми глазами, сказала, что я разбил ее жизнь. Сказала, что желает мне всего хорошего, посоветовала не пить много вина – тогда у меня будет все в порядке. Мне стало нестерпимо больно – жалко стало Марию, и себя тоже. Грустно стало. Я ничего не ответил.
А письмо это я тогда не послал.
Правда
На межрайонном совещании председателей колхозов и директоров совхозов Николай Алексеевич Аксенов, председатель колхоза «Пламя коммунизма», – Аксеныч, как его попросту называли, – выдал такую огневую речь, что сам потом удивился.
Он то гремел с трибуны, подвергая беспощадной критике недостатки в своем колхозе, то, указывая прокуренным пальцем на аудиторию, тихо и строго предупреждал: «Но учтите, дорогие товарищи, мы все это исправим. Исправим». Под конец, правда, он дал маху: забыл в пылу выступления, что кукурузу называют «королевой полей», и назвал ее «русской красавицей». В зале засмеялись и долго хлопали Аксенову.
Сейчас, копаясь в моторе своего «козла», Аксеныч с удовольствием думал: «Могу, язви тя в легкое!»
Сзади кто-то негромко спросил:
– Вы к себе сейчас едете?
Аксенов обернулся: спрашивал невысокий, бритый наголо, с серым лицом, большеротый. Смотрел спокойно, чуть насмешливо. Аксенов узнал: новый директор Березовского совхоза, сосед Аксенова.
– Подбросить, что ли?
– Да.
– Сейчас… – Аксенов опять уткнулся в мотор. – Свечи закидало… – Он вывернул запальную свечу, подчистил ножом контакты-усики, поскоблил, протер, продул и ввернул опять.
Большеротый все стоял и смотрел ему в спину.
«Как же его фамилия?» – пытался вспомнить Аксеныч. Он еще не был знаком с новым директором, но слышал о нем как о человеке странном. В чем заключалась эта странность, он сейчас не мог вспомнить, так же как и фамилию директора.
Во время совещания прошел хороший дождь, дороги размыло.
Пока выбирались на гравийную дорогу, молчали. Задок «козла» заносило из стороны в сторону. Аксеныч ожесточенно крутил баранку и ворчал:
– Черт-те надавал!.. В районном центре не могут дорогу сделать как следует. Ты гляди!..
Большеротый сидел с ним рядом, курил, безучастно смотрел вперед.
Когда наконец выбрались на гравий и машина пошла ровно, Аксеныч откинулся на спинку сиденья, достал одной рукой папиросы, закурил.
– Слышал, как я выступал? – спросил он, опять с удовольствием вспомнив свое выступление.
– Слышал, – откликнулся большеротый.
Аксеныч подождал, не скажет ли он чего еще, и, не дождавшись, спросил:
– Как, по-твоему?
– Что?
– Выступил-то.
– По-моему, плохо. – Большеротый повернул голову к Аксенычу и посмотрел ему прямо в глаза, просто и спокойно.
Аксеныч на секунду-две забыл про штурвал: засмотрелся на чистые, незлые, насмешливые глаза нового соседа. Взгляд этих глаз был тверд.
Директор первый отвернулся, показал глазами на дорогу. Аксеныч круто вывернул руль, сбавил скорость.
«Завидует, лысан! Сам не умеет выступать и завидует другим», – подумал Аксеныч, но не успокоился от этой мысли.
– Почему плохо?
– А вы думаете, хорошо?
– Я ничего не думаю, – обозлился Аксенов, – я просто спрашиваю, почему плохо, и все.
– Плохо потому, что ничего конкретного. Одни возгласы да обещания. Недостатки, положим, были названы, но… и то, я вам скажу, схитрили вы здесь.
– Как это?
– Назвали такие недостатки, за которые головы не снимают. – Большеротый повернулся к Аксенову и улыбнулся. – Так ведь?
Аксенов презрительно прищурил глаза.
– Чего так? – Он чувствовал себя глупо.
– Клуб не достроили – это полбеды. За это можно бить себя в грудь.
– А еще что? Что я утаил, например?
– А мор свиней в прошлом месяце?.. Это же не стихийное бедствие, это безалаберность. Халатность. – Директор выговорил эти два слова твердым, спокойным голосом – он их не выбирал и ни на мгновение не задумался: говорить ли этими или подыскать другие? – У вас есть акт ветврача об этом. Скрыли.
У Аксенова от злости засосало под ложечкой. Особенно возмутил его этот спокойный, уверенный тон директора. Он некоторое время молчал.
– Что же ты не сказал об этом?
Директор ответил тоже не сразу.
– Скажу. Вот осмотрюсь немного – начну говорить.
– Достанется нам тогда на орехи! – воскликнул Аксеныч. Он хотел еще добавить: «Таким большим ртом можно мно-ого наговорить всякой всячины». Но удержался. С этой минуты он горячо невзлюбил директора и даже забыл подумать, откуда новичку известны такие факты, как припрятанный до поры до времени акт о падеже свиней в колхозе «Пламя коммунизма», в котором есть и эти слова: «безалаберность» и «халатное отношение». – Несдобровать нам тогда! А? – Аксеныч окинул насмешливым взглядом соседа. Он тоже решил казаться насмешливым.
– Не знаю, как насчет сдобровать, но акты из столов… – тут директор несколько замялся, – акты придется вытащить. Они не для того пишутся, чтобы лежать в столах. Правильно? – Директор засмеялся и хлопнул Аксенова по плечу: он отчего-то развеселился.
Аксенов резко шевельнул плечом, скидывая руку директора.
– Не лапай, я не баба.
– О!
«Запугать хочет. Как с ребенком разговаривает, стервец. Стреляный воробей, вообще-то говоря, – думал Аксенов. – В секретари метит. Как бы тебя ущемить, черта лысого? Высажу сейчас посреди дороги. Скажу, что в другую сторону надо». Но вместо этого неожиданно для себя Аксеныч покосился на директора и усмехнулся.
– Поглядим, сосед, как ты развернешься. Ой, поглядим!
– Развернемся! – Директор улыбнулся бескровными губами. И так хорошо он улыбнулся, что Аксенов почему-то вдруг поверил: этот развернется. Что-то такое было у него припрятано про запас – и чувствуешь, но не понимаешь, что именно. Развернется и будет все такой же насмешливый и спокойный.
– Посмотрим, посмотрим! – еще раз сказал Аксенов, и таким тоном, точно обещал новичку верную каторгу через год-другой.
Но удивительное дело: сам он не поверил в то, в чем хотел убедить нового директора, и почувствовал фальшь в своем самонадеянном, ни на чем не основанном тоне, когда произнес это «посмотрим». «Черт его знает… пугаю к чему-то человека».
Горечь от сознания, что человек, сидящий рядом с ним, имеет смелость быть правдивым и прямо смотреть ему в глаза, прошла у Аксенова; эта горечь сменилась теперь острым желанием и самому заглянуть в глаза новому человеку, послушать его, понять, откуда у него такая уверенность в себе и в своих будущих делах на новом месте. Аксенов вовсе не струсил и не заискивал перед новым соседом – он сам был достаточно силен и крут, чтобы не заискивать, – просто захотел узнать этого человека поближе.
– Откуда сам?
– Из Калуги.
– Инженер?
– Точно.
– К нам… по охоте аль неволей?
– По охоте, почему же неволей! – Новичок повернулся к Аксенову, и на его сером квадратном лице изобразилось удивление.
«Значит, инженер так себе. Хорошего не отпустят с завода, – не без ехидства подумал Аксеныч. – Воображаешь ты много, друг милый».
– А все-таки зря ты легко смотришь на свое, так сказать, ближайшее будущее, – не удержался и еще раз сказал Аксенов. – Наше дело сложное, посложней заводского.
– Ничего, – сказал новичок, и Аксенова опять взяла досада: в конце концов не мешало бы новичку прислушаться к словам опытных людей. Едет, как к теще на блины.
Подъехали тем временем к чайной на окраине большого села. Остановились.
– Закусим?