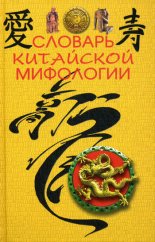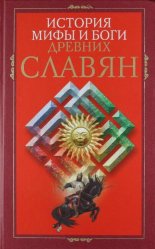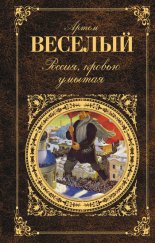Полное собрание рассказов в одном томе Шукшин Василий
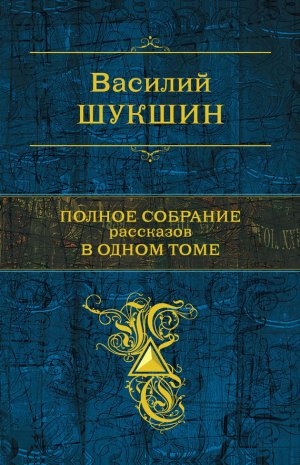
– Продолжай.
– Я пришел за трудовой книжкой, мне нечего продолжать. Заявление подписано? Подписано. Давай трудовую книжку.
– А хочешь, я тебе туда статью вляпаю?
– За что? – растерялся Колька.
– За буйство. За недисциплинированность… Ма-аленькую такую пометочку сделаю, и ты у меня здесь станцуешь… краковяк. – Синельников наслаждался Колькиной растерянностью, но он даже и наслаждался-то как-то уныло, невыразительно. Колька, однако, взял себя в руки.
– За что же ты мне пометочку сделаешь?
– Сделаю пометочку, ты придешь ямы копать под опоры, а тебе скажут: «Э-э, голубчик, а у тебя тут… Нет, – скажут, – нам таких не надо». И все. И отполучал ты по двести рублей на своих ямах. Так что нос-то особо не задирай. Он, видите ли, лаяться будет тут… Дерьмо. – Синельников все не повышал голоса, он даже и руку не отнял от головы – все сидел как в президиуме.
– Кто? – спросил Колька. – Как ты сказал?
– Чего «кто»?
– Я-то? Как ты сказал?
– Дерьмо, сказал.
Колька взял пузырек с чернилами и вылил чернила на белый костюм Синельникова. Как-то так получилось… Колька даже не успел подумать, что он хочет сделать, когда взял пузырек… Плеснул – так вышло. Синельников отнял руку от головы. Чуть подумал, быстро снял пиджак, встал и подержал пиджак на вытянутых руках, пока чернила стекали на пол. Чернила стекли… Синельников осторожно встряхнул пиджак, еще подождал и повесил пиджак на спинку стула. После того оглядел рубашку и брюки: пиджак не успел промокнуть, на брюки не попало.
– Так… – сказал Синельников. – Выбирай: двадцать рублей за химчистку и окраску всего костюма или подаю в суд за оскорбление действием.
– Ты же первый начал оскорблять…
– Я – словами, никто не слышал, чернила – вот они, налицо. Причем химические. – И опять Синельников говорил ровно, бесцветно. Поразительный человек! – Твое счастье, что я его все равно хотел красить. Еще не знаю, берут ли в чистку с химическими чернилами… Двадцать пять рублей. – Синельников взялся за телефон. – Решай. А то звоню в милицию.
Колька уже понял, что лучше заплатить. Но его возмутило опять, что этот законник на глазах стал нагло завышать цену.
– Почему двадцать пять-то? То – двадцать, а то сразу – двадцать пять. Еще посидим, ты до полста догонишь?..
– Пять рублей – это дорога в район: туда и обратно. Я сразу не сообразил.
– Что, по два с полтиной в один конец, что ли? Тебя за полтинник на попутной любой довезет.
– На попутной я не хочу. Туда – на попутной, а оттуда – такси возьму.
– Фон-барон нашелся!.. «На такси-и»!
– Да, на такси. Что – дико?
– Не дико, а… на дармовщинку-то выдрючиваться – неужели не совестно?
– Ты меня чернилами окатил – тебе не совестно? Что же я – за свой собственный костюм на попутных буду маяться? Двадцать пять. Пиши.
– Чего?
– Расписку. – Синельников пододвинул Кольке лист бумаги.
Колька брезгливо взял лист…
– Как писать-то?
– Я, такой-то, – полностью имя, отчество, – обязуюсь выплатить товарищу Синельникову Вячеславу Михайловичу двадцать пять – прописью – рублей, ноль-ноль копеек…
Колька зло усмехнулся, покачал головой.
– «Ноль-ноль копеек»!.. Командующий, мля!..
– Ноль-ноль копеек за умышленную порчу белого костюма товарища Синельникова В. М.
Колька остановился писать.
– Для чего же писать «умышленную»? Раз я добровольно соглашаюсь платить, зачем же так писать? Там где-нибудь прочитают и начнут… начнут придираться.
Синельников подумал.
– Ладно, пиши: за порчу костюма товарища… белого костюма товарища Синельникова В. М.
Колька пропустил слово «товарища», написал: «белого костюма Синельникова».
– Химическими чернилами…
Колька взял пузырек, посмотрел.
– Разве для авторучек бывают химические?
– А какие же? Отчетные ведомости мы только химическими пишем.
– Писатели, мля… – проворчал Колька.
– Подпись. Число.
Колька расписался. Поставил число. Синельников взял расписку.
– Сколько тебе под расчет причитается?
– А я откуда знаю? Ты лучше тут знаешь.
– После обеда зайдешь за расчетом. И за книжкой.
Колька встал.
– Ты это… не говори никому, что… слупил с меня четвертной. А то дойдет до моей… хаю не оберешься. Напиши чего-нибудь.
– Ладно.
Колька пошел к двери. На пороге остановился, посмотрел на плотного человека с белыми бровями. Синельников тоже посмотрел на него.
– Что?
– Хо-о, – сказал Колька. Качнул головой и вышел из кабинета.
В коридоре разок про себя матюкнулся.
«Четвертной – как псу под хвост сунул. Свернул трубочкой и сунул». Но вспомнил, что он на ямах теперь будет зарабатывать по двести – двести пятьдесят рублей… И успокоился. «Да гори они синим огнем! – подумал. – Жалеть еще…»
Пост скриптум
Чужое письмо
Это письмо я нашел в номере гостиницы, в ящике длинного узкого стола, к которому можно подсесть только боком. Можно сесть и прямо, но тогда надо ноги, положив их одну на другую, просунуть между тем самым ящиком, где лежало письмо, и доской, которая прикрывает батарею парового отопления.
Я решил, что письмо это можно опубликовать, если изменить имена. Оно показалось мне интересным.
Вот оно:
«Здравствуй, Катя! Здравствуйте, детки: Коля и Любочка! Вот мы и приехали, так сказать, к месту следования. Город просто поразительный по красоте, хотя, как нам тут объяснили, почти целиком на сваях. Да, Петр Первый знал, конечно, свое дело туго. Мы его, между прочим, видели – по известной тебе открытке: на коне, задавивши змею.
Сначала нас хотели поместить в одну гостиницу, но туда как раз приехали иностранцы, и нас повезли в другую. Гостиница просто шикарная! Я живу в люксе на одного под номером 4009 (4 – это значит четвертый этаж, 9 – это порядковый номер, а два нуля – я так и не выяснил). Меня поразило здесь окно. Прямо как входишь – окно во всю стену. Слева свисает железный стерженек, к стерженьку прикреплен тросик, тросик этот уходит куда-то в глубину… И вот ты подходишь, поворачиваешь за шишечку влево, и в комнате такой полумрак. Поворачиваешь вправо – опять светло.
А все дело в жалюзях, которые в окне. Есть, правда, и занавеси, но они висят сбоку без толку. Если бы такие продавали, я бы сделал у себя дома. Я похожу поспрашиваю по магазинам, может, где-нибудь продают. А если нет, то я попробую сделать из длинных лучинок. Принцип работы этого окна я вроде понял, веревочки найдем – они на трех веревочках. Есть еще одна особенность у этого окна: оно открывается снизу, а посредине поворачивается на стержнях. Дежурная по коридору долго тут пыталась мне объяснить, как открывать и закрывать окно, пока я не остановил и не намекнул ей, что не все такие дураки, как она думала. Кровать я такую обязательно сделаю, как здесь. Поразительная кровать. Мы с Иваном Девятовым набросали с нее чертеж. Ее – пара пустяков сделать.
На шестом этаже находится буфет, но все дорого, поэтому мы с Иваном перешли, как говорится, на подножный корм: берем в магазине колбасы и завтракаем и ужинаем у меня в люксе. Дежурная по коридору говорит, что это не запрещается, но только чтоб за собой ничего не оставляли. А сперва было заартачилась: надо, дескать, в буфет ходить. Мы с Иваном объяснили ей, что за эти деньги, которые мы проедим в буфете, мы лучше подарки домой привезем. Она говорит, я все понимаю, поэтому кожуру от колбасы свертывайте в газетку и бросайте в проволочную корзиночку, которая стоит в туалете. Опишу также туалет. Туалет просто поразительный. Иван говорит: содрали у иностранцев. Да, действительно, у иностранцев содрали много кое-чего. Например, жалюзи. У нас тут одна из Красногорского района сперва жалела лить много воды, когда мылась в ванной, но ей потом объяснили, что это входит в стоимость номера, так же, как легкий обед в самолете. Я лично моюсь теперь каждый день. Меня вообще-то ванной не удивишь, но поразительно другое: блеск и чистота. Вымоешься, спустишь жалюзи, ляжешь на кровать и думаешь: вот так бы все время жить, можно бы сто лет прожить, и ни одна хворь тебя бы не коснулась, потому что все продумано. Вот сейчас, когда я пишу это письмо, за окном прошли морячки строем. Вообще, движение колоссальное.
Но что здесь поражает, так это вестибюль. У меня тут был один неприятный случай. Подошел я к сувенирам – лежит громадная зажигалка. Цена – 14 рублей. Ну, думаю, разорюсь – куплю. Как память о нашем пребывании. Дайте, говорю, посмотреть. А стоит девчушка молодая… И вот она увивается перед иностранцами – и так и этак. Уж она и улыбается-то, она и показывает-то им все, и в глаза-то им заглядывает. Просто глядеть стыдно. Я говорю: дайте зажигалку посмотреть. Она на меня: вы же видите, я занята! Да с такой злостью, куда и улыбка девалась. Ну, я стою. А она опять к иностранцам, и опять на глазах меняется человек. Я и говорю ей: что ж ты уж так угодничаешь-то? Прямо на колени готова стать. Ну, меня отвели в сторонку, посмотрели документы… Нельзя, мол, так говорить. Мы, мол, все понимаем, но тем не менее должны проявлять вежливость. Да уж какая тут, говорю, вежливость: готова на четвереньки стать перед ними. Я их тоже уважаю, но у меня есть своя гордость, и мне за нее неловко. Ограничились одним разговором, никаких оргвыводов не стали делать. Я здесь не выпиваю, иногда только пива с Иваном выпьем, и все. Мы же понимаем, что на нас тоже смотрят. Дураков же не повезут за пять тысяч километров знакомить с памятниками архитектуры и вообще отдохнуть.
Смотрели мы тут одну крепость. Там раньше сидели зэки. Нас всех очень удивило, как у них там чистенько было, опрятно. А сроки были большие. Мы обратились к экскурсоводу: как же так, мол? Он объяснил, что, во-первых, это сейчас так чистенько, потому что стал музей, во-вторых, гораздо больше издевательства, когда чистенько и опрятно: сидели здесь в основном по политическим статьям, поэтому чистота как раз угнетала, а не радовала. Чистота и тишина. Между прочим, знаешь, как раньше пытали? Привяжут человека к столбу, выбреют макушку и капают на эту плешину по капле холодной воды – никто почесть не выдерживал. Вот додумались! Мы тоже удивлялись, а некоторые совсем не верили. Иван Девятов наотрез отказался верить. Мне, говорит, хоть ее ведрами лей… Экскурсовод только посмеялся. Вообще, время проводим очень хорошо. Погода, правда, неважная, но тепло. Обращают на себя внимание многочисленные столовые и кафе, я уж и не заикаюсь про рестораны. Этот вопрос здесь продуман. Были также с Иваном на базаре – ничего особенного: картошка, капуста и вся прочая дребедень. Но в магазинах – чего только нет! Жалюзей, правда, нет. Но вообще город куда ближе к коммунизму, чем деревня-матушка. Были бы только деньги. В следующем письме опишу наше посещение драмтеатра. Колоссально!
Показывали москвичи одну пьесу… Ох, одна артистка выдавала! Голосок у ней все как вроде ломается, вроде она плачет, а – смех. Со мной сидел один какой-то шкелет – морщился: пошлятина, говорит, и манерность. А мы с Иваном до слез хохотали, хотя история сама по себе грустная. Я потом расскажу при встрече. Ты не подумай там чего-нибудь такого – это же искусство. Но мне лично эта пошлятина, как выразился шкелет, очень понравилась. Я к тому, что необязательно – женщина. Мне также очень понравился один артист, который, говорят, живет в этом городе. Ты его, может, тоже видала в кино: говорит быстро-быстро, легко, как семечки лускает. Маленько смахивает на бабу – голоском и манерами. Наверно, пляшет здорово, собака! Ну, до свиданья! Остаюсь жив-здоров.
Михаил Демин.
Пост скриптум: вышли немного денег, рублей сорок: мы с Иваном малость проелись. Иван тоже попросил у своей шестьдесят рублей. Потом наверстаем. Все».
Вот такое письмо. Повторяю, имена я переменил.
А шишечка эта на окне – правда, занятная: повернешь влево – этакий зеленоватый полумрак в комнате, повернешь вправо – светло. Я бы сам дома сделал такую штуку. Надо тоже походить по магазинам поспрашивать: нет ли в продаже.
Билетик на второй сеанс
Последнее время что-то совсем неладно было на душе у Тимофея Худякова – опостылело все на свете. Так бы вот встал на четвереньки, и зарычал бы, и залаял, и головой бы замотал. Может, заплакал бы.
Пил со сторожем у себя на складе (он был кладовщиком перевалочной товарной базы) – не брало. Не то что не брало – легче не делалось.
– С чего эт тебя так? – притворно сочувствовал сторож Ермолай.
Тимофей понимал притворство Ермолая, но все равно жаловался:
– Судьба-сучка… – И дальше сложно: – Чтоб у ней голова не качалась… Чтоб сухари в сумке не мялись… – Тимофей, когда у него болела душа, умел ругаться сладостно и сложно, точно плел на кого-то, ненавистного, многожильный ременный бич. Ругать судьбу до страсти хотелось, и поэтому было еще «двенадцать апостолов», «осиновый кол в бугорок», «мама крестителя» – много.
Даже Ермолай изумлялся:
– Забрало тебя!
– Заберет, когда она, сучка, так со мной обошлась.
– Ну, если уж тебе на судьбу обидеться, то… не знаю. Чего тебе не хватает-то? В доме-то всего невпроворот.
Тимофею не хотелось объяснять дураку-сторожу, отчего болит душа. Да и не понимал он. Сам не понимал. В доме действительно все есть, детей выучил в институтах… Было время, гордился, что жить умеет, теперь тосковал и злился. А сторож думал про себя: «Совесть тебя, дьявола, заела: хапал всю жизнь, воровал… И не попался ни разу, паразит!»
– Разлад, Ермоха… Полный разлад в душе. Сам не знаю отчего.
– Пройдет.
Не проходило.
В тот день, в субботу (он весь какой-то вышел, день, нараскосяк), Тимофей опечатал склад, опять выпили со сторожем, и Тимофей пошел домой. Домой не хотелось – там тоже тоска, еще хуже: жена начнет нудить.
Была осень после дождей. Несильно дул сырой ветер, морщил лужи. А небо с закатного края прояснилось, выглянуло солнце. Окна в избах загорелись холодным желтым огнем. Холодно, тоскливо. И как-то противно ясно…
Тимофей думал: «Вот – жил, подошел к концу… Этот остаток в десять-двенадцать лет, это уже не жизнь, а так – обглоданный мосол под крыльцом – лежит, а к чему? Да и вся-то жизнь, как раздумаешься, – тьфу! Вертелся всю жизнь, ловчил, дом крестовый рубил, всю жизнь всякими правдами и неправдами доставал то то, то это… А Ермоха, например, всю жизнь прожил валиком – рыбачил себе в удовольствие: ни горя, ни заботы. А червей вместе будем кормить. Но Ермоха хоть какую-нибудь радость знал, а тут – как циркач на проволоке: пройти прошел, а коленки трясутся».
Шел Тимофей, думал… И взял да свернул в знакомый переулок. Жила в том знакомом переулке Поля Тепляшина. Когда-то давно Тимофей с Полей «крутили» преступную любовь. Были скандалы, битье окон, позор. Жена Тимофея, Гутя, семь лет отчаянно боролась с Полей за Тимоху, Гутю хвалили в деревне, она гордилась и учила молодых баб, какие оказывались в ее положении:
– Он к сударушке, а ты – со стяжком – под окошки к им. Да по окошкам-то, по окошкам-то – стяжком-то…
Бывала в деревне такая любовь – со стяжками. Теперь лучше – разошлись, и все. Раньше годами лютовали.
С Тимохиной любовью тогда все само собой утряслось: у вдовы Поли подрос сын Колька, Николай Петрович, и стал гонять Тимофея от матери. Тимофей набычился – к Поле:
– Уйми сосуна!
А та вдруг залепила:
– Пошел ты!.. Чего я, сына на тебя променяю? На – выкуси.
Тимофей хотел разок покуражиться, но нарвался на молодой Колькин кулак и после этого перестал туда ходить. Самое дурацкое положение настало потом: обе женщины, Поля и Гутя, вдруг подружились. И вместе смеялись над Тимохой.
– Как там сударчик-то мой поживает? – принародно спрашивала Поля.
Гутя смеялась:
– На печке – клопов давит.
Мстили, что ли.
Тимоха тогда же налетел на законную жену, но получил отпор на этот раз от своих детей.
Спроси сейчас Тимофей, зачем он идет к Поле, он не сказал бы. Не знал.
Поля удивилась.
– Вона!.. Вот так гость. Зачем это?
– А что? Что ты, заразная, что ли, что тебя обходить надо? Посидим по старой памяти, выпьем вот… – У Тимофея была с собой бутылка, он ее поставил на стол. – Спомним былое…
– Было бы чего!
Поля стала старая, некрасивая. Тимофей со злости подумал: «Она красивой-то и не была сроду». Стало вдруг жалко себя.
– Хошь, анекдот один расскажу?
– Вона!
– Чего ты, как попка, заладила: «вона! вона!» Как дикари, честное слово. Ну, зашел… Ну, и что? Глупые вы какие-то, бабы, честное слово!
– Чего же ходите – к глупым-то?
– А где вас, умных-то, взять? Так и меняешь – шило на мыло.
– Небось ревизия была – злой-то?
– На меня еще такой ревизор не родился…
– Оно видно.
Тимофей выпил стакан – закусить чем-нибудь не спросил, Поля не предложила. Зато и он Полю не пригласил с собой выпить.
– Слушай анекдот. Приехал один мужик в город, идет по улице… А сам доходной-доходной – мужик-то. Но все-таки думает: где бы тут подцепить какую-нито? Слыхал, значит, про городских-то, ну и мысли-то заиграли. И тут подходит к нему одна – гладкая вся, тут – полна пазуха, вежливая. «Пойдемте ко мне, я тут близко живу». Мужик радешенький – сама навялилась. Приходют. Она говорит: «Раздевайтесь, я счас приду». А сама – в другую комнату. Ну, он разделся, сидит. Ждет. А она выводит детей малых и говорит им: «Вот, детки, если не будете хорошо кушать, будете такие же худые, как вот этот дядя».
Полю эта история не рассмешила. Тимофею тоже было не смешно. А днем, когда рассказали, смеялся с шоферами. И подумал еще, что историйка поучительная.
– К чему эт ты? – спросила Поля.
Тимофей пояснил:
– Точно так со мной выкинула судьба-сучка. Живи, мол, Тимофей!.. Раз башка есть на плечах – живи, никого не бойся! Ну, Тимофей и разлысил лоб…
– Жил бы честно, никого бы и не боялся.
Это она больно уела.
Тимофей стал соображать, как бы ее тоже побольней укусить.
– Не знаешь, кто это вот тут, – показал на кровать, – честно с чужим мужиком миловался? Не приходилось слышать?
– Приходилось. А тебе не приходилось слышать, кто на этом же самом месте от живой жены с чужой бабой миловался? Я одинокая была, вдова, а ты семейный. Поганец ты…
Тимофей еще выпил. Вот теперь он, кажется, все понял: жалко себя, жалко свою прожитую жизнь. Не вышло жизни.
– Сказка про белого бычка у нас получается, Поля…
Поля засмеялась.
– Чего смеешься? – спросил Тимофей.
– А чего мне не посмеяться?
– Не надо… Тебе не личит – зубы кривые.
– А ведь когда-то не замечал…
– Замечал, почему не замечал, только… Эхма! Что ведь и обидно-то, дорогуша моя: кому дак все в жизни – и образование, и оклад дармовой, и сударка пригожая, с сахарными зубами. А Тимохе, ему с кривинкой сойдет, с гнильцой…
– Во змей-то! – изумилась Поля. – Козел вонючий. Ну-ка забирай свою бутылку – и чтоб духу твоего тут не было! А то возьму ухват вон да по башке-то по умной… Умник!
Тимофей аккуратно надел на бутылку железненькую косыночку, устроил бутылку во внутренний карман пиджака и, не торопясь, пошел прочь. Стало вроде малость полегче. Но хотелось еще кому-нибудь досадить. Кому-нибудь так же бы вот спокойно, тихо наговорить бы гадостей.
Пришел он домой, а дома, в прихожей избе, склонившись локотком на стол, сидит… Николай-угодник. По всем описаниям, по всем рассказам – вылитый Николай-угодник: белый, невысокого росточка, игрушечный старичочек. Сидит, головку склонил, смотрит ласково. Больше никого в доме нет.
– Ну, здравствуй, Тимофей, – говорит.
Тимофей глянул кругом… И вдруг бухнулся в ноги старичку. И, стараясь тоже ласково, тоже кротко и благостно, сказал тихо:
– Здорово, Николай-угодничек. Я сразу тебя узнал, батюшка.
Угодник весь как-то встрепенулся, удивился, засмеялся мелко, погрозил пальцем.
– Пьяненький?
– А – есть маленько! – с отчаянной какой-то веселостью, с любовью продолжал Тимофей. – С тоски больше… не обессудь, батюшка. С тоски. Шибко-то не загуливаюсь. Ребятишек теперь вырастил – чего, думаю, теперь не попить? Какой ты, батюшка, седенький… А чего пришел-то?
Угодник поморгал ясными глазами… Опять посмеялся.
– С чего тоска-то?
– Тоска-то? А бог ее знает! Не верим больше – вот и тоска. В боженьку-то перестали верить, вот она и навалилась, матушка. Церквы позакрывали, матерщинничаем, блудим… Вот она и тоска.
– А ты веровал ли когда?
– Батюшка!.. Вот те крест: маленький был, веровал. В Рождество Христа славить ходил. Не приди большевики, я бы и теперь, может, верил бы.
– Сам-то не коммунист?
– Откуда! Я бы, может, и коммунистом стал – перед тобой-то чего лукавить! – но был у меня тесть – ни дна бы ему, ни покрышки! – его в тридцатом году раскулачили…
– Ну.
– Ну, я с той поры и завязал рот тряпочкой и не заикался никогда.
Угодник больше того удивился. Горько удивился.
– Ты что, Тимофей?
– Как на духу, батюшка! Дак ты чего пришел-то? К добру или к худу – как понимать-то?
Угодник потрогал маленькой сморщенной ладонью белую бородку.
– Чего пришел… Да вот попроведать вас, окаянных, пришел. Ты, однако, подымись с колен-то.
– Постою! Чего мне не постоять? Не отсохнут. Что, батюшка, так вот походишь, поглядишь по свету-то: испаскудился народишко?
– Маленько есть. Значит, говоришь, тесть тебе перешел дорогу?
– Перешел. Да он и кулаком-то, по правде сказать, никогда не был, так – заупрямился тогда, с колхозами-то, нашумел, натрепался где-то… Трепач он был, тесть-то. Дурак дураком. Ботало коровье. Жил, правда, крепко. А я середнячишко был… мне бы в партию большевиков-то можно бы…
– И что же он, тесть-то?
– Отпыхтел свое, пришел. Я его так и не видел – далеко живем друг от друга. У сына он живет, балда старая. А сын далеко где-то. Так, говоришь, испаскудился народишко?
– Здорово испаскудился, – серьезно сказал Угодник.
– Совсем никудышный стал народ! – подхватил Тимофей. – Пьют, воруют… Я и то приворовываю на складе. Знамо, грех, но поглядишь кругом-то – господи-господи, что делается!
– Приворовываешь?
– Приворовываю, батюшка. Ребятишек вон выучил – на какие бы шиши, так-то? Батюшка… – Тимофей весь собрался, подполз поближе. – Чего я тебя хотел попросить…
– Ну?
– Ты там к Господу нашему, Исусу Христу, близко сидишь… К Деве Марии… Посоветуйтесь там сообча, да и… это… Шибко уж жалко, батюшка! До того жалко, сердце обмирает. Ведь я мужик-то неглупый, ведь у меня грамотешки-то совсем почти нету, а я вон каких молодцев обвожу вокруг пальца…
– Не пойму я.
– Родиться бы мне ишо разок! А? Пусть это не считается, что прожил, – родите-ка вы меня ишо разок. А?
Угодник опять невольно рассмеялся:
– То жалуется – тоска, а то… Ну и сукин ты сын, Тимоха!
– Да потому я жалуюсь, что жизнь-то не вышла! – Тимофей готов был заплакать злыми слезами. – Ты вот смеешься, а мало тут смешного, батюшка, одна грусть-тоска зеленая. Ведь вон на земле-то… хорошо-то как! Разве ж я не вижу, не понимаю, все понимаю, потому и жалко-то. Тьфу! – да растереть, вот и вся моя жизнь.
– А как бы ты, интересно, жить стал? Другой-то раз…
– Перво-наперво я б на другой бабе женился. Про любовь даже в Библии писано, а для меня – что любовь, что чирей на одном месте, прости, господи, – одинаково. Или как все одно килу смолоду нажил – так и жена мне: кряхтишь, а носишь. Никудышная бабенка попалась. Дура. Вся в папашу своего. Хайло разинет и давай – только и знает. Сундук плетеный, не баба. Из-за нее больше и приворовываю-то. Жадная!.. Несусветно жадная. А с моей-то башкой – мне бы и в начальстве походить тоже бы не мешало… Из меня бы прокурор, я думаю, неплохой бы получился. – Тимофей засмотрелся снизу в святые глаза Угодника. – Тестюшку, например, своего я б тада так законопатил, что он бы и по сей день там… За язычину его…
– Цыть! – зло сказал старичок. – Ведь я и есть твой тесть, дьявол ты! Ворюга. Разуй глаза-то! Допился?
Тимофей, удовлетворенный, поднялся с колен, отряхнул штаны и спокойно и устало сказал:
– Гляди-ка, правда – тесть. Тестюшка! Ну, давай выпьем. Со стречей. Вишь, за кого я тебя принял…
– Допился, сукин сын!
– Все секреты свои рассказал тебе. Тц! Ну, ничего – знай. Вот ведь как обознался! Это ж надо так вклепаться… А-я-я-яй.
…Потом, когда выпили, тесть, оскорбленный за себя и за дочь, тыкал под нос Тимофею опрятный кукиш и твердил скороговоркой:
– Вот тебе, а не другую жись! Вот тебе – билетик на второй сеанс! Ворюга…
А Тимофей, красный, удовлетворенный, повторял:
– Ах, как я вклепался!.. А-я-я-я-яй! Это ж надо так!
– Я тебя самого посажу, ворюга!
– Кто, ты? Господь с тобой! Кто тебе поверит, лишенцу?
– Вот, вот тебе – билетик на второй сеанс! Хе-хе-хе! Другой раз жить собрался!.. На-ка! – Тесть-угодник хотел опять угодить под нос зятю белым кукишком, но зять вылил ему на голову стакан водки и, пугая, полез в карман за спичками.
– Подожгу ведь…
Тесть-угодник вытерся полотенцем и заплакал.
– Чего ты, Тимоха?.. Над старым-то человеком… Бесстыдник ты! Дешевка… Приехал к нему, как к доброму…
– В том-то и дело, что не знаю, – миролюбиво уже сказал Тимоха. – Не знаю, тестюшка, не знаю. Я б все честно сказал, только не знаю, чего такое со мной делается. Пристал, видно, так жить. Насмерть пристал. Укатали сивку… Жалко. Прожил, как песню спел, а спел плохо. Жалко – песня-то была хорошая. Прости за комедию-то. Прости великодушно.
Дебил
Анатолия Яковлева прозвали на селе обидным, дурацким каким-то прозвищем – Дебил. Дебил – это так прозвали в школе его сына, Ваську, второгодника, отпетого шалопая. А потом это словцо пристало и к отцу. И ничего с этим не поделаешь – Дебил и Дебил. Даже жена сгоряча, когда ругалась, тоже обзывала – Дебил. Анатолий психовал, один раз «приварил» супруге, сам испугался и долго ласково объяснял ей, что Дебил – так можно называть только дурака-переростка, который учиться не хочет, с которым учителя мучаются. «Какой же я Дебил, мне уж сорок лет скоро! Ну?.. Лапочка ты моя, синеокая ты моя… Свинцовой примочкой надо – глаз-то. Купить?»
Так довели мужика с этим Дебилом, что он поехал в город, в райцентр, и купил в универмаге шляпу. Вообще, он давненько приглядывался к шляпе. Когда случалось бывать в городе, он обязательно заходил в отдел, где продавались шляпы, и подолгу там ошивался. Хотелось купить шляпу! Но… Не то что денег не было, а – не решался. Засмеют деревенские: они нигде не бывали, шляпа им в диковинку. Анатолий же отработал на Севере по вербовке пять лет и два года отсидел за нарушение паспортного режима – он жизнь видел; знал, что шляпа украшает умного человека. Кроме того, шляпа шла к его широкому лицу. Он походил в ней на культурного китайца. Он на Севере носил летом шляпу, ему очень нравилось, хотелось даже говорить с акцентом.
В этот свой приезд в город, обозлившись и, вместе, обретя покой, каким люди достойные, образованные охраняют себя от насмешек, Анатолий купил шляпу. Славную такую, с лентой, с продольной луночкой по верху, с вмятинками – там, где пальцами браться. Он их перемерил у прилавка уйму. Осторожненько брал тремя пальцами шляпу, легким движением насаживал ее, пушиночку, на голову и смотрелся в круглое зеркало. Продавщица, молодая, бледнолицая, не выдержала, заметила строго:
– Невесту, что ли, выбираете? Вот выбирает, вот выбирает, глядеть тошно.
Анатолий спокойно спросил:
– Плохо ночь спали?
Продавщица не поняла. Анатолий прикинул еще парочку «цивилизейшен» (так он про себя называл шляпы), погладил их атласные подкладки, повертел шляпы так, этак и лишь после того, отложив одну, сказал:
– Невесту, уважаемая, можно не выбирать: все равно ошибешься. А шляпа – это продолжение человека. Деталь. Поэтому я и выбираю. Ясно? Заверните. – Анатолий порадовался, с каким спокойствием, как умно и тонко, без злости, отбрил он раздражительную продавщицу. И еще он заметил: купив шляпу, неся ее, легкую, в коробке, он обрел вдруг уверенность, не толкался, не суетился, с достоинством переждал, когда тупая масса протиснется в дверь, и тогда только вышел на улицу. «Оглоеды, – подумал он про людской поток в целом. – Куда торопитесь? Лаяться? Психовать? Скандалить и пить водку? Так вы же успеете! Можно же не торопиться».
По дороге он купил в мебельном этажерку. От шоссе до дома шел не торопясь; на руке, на отлете, этажерочка, на голове шляпа. Трезвый. Он заметил, что встречные и поперечные смотрят на него с удивлением, и ликовал в душе.