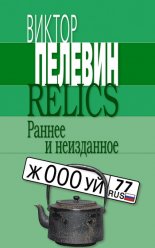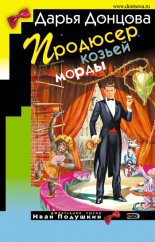Девятный Спас Брусникин Анатолий
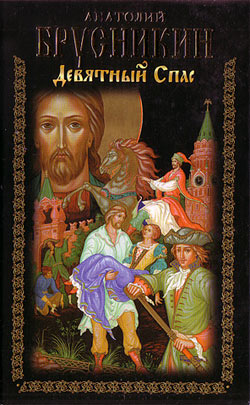
— А божницы-то нету, — шепнул приметливый Лёшка и прикусил язык, потому что из дальнего темного угла вышла Бабинька.
Села к столу, стала разворачивать холщовую тряпицу. В ней что-то сверкнуло.
— Мандракорень! — ахнул Лёшка. — Сейчас Царь-Девицей обернется!
Засопев, дворянский сын отодвинул соседа локтем — желал видеть чудесное превращение во всей доскональности.
Ильша шикнул, чтоб не шуршали — старуха опять забормотала, довольно громко.
— Суженый мой, любенький… Ты на меня пока што не гляди… Вот сейчас, сейчас…
И вынула из завертки кольцо!
— Ага, не верили! — пискнул Алёшка. — Злато кольцо! А Мандракорень она, видать, на пригорке вырыла!
Здесь всем троим пришлось нырнуть под окно, потому что Бабинька оборотилась. То ли была она всё же не вовсе глуха, то ли сквозняком дунуло. А может, просто на молнию, которая как раз шарахнула над самым прудом. Первым осторожненько выглянул Митя.
— Вышла!
Рядом сразу же высунулись еще две головы — белобрысая и рыжая.
В горнице никого не было. На столе, багряно поблескивая в неверном свете лучины, лежало кольцо. Вдруг Илейка, ни слова не говоря, отодвинул друзей, подтянулся, перелез через оконницу и оказался внутри. У остальных разом выдохнулось:
— Ты что?!
Но отчаянный Илья подкатился к столу, схватил кольцо и так же быстро вылез обратно. Хоть у Митьки с Лёшкой сердчишки колотились быстро, а навряд ли успели по двадцати разов стукнуть, вот как быстро управился смельчак.
— С ума ты сошел! — зашипел на него Алёша. — Она теперь знаешь чего с нами сделает? Клади обратно!
— Это ты с ума сошел. — Ильша разглядывал кольцо, попробовал на зуб. Золота он никогда в жизни в руках не держал, но слыхал, что так положено — зачем-то зубом кусать. — Она бы сейчас волшебно кольцо на палец вздела, всю окрест-пость-наскрозьность прозрела, а заодно и нас. Вот тогда бы нам доподлинно канюк.
— Поздно! Идет… — Митька вгляделся в сумрак, где что-то вроде посверкивало. — Ах! Царь-Девица!
Кто-то шел из сумрака: в длинном переливчатом платье, в высоком серебряном кокошнике. Тонкий голос протяжно напевал:
- «Ай да ты, мой любенькай,
- Ай да обетованнай,
- То не зорька красная,
- То твоя невестушка».
Царь-Девица? Нет, то была по-прежнему Бабинька, только зачем-то нацепившая старинный подвенечный наряд. Когда она вышла на свет, стало видно, что платье совсем истхое, заплата на заплате, а кокошник тусклый, почерневший от времени.
Перед столом ведьма остановилась. Завертела головой, высматривая кольцо. Попович тоскливо протянул:
— Ох, щас буде-е-ет…
Все трое изготовились к страшному. А только мало, надо бы крепче.
Поняв, что кольцо пропало, колдунья разинула рот с единственным зубом, запрокинула назад голову и издала такой страшный, такой протяжный вопль, что от невыносимого этого крика, полного нестерпимой муки, мальчишки тоже взвыли и кинулись наутек: Митька зажмурившись, Алёшка с истошным визгом, и даже храбрец Илейка заткнул уши, ибо невыносимый крик оттого таким и зовется, что его вынести никак нельзя.
Помчались под вспышками молний и хлесткими струями дождя вдоль берега, да через плотину, да на свою сторону.
Бежали по размытой дороге, пока Митьша не поскользнулся и не проехал носом по жидкой грязи. Только тогда остановились перевести дух.
— Вот и пушкинцы, которые гроб-то видали, тож, поди, крик этот услышали, — сказал Илья, передернувшись. — Не то что шапку, башку обронишь. Досейчас мураши по коже.
У Алёшки зуб на зуб не попадал — и от холода, и со страху. А Мите, с головы до ног перемазанному глиной, Бабиньку было жалко. Как она теперь без кольца? Не сможет боле в Царь-Девицу превращаться. Да и знахарствовать с закрытым Третьим Оком навряд ли выйдет.
Стали разглядывать волшебный перстень. Молнии и зарницы полыхали одна за одной, и свечки не надо.
По виду кольцо было самое простое, без каких-либо знаков. Алёшка, который у отца в церкви на венчаниях тыщу раз служкой служил, сказал, такими обмениваются жених с невестой, кто не бедные, но и не шибко богатые. Может, оно и не золотое даже, а позолоченное.
— Надевай, — нетерпеливо сказал попович Илейке. — Ты добыл, тебе и пробовать. Заговор запомнил? «Ай да ты, мой любенький, ай да обетованный, то не зорька красная, то твоя невестушка». Три раза споешь. Поглядим, чего будет.
— Ага. Сам надевай и пой. На кой ляд мне в Царь-Девицу превращаться?
Но Алёшка тоже не захотел. И Митьша не стал.
— Я вот что, — придумал Илья. — Как вырасту и мамка мне, тово-етова, невесту сыщет, на любую соглашусь, хоть рябую, хоть косую. Какая мне разница? Кольцо надеть — любая кочерга Царь-Девицей станет.
Выдернул из рубахи нитку, повесил заветный перстень себе на шею. Товарищи оценили Илейкино дальновидство по достоинству.
— Голова у тебя, что дума боярская, — восхитился Никитин. — Жалко, что ты роду подлого, не быть тебе начальным человеком. Ну да ничего. Вот я воеводой стану, тебя к себе в сотники возьму.
Алёшка заревновал:
— Что в сотники? Большая честь! Я как стану митрополитом, возьму тебя в самые главные келейники. Во всем буду с тобой совет держать.
Подумав и про первое, и про второе, Илья степенно ответил:
— В стрельцы не пойду. Дурное дело — саблей махать, людей рубить. Келейником тож не жалаю. Келейник чай монах? На что мне тогда кольцо? Не, парни, я уж тут как-нибудь, по крестьянству. Так оно привольней.
Шли плечо к плечу по мокрой дороге, сами тоже хоть выжимай, вокруг черный лес, над головой шибают молнии, но после пережитого ужаса все им было нипочем. Спорили только сильно, до хрипоты, кем лучше быть — воином, митрополитом или крестьянином.
Скорей всего закончилось бы новой потасовкой, но в самой середине Синего леса, где скрещиваются две дороги, спереди вдруг снова донесся женский крик. Но не люто-грозный, как давеча, а тонкий-тонкий, жалобный. Закоченели приятели, всю распрю позабыли.
Неужто Бабинька опередила, с другой стороны забежала и ныне стонет ночной птицей-неясытью? Где, мол, перстенек заветный? Воротите, окаянные!
— Назад бежать! — рванулся Алёшка, но Ильша ухватил его за рукав.
— Погоди, не гони. Думать надо.
— Когда думать? Пропадем!
А Митьша вызвался:
— Пойду, кольцо ей отдам. Совестно.
Сказал — и обмер от собственной храбрости. Однако и мечтание возникло: как наденет ведьма кольцо, сделается Царь-Девицей и… Дальше помечтать не успел.
Снова вскрикнула женщина, со слезами. Теперь можно было слова разобрать: «На погибель завез! Бог тебе судья!»
— Молодая баба-то, — шепнул Илья. — Бога поминает. Не Бабинька это. Тово-етова, глядеть надо. Айда за мной!
Опустившись на карачки, подобрались к самому перекрестку. Выглянули.
На дороге стояла телега. Хорошая, крепкая, запряжена парой здоровенных мохнатых лошадей. В телеге какая-то поклажа, прикрыта рогожей, бережно увязана.
Поодаль, скособочившись на обочине и наполовину съехав в канаву, еще один возок, каких в Аникееве не видывали: будто малый дом на колесах, да с дверью, да с настоящими стеклянными оконцами. Красоты несказанной! Узорные перильца, спереди и сзади резные скамеечки. Коней аж четверо, и сбруя на них — стоило зарнице полыхнуть — тоже вся искорками заиграла.
— Это колымага боярская, — тихо сказал Митьша. — Я такие в Москве видал, когда с тятей на Пасху ездил. Тыщу рублей стоит. Вишь, колесо соскочило.
У охромевшей колымаги возились двое: высокий мужчина в польском кафтане, с саблей на боку, и мальчонка, судя по росту, примерно того же возраста, что приятели. Был он хоть и вдвое меньше мужчины, однако куда ловчей и ухватистей. И слева подскочит, и справа, и даже ось плечом подопрет. Только не получалось у них вдвоем. Рук мало, а колымага тяжелая.
— Пойдем, подсобим? — предложил Митька.
— Не гони. Выждем. Кричал-то кто?
Словно в ответ из возка донесся писк — не бабий, младенческий. Мужчина страшным голосом рыкнул:
— Заткни чертовой выблядке пасть!
Оттуда же, из колымаги, женский голос запричитал что-то жалобное, но ударил раскат грома, заглушил слова.
Злыдень яростно пнул подножку кареты. Не получалось у него колесо насадить, вот и бесился.
— Будешь перечить, обеих закопаю! Прямо в лесу! Мне терять нечего, сама знаешь!
А дальше залаялся нехорошо, матерно. В колымаге плакали и пищали.
— Да тут злое дело! — обернулся к приятелям Митька. — Разбойники боярыню с дитём похитили! Спасать надо!
Лёшка удержал его.
— Поди спаси-ка, у него сабля на боку. А за поясом, вишь, пистоль торчит. Как стрелит тебе в брюхо, будешь знать.
Разбойник теперь заругался на своего мальчишку: нет, мол, от него проку, до утра что ли здесь торчать, и время-де золотое уходит, и еще всякое-разное.
Парнишка что-то тихо ответил, показав на колымагу. Видно, дельное, потому что главный злодей кивнул.
— Эй, вылезай, корова жирномясая! В тебе четыре пуда весу!
Распахнул дверцу, грубо выдернул из кареты под дождь дородную, нарядно одетую женщину. Она не удержалась на ногах, упала в лужу, взвыла. Мужчина вытащил деревянный короб с ручкой. — И люльку на! Тож тяжесть.
Вдвоем с мальчишкой они снова навалились, и опять не сдюжили.
— Рычаг надо, — сказал малец скрипучим, будто простуженным голосишкой. — Дубок молодой срубить. Дай саблю, Боярин. Пойду поищу.
Друзья переглянулись. «Боярин»? Ну кличка у татя!
— Сам срублю. Ты клушу эту стереги. Посади в телегу, прикрой рогожей.
Сам ушел в лес, а его прислужник подвел хнычущую женщину к целой повозке, помог сесть. Вернулся за люлькой, отнес туда же. Сам встал рядом.
— Вот теперь пора, — сказал Илья. — Пока тот чёрт не вернулся.
Митька так с места и сорвался, ему давно уж не терпелось страдалицу спасать.
— Отойди, отрок! Не мешай, и никакого худа тебе не будет! — крикнул он, потому что витязи без предупреждения не нападают, тем более трое на одного. — Не плачь, госпожа! Мы тебе поможем!
Женщина от удивления и в самом деле замолчала, съежилась на повозке, ухватившись за люльку. Зато дитя надрывалось пуще прежнего.
А ворёнок благородному Митьшиному призыву не внял, с пути не убрался. Как стоял у телеги, так и остался. Только заливисто свистнул — без пальцев, но всё равно очень громко, по-разбойничьи.
— Ах, ты так! Ну, пеняй на себя!
Митька хотел схватить супостата за шиворот, но получил в висок удар страшенной силы, от которого отлетел шагов на пять, кубарем укатился в канаву и остался лежать без чувств.
Вторым набегал Илья, уж заранее наставив кулаки. Алёшка несся мимо, к лошадям. Знал, что товарищу помощь не понадобится. Нет на свете такого мальца, кого бы Илейка не заломал.
Мигом подхватил поводья, кнут, вскочил на передок. Ясно было: драть отсюда надо, пока оружный дядька на свист не прибежал.
— Илюха, кончай с ним! Пора! Митька, вылазь!
Нетерпеливо обернулся.
Митька из канавы не вылезал, а силачу Илюхе самому подступал конец.
Он лежал на спине полуоглушенный. Враг, с такой легкостью, одним тычком сбивший его с ног, навалился сверху и занес над Илейкиной головой правую руку. Ночь побелела от молниевого удара. Кривой нож — вот что было в поднятой руке.
Но во сто крат страшнее стального блеска было лицо маленького татя, освещенное грозовым разрядом. Алёшка рассказывал, будто в миг перед смертью бесы насылают на человека зреужасные мороки, чтобы душа пришла в трепет и познала смертный страх. Вот и ему, Илейке, в последнее мгновение привиделось то, чего страшней не придумать: морщинистая перекошенная харя, какой у живого мальчишки, пускай даже разбойника, быть никак не может.
Глава 3
Ближний стольник
Цари! Я мнил, вы боги властны.
Никто над вами не судья.
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я.
Г. Державин
Ровно за сутки до того как в сверкании молний и грохотании грома завершился роковой для России год, человек, которому было суждено пришпорить историю, стоял перед зеркалом и пристально всматривался в свое отражение. Звали человека красиво — Автоном Львович Зеркалов, да и сам он, несмотря на немолодые уже годы, далеко на четвертый десяток, был высок, осанист, собою важен. Не сказать, чтоб пригож — слишком резки были черты хищного, ястребиного лица, но, что называется, виден. Несмотря на родовое прозвание, зеркал Автоном Львович не любил и дома их не держал — бабьи глупости. Смотрелся на себя редко. Может, раз в два года или три, мельком. А тут застыл надолго и все вглядывался, вглядывался, словно чаял высмотреть в гладкой посеребренной доске ответ на некий наиважнейший вопрос.
Первое, что отметил — морщины с прошлого гляденья стали резче, черные волосы там и сям засерели первой сединой. Это пускай. Главное, зубы белые, крепкие — хоть глотку ими рви. Зеркалов уже лет десять, как вошел в свой коренной, настоящий возраст, с тех пор менялся мало, и видно было, что выпадет из него еще очень не скоро, разве что седины будет прибавляться да морщин.
У зеркала Автоном оказался не по своему хотению, а от безделья и невозможности отлучиться из светелки, в которую должен был никого не впускать — ни чертей, ни ангелов, ни бояр, хоть бы даже наипервейших. А кто сунется без спросу, пеняй на себя, на то у пояса сабля дамасской стали и два немецких пистоля на столе.
В соседней горнице, где с вечера разрешалась от бремени княгиня Авдотья Милославская, раздавались шорохи и плеск воды, звенели серебром тазы-кувшины, по временам глухо мычала роженица, да бормотала-приговаривала бабка-повивальня. Ее пустили для соблюдения виду, а распоряжался всем зеркаловский холоп Яха Срамнов, на любую руку мастер. И на тот свет кого отправить, и на этот пустить — всё умеет.
Путевой дворец в Воздвиженском был сирый, тесный, как и положено смиренному приюту по пути на богомолье. Одно названье, что дворец — большая изба, и только. Царевнина свита разместилась на ночь кто где: по амбарам, конюшням, сараям, деревенским домам.
Это и хорошо. Нечего под дверью торчать, подслушивать-подглядывать. Дело стыдное, женское. У ложа своей комнатной боярыни и свойственницы по Милославским бдила сама царевна Софья Алексеевна, а с нею повивальня и расторопный Яха. Снаружи для обережения хватило одного Зеркалова, который княгине родной брат, а благоверной правительнице ближний стольник.
Беда только, очень уж долгой выходила бабья туга. Ждать стольнику было томно, занять себя нечем, только думу думать, в зеркало глядеть да по временам доставать из кармана златые часы, царевнин подарок за верную службу.
Как в хитрой голландской луковице полночь звякнуло, из горницы раздался тонкий писк, навроде котячьего.
Разрешилась, слава те Господи. Наконец-то! Зеркалов вытер испарину со лба, перекрестился. Ох, бабы, бабы, ненадёжное племя… Автоном Львович сам недавно стал отцом, тому всего пять дней. Народился сын — долгожданный, уж и не чаянный.
Первый брак у стольника был бездетный. Пришлось жену от себя отлучить, в дальний монастырь отправить, где она вскорости и учахла. Только зря грех на душу взял. Сколько под Автономом ни перебывало баб и девок (он на плотское дело, особенно после баньки, был охоч), ни одна от него не понесла. Не в жене, значит, дело. Сок в Зеркалове родился мертвый, безпотомственный. Со временем Автоном смирился, что без наследника останется. Когда о прошлый год снова женился, то уже не ради приплода, а дли приданого. Получил за невестой деревеньку Клюевку, и полтораста душ. Жена была девчонка совсем, тринадцатый год. Не ждал от нее стольник никакой пользы, кроме постельной утехи. И вдруг на тебе — понесла!
Срамнов сразу предупредил: не пролезет дите, узка боярыня в бедрах, не успела раздаться. Так оно и вышло.
Орала-орала, горемычная, день, ночь, и еще день, а разродиться не может.
Яшка вышел к белому от переживаний Автоному Львовичу, вытер о подол окровавленные руки. «Решай, боярин. — Он барина всегда так называл, хоть стольнику до боярина, как воробью до сокола. — И сына потеряешь, и жену. Могу дитё на куски разъять и по частям вынуть. Тогда боярыня жива останется. А не то её распорю, попробую малого достать чревом».
Колебания у Зеркалова не было, даже мгновенного. Хотя жену, конечно, пожалел. Радовала она его, пичуга. Глаза в цвет колокольчиков. И смех такой же, колокольчиком. Поэтому не доверил Яхе. Всё сделал сам.
Подошел к постели, где она лежала бледная, измученная. Поцеловал в горячие, обкусанные губы. Накрыл лицо подушкой, подержал. Она, как цыпленочек, только слабенько трепыхнулась. А как Срамной ей станет брюхо вспарывать, Автоном Львович глядеть не стал. Тяжко.
Стоял за дверью, молился Господу, чтоб не зазря жена сгинула. И услышал Бог, смилостивился.
Мальчик был хоть слабенький, но живой. Когда Яха его по скользкой гузке шлепнул, а тот ни гу-гу, Зеркалов сначала испугался. Но младенец открыл глаза. Если у матери-покойницы они были синими, словно колокольчики, то у сына еще чудней — сиреневые. Или, красиво сказать, лиловые, как чужеземный цветок фиалка.
Будь воля Автонома Львовича, он не отходил бы от колыбели ни днем, ни ночью, все любовался бы своим драгоценным отпрыском. Но служба есть служба. Тем более, тут судьба решалась — и правительницы Софьи, и ее ближнего стольника, а значит, и стольникова сына.
Надо было ехать в Троицу, подавлять нарышкинскую смуту. И так сколько времени упущено!
Осторожно облобызав крошечного Софрония, отец вверил его нянькам и отправился в недальний, но опасный путь. Крестин еще не было, но имя уже определилось — в честь Софьи Алексеевны, о чем ей уже сказано, и царевна порадовалась, обещала быть крестной матерью. Великое дело для Зеркалова, предвестие будущего высокого взлета.
Софья, конечно, не из-за имени так расчувствовалась. Мало ль и раньше Софрониев да Сонек наплодили придворные искатели. Хоть и железная она, правительница, а все-таки баба. Страшно ей. И что у Автонома благополучно младенец родился, то царевне благой знак и утешение, а про смерть роженицы стольник говорить не стал, ни к чему сейчас. Наврал, что здорова.
Давно уже приживал Зеркалов при верховной власти. Из кожи вон лез, чтоб выбиться, а многого достичь не выходило, до самого последнего времени. Когда сестру Авдотью за одного из Милославских выдал, очень вознадеялся на перемену, да обсчитался. Князь Матвей оказался самой что ни на есть младшей ветви, не сильно богат, а к тому же робок. Из вотчины подмосковной только по большим праздникам выезжал, места хорошего и для себя не просил, не то что для зятя. Едва-едва Автоном в стольники прорвался. Но стольников этих в Кремле сотни три, притом у большинства рука посильней и мошна потолще. Семь лет затирали Зеркалова на мелких посылках, дарили скудными наградами. Но дождался-таки своего часа. Потому что сердце имел рысковое и голову на плечах.
Вот ведь все при дворе ведали про Софью и Василья Голицына. Благоверная правительница с оберегателем большой печати который год чуть не в открытую жила. Немало и таких, кто знал, что царевна от князя дважды плод травила — нельзя ей себя, девицу, блудным чадородием ронять. Болтать о том не болтали, за такие разговоры без языка останешься, однако тайна невеликая.
И что же? Один Зеркалов придумал, как из того профит добыть.
Полгода назад шепнула ему знакомая мамка из царевниных покоев, что Сама опять понесла и сызнова травить будет.
Ночь Автоном не спал. Думал, просчитывал, с духом собирался, а наутро, улучив миг, когда вблизи никого не было, кинулся правительнице в ноги.
Рысковал не местом — головой. Только потому и решился, что по себе знал, как тяжко человеку без родительства, а уж бабе, надо полагать, вдесятеро.
Надо было успеть выговорить главное, пока у Софьи брови к переносице не поползли.
Успел. Выслушала его царевна до конца. Потом во внутренние покои увела и долго расспрашивала. Особенно пленилась, что дитя будет носить родное имя Милославских. За Авдотью и ее мужа, кого объявят матерью-отцом, Зеркалов поручился. Им ведь тоже какой случай, какое счастье!
Не откладывая, вызвала царевна стольникову сестру ко двору. Пригляделась, одобрила, пожаловала ближней боярыней. Пускай привыкает при государях жить. Не в деревне же расти кровиночке. Хоть дитя явится на свет не с «государской всемирной радостью», как величают родины царевичей и царевен, но после, когда возрастет, воссияет ярче всяких законнорожденных Романовых. Княжич Милославский или княжна Милославская — тоже звучит прегордо, а коли всемогущая правительница отличать станет, все к ножкам падут.
Сказано было Автоному зваться ближним стольником и обретаться при особе Софьи Алексеевны неотлучно. Быстро, очень быстро вошел Зеркалов в большущую силу. Главное его дело было — за сестрой присматривать. Девка она была еще молодая, нерожалая, умом негораздая, но брюхатой прикинуться глубокого ума не надо, знай лишь подушки под платье подвязывай: сначала маленькие, потом попышней.
Истинная бременница держала себя крепко, ни разу не выдала. Царевна, перейдя за тридцатый год жизни, сделалась тучна, на лицо округла, а одежда государская не то что у немцев — боков не жмет, висит колоколом. Брюхата ли, нет ли, не разберешь. Родов только очень страшилась. Не боли, а что прознают, разнесут повивальни да комнатные девки.
И снова Зеркалов ее царской милости услужил, поручился за Яху Срамного, ловчей которого и немчин-дохтур не управится. Царевна тайно съездила посмотреть, как Яшка у стрелецкой женки двойню принимает, осталась довольна, пожаловала убогому золотой, а за себя посулила, коли родится живой мальчик — тыщу, коли девочка — сто.
Яхе-то это всё одно было, он не заради денег старался, а только бы хозяину услужить.
Среди прочих даров, которыми наградила Автонома Львовича природа, был и такой: полезных людишек примечать да к себе привязывать. Вот что такое, казалось бы, Яшка?
Тьфу, огрызок человечий. Уродом родился, уродом живет, а подохнет — никто не заплачет.
Еще в малолетстве, когда ясно стало, что мальчонка не такой, как прочие, и никогда выше столешницы не вырастет, продал его родной батька в царские карлы.
Человечков этих потешных ко двору со всей державы везли, а то и за большие деньги за границей добывали. Кормилось их в Кремле и разных государевых дворцах сотен до полутора. Без них и праздник не в праздник, и пир не в пир, а уж выезд и подавно.
Были карлы-шутята, карлы-пирожники (кого в большой пирог для смеху сажали, с попугаями и соловьями), карлы-запятные, на колымагах ездить. А еще целый отряд верховых карл, на особых маленьких лошадках или на обученных свиньях скакать.
Для пирожников Яшка был великоват ростом, для шутят больно злобен, так что пошел по другой части, срамной. Оттуда и прозвание.
Все у недомерка было маленькое, кроме уродливой башки да еще двух частей — то ли сжалилась, то ли надсмеялась над ним природа: руки почти что обыкновенные, так что висели ниже колен, и чресляное устройство, какое взрослому мужчине положено. Этим-то Срамной долгое время и кормился. Конечно, не во дворце, в их величеств присутствии, а на боярских пирах, когда напьются все и похабностей затребуют. Для того имелась своя обслуга: бабы бородатые, дураки блудорукие, бесстыжие девки, ну и Яха со своим достатком. Только привезли как-то из литовской земли карлу, который ростом был на пять вершков меньше Яшки, а срам имел изрядней, и остался Срамной без куска хлеба.
Со двора его выгнали, с кормления сняли. Пропадай, кому ты нужен.
Силы и ловкости в нем было много. Умел и кувырком прокатиться, и по канату плясать, но это не штука. Скоморохи тоже так могут.
Помыкался Срамной, помыкался и, наконец, сыскал себе хорошую службу, по сердцу и навыку — в Тайном приказе, подручным у палача, а после палачом.
Никто ловчей его не умел веревку к крюку подвесить, горящим веничком по ребрам пройтись, а с Яхиного кнута пытанные-распытанные по-дитячьи плакали и, что дьяку надо, все рассказывали.
Потому что талан был у Яшки понимать человечью плоть: где в ней боль сидит, где радость.
Всё бы ладно, да пил много, а во хмелю становился задирист и буен.
Не было у Срамного лучшей потехи, чем затеять драку в кабаке с каким-нибудь рослым молодцем, да отделать в лоскутья и еще рожей по грязи повозить.
Таким он в первый раз Автоному Львовичу на глаза и попал. Крошечный человечишка с по-обезьяньи длинными руками отбивался поленом от троих здоровенных стрельцов, а еще двое лежали на земле. Стольник остановил коня, залюбовавшись, как яро дерется огузок. Уж ясно было, что не управиться ему с озверевшими мужичищами, а все не сдавался, пощады не просил, даже удрать не пытался.
Если б Зеркалов на стрельцов не цыкнул, убили бы карлу до смерти, но царевниному слуге перечить не осмелились.
Рассмотрел Автоном урода с усмешкой. Глаза маленькие, широко расставленные. Нос репкой. Плечи широкие. В раскрытом, шумно дышащем рту торчат редкие зубы. Когда у карлы глазные яблоки под лоб закатились и брыкнулся он с коротких ножек наземь (крепко бедняге от стрельцов досталось), стольник не побрезговал человечка через холку перекинуть, к себе на двор отвез.
Несло от Яшки, как от помойной ямы. Прежде чем вызвать лекаря, Зеркалов велел битого водой окатить, чтоб вонищи в дому не было. Так Яха от воды подскочил, словно его смолой ошпарили, и давай встряхиваться, как собака. То-то стольнику смеху было! Это уж он потом сведал, что Срамной (или Срамнов, по-всякому звали) мытья не признает, в бане отродясь не был. Самое большее — тряпку слегка намочит, протрется, вот и все мытье.
И с тех пор стал карла Зеркалову, как верный пёс. Потому что допрежь того, во всю свою горькую жизнишку, ни от кого заботы и защиты не видывал. Сам добровольно в холопы к Автоному записался. На что ему воля?
Жил Срамной у стольника на подворье, в малой клетушке. А из Тайного приказа Автоном Львович забирать Яху не стал. В таком месте верный человечек лишним не бывает. Вот какой он был, Яха.
И вот, значит, как колокольцы в немецкой часовой луковке звякнули, запищал в родильной младенец. Перекрестился Автоном. Что Софья-то? Жива, аль как?
Последний месяц больно тяжело дохаживала. В государстве черт-те что деется, Петр из Преображенского в Троицу сбежал, а правительница хорошо, если на час, на два за день с постели поднимется, и то квёлая, бессильная.
Время уходило! Сначала все за царевну прочно стояли, мальчишку нарышкинского не боялись. Но дни идут, Софьи не видно. Оробела? Вожжи выпустила? Никогда раньше такого с ней не бывало. Чуть какая гроза, всегда первая. Скала, стена несокрушимая.
Первым Васька Голицын, двойная душа, струсил. В вотчину отъехал. Другие рассудили по-иному, начали в лавру перебегать.
Не раз и не два собиралась царевна на брата выступить. Но начнет обряжаться — мутит. На крыльцо выйдет — ноги не держат. Со ступеньки шагнет — и у Зеркалова на руках виснет. Походу отбой, надо бабу назад нести.
Однако стольник в правительницу всё равно верил. Знал: сдюжит, расправит крылья, всех подомнет-заклюет. И не ошибся.
Давеча стало ей чуть лучше. Сразу созвала последних верных, кто еще не переметнулся. Автоном Львович среди них. Обсказала, как думает брата Петрушу в хомут брать. Умыслено было крепко, безосечно.
Погрузить в повозку пять дубовых бочонков, в каждом по двадцать тысяч золотых червонцев, что не столь давно перечеканены из веницейских цехинов для повсеместного на Руси употребления. Погодит, пока держава без червонного золота, а раздать его в Троице начальным людям из стрельцов, солдат и рейтаров, чтоб поворотили полки назад, в Москву. Дело верное. Кто от таких дач откажется!
А ещё главней того — взять с собой в святую обитель заветный Спас-Ясны-Очи, за все романовские царствия ни разу Кремля не покидавший. Когда в сто девяностом году, после кончины Феодора, шатание началось, сначала иконой Нарышкины завладели: кликнули десятилетнего Петра, своего племянника, царем, всех под себя подмяли. Потом, когда Нарышкиных потеснили Милославские, образом завладела Софья, поставила его в своей молельне, и за все семь лет сняла с места только однажды, еще в самом начале правления. Стрелецкий предводитель, князь Хованский-Тараруй к ней зазорно ворвался, с оружными людьми, думая девку криком и сабельным бряцанием напугать. Сказывают, сняла царевна из киота Девятный Спас, ставенки раскрыла, и полилось от иконы чудное сияние, от которого Тараруй со своими крикунами стихли и вон упятились. И кто из тех стрельцов Спасу в очи посмотрел, прежним уже не был. Некоторые даже постриг приняли, а князь Хованский сник, притих и вскоре после того дал себе голову срубить, безо всякого боя и шума. Вот он какой, Оконный Спас.
Нипочем бы Петру с Нарышкиными перед такой силой не устоять, да еще и при златочервонных раздачах!
Думали в два дня управиться, но проклятое бабье естество подвело. В селе Воздвиженском, полутора часов до Троицы не докатив, встали. Замутило царевну, отлежаться пожелала. Время-то и ушло.
Вечером боярин Троекуров, сума переметная, как приехал, как начал перед царевниным крыльцом чваниться, у Софьи от гнева великого схватки начались. Вовсе нельзя стало дальше ехать.
Встанет ли теперь, после многочасового мучения, после кровяной потери? Вот о чем тревожился Автоном Зеркалов, прислушиваясь к младенческому пописку. Сунуть нос, поглядеть не осмеливался. Если Софья в сознании и приметит — осерчает. Надо было ждать, когда Яха выйдет. Карла знает, что и когда делать. Всё ему в подробностях растолковано.
Теперь стольнику пришлось ждать недолго. Приоткрылась дверь, бесшумно вышел разутый Яха. Был он в брызгах крови и слизи, распаренный.
— Ну что? — хрипло спросил Зеркалов.
Карла оскалился:
— Сто рублёв добыл.
Значит, девочка. Автоном Львович нетерпеливо махнул:
— Не про то спрос! Как Сама?
— Живая.
— На ноги скоро встанет?
Срамной почесал проваленную переносицу, пошмыгал широкими ноздрями. Дух от него был такой, что стольник поморщился.
— Сегодня нет. Да и завтра… Рваная вся, крови много ушло. Ныне без чувств, и лихорадка будет.
Застонал стольник. Пропало всё! Ах, бабы, бабы… Раз без чувств, можно самому поглядеть. Он тоже скинул сапоги, вошел в горницу. Правительница лежала на спине, будто мертвая: лицо нехорошее, восковое.
— Где дитё?
— Сосёт. — Яха кивнул на дверь слева, где в чулане была заперта наскоро сысканная кормилица.
— Повивальня?
— Как велено…
Карла приподнял один из больших шелковых платов, которыми для чистоты и нарядности были накрыты пристенные скамьи. Увидев неловко вывернутую ногу в пеньковой чуне, Автоном Львович скрипнул зубами.
— Успел уже?
— Дык ты, боярин, сам наказал: как окончится, бабу придушить.
Это верно, так и Софье было обещано, для ее государевниного спокойствия. А всё ж поторопился Яха! Царевнино спокойствие ныне для стольника было дело десятое. Он показал на другую дверь:
— Сестра там? Видела?
— Заперта. Когда я ей говорил — голосила, а так тихо сидела.
К княгине Авдотье стольник заглянул на самое малое время. Кое-как укрепил ее, бледную, от страха трясущуюся. Мол, самое трудное впереди. Сиди пока, жди. Скоро скажу, чего делать. И прочь от неё, дуры слезливой, прочь. Дверь опять на засов закрыл.
— Что дальше? — бестрепетно спросил Срамной. Такому прикажи благоверную правительницу вслед за повивальней придушить — не дрогнет. Яхе — что царевна, что мяса кусок. Был бы хозяин доволен.
— Жди, — сказал и карле Автоном. Сердце у него прыгало, мысли тоже.
Решать надо было. Быстро. А ошибешься — сам пропадешь и маленького Софрония погубишь… Хотя, может, и не Софрония. Это еще сообразить надо.
Опять он стоял перед зеркалом. Глядел на себя, ибо ни от кого иного подсказки всё одно не будет.
Сбоку, на стене, бился и трепетал огонек свечи, и от этого лицо в зеркале представало то темно-пятнистым, будто у полуразложившегося мертвяка, то золотым, как у латинского бога Юпитера, что отчеканен на кубке, который недавно поднесли правительнице цесарские послы.
Выбор у ближнего стольника был примерно такой же: либо в гроб пасть, либо на гору Олимпий взлететь.
Обычный слабый человек при полном крахе всего тщательно продуманного предприятия теряется духом и гибнет.
Человек особенный, настоящий, не сдается никогда, ибо знает, что всякое поражение можно обратить в победу. Если воз, на коем ты ехал, перевернулся вверх тормашками, встань с ног на голову и ты. Погляди на дело противуположно.
Что бы мог получить ближний стольник Зеркалов от Софьи, если б всё по её вышло?
Пожаловала бы окольничьим, ну вотчинкой бы одарила. Большого хода Автоному не вышло бы — Васька Голицын не потерпел бы. Он ведь, черт гладкий, сразу примчался б, как только нарышкинскому мятежу конец. И царевна его простила бы, она Ваське всегда прощает. Тем более он ныне не просто полюбовник, а ее дочери отец.
Так или иначе, власть существующая на благодарность шибко щедра не бывает. Потому что привыкла быть властью. Куда обильней может наградить власть новорожденная, робкая, в себе не уверенная. Ничего не пожалеет для человека, который поможет ей на ноги встать.
Додумать до сего места было самое трудное. Дальнейшее прыткий ум Автонома Львовича скорёхонько выстроил.
Бочки с золотом Петру выдать — это обязательно. Такое великое подношение сторицей вернётся.
Второе: Софьину выблядку в Троицу представить, с собой, Авдотьей и Яшкой во свидетелях. Эх, жаль, Срамной с повивальней поспешил! Ну ничего, Нарышкиным и троих очевидцев будет довольно, чтоб упозорить блудную царевну. Не поднимется после такого Софья уже никогда.
А самое главное — икону передать. У кого в руках Девятный Спас, тот на Руси и государь.
Ей-богу, быть за такое Автоному при новой власти в первых людях. Не окольничьим, не думным дворянином пожалуют, а прямо боярской шапкой. Приказным дьяком тоже бы неплохо!