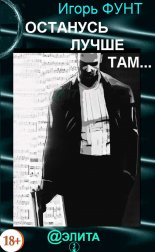Россия, кровью умытая (сборник) Веселый Артём
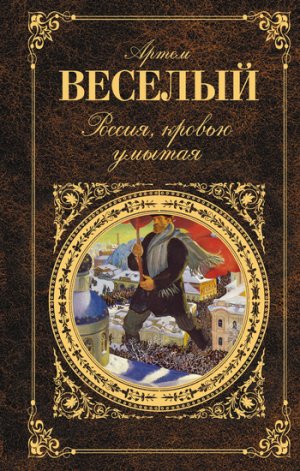
— Надоели нам эти песни. Воевать солдат больше не хочет. Довольно. Домой.
Начальники свое:
— Расея наша мать.
Мы:
— Домой.
Они, знай, долдонят:
— Геройство, лавры, долг…
А мы:
— Домой.
Они:
— Честь русского оружия.
Мы в упор:
— Хрен с ней, и с честью-то, — говорим, — домой, домой и домой!
— Присягу давали?
— Эх, крыть нам нечем, верно, давали… — И какая стерва выдумала эту самую присягу на нашу погибель?
Оно хотя крыть и нечем, а к офицерству стали мы маленько остывать.
С горя, с досады удумали с соседними частями связаться. Набралось нас сколько-то товарищей, приходим в 132-й Стрелковый. Жарко, тошно. Солдаты и тут в нижних рубашках, распояской гуляют, а которые, босиком и без фуражек.
— Где у вас комитет, землячок?
— Купаться ушли, а председатель в штабе дежурит.
Вваливаемся в штаб.
Председатель комитета, Ян Серомах, с засученными по локоть рукавами, брился стеклом перед облупленным зеркальцем, стекло о кирпич точил.
— Рассказывай, председатель, какие у вас дела?
— Дела, — говорит, — маковые…
И так и далее катили мы веселый солдатский разговор, пока Серомах не выбрился. Оставшийся жеребиек стекла он завернул в тряпицу, сунул в щель в стене и, обмыв чисто выскобленные скулы, поздоровался с нами за руки:
— Ну, служивые, вижу, вы народы свои, народы тертые, не дадите спуску ни малым бесенятам, ни самому черту… Гайда в землянку, чаем угощу.
Чаек, заваренный ржаными корками, пили мы вприкуску, с сушеной дикой ягодой, а ягоду Серомах насобирал, в разведку ходючи, и председатель рассказывал нам, как они своего полкового командира за его паскудное изуверство перевели на кухню кашеваром; как послали в корпусной комитет депутацию с требованием отвести полк в тыл на отдых; как на полковом митинге постановили чин-званье солдатское носить и фронт держать, пока терпенья хватает, а то срываться всем миром-собором и гайда по домам.
— По домам так вместе, — говорим, — и мы тут зимовать не думаем.
— Что верно, то верно: ордой и в аду веселей.
Провожал нас Серомах, опять шутил:
— Жизня, братцы, пришла бекова: есть у нас свобода, есть Херенский, а греть нам некого…
Всю дорогу ржали, Серомаха вспоминаючи.
Живем и пятый и десятый месяц, а конца своему мученью не видим.
Выползешь вечером из землянки — лес, горы, колючка — убогий край… То ли у нас на Кубани! Там тихие реки текут, шелковы травы растут, там — степь! Да такая степь — ни глазом ты ее, ни умом не обнимешь…
Сидишь так-то, пригорюнишься…
С турецкой стороны ветер доносит молитву муэдзина:
— Аллах вар… Аллах сахих… Аллах рахман, рахим… Ля илаха ил-ла-л-лаху… Ве Мухаммед ресулу-л-ляхи…
От скуки в гости к туркам лазили и к себе их таскали, борщом кормили, батыжничали. Черные, копченые, ровно в бане век не мылись, глядеть на них с непривычки тошно. Табаку притащут, сыру козьего. Сидим, бывало, летним бытом на траве, курим и руками этак разговариваем.
— Кардаш, домой хочется? — спросит русский.
— Чох, истер чох! — Зубы оскалят, башками качают, значит, больно хочется.
— Чего же сидим тут, друг дружку караулим?.. Будя, поиграли, расходиться пора… Наш спрыгнул с трона, и вы своего толкайте.
Опять залопочут, зубы оскалят, башками бритыми мотают и глаза защурят, а русский понимает — и им, чумазым, война не в масть, и ихнего брата офицер водит, как рыбу на удочке.
— Яман офицер? Секим башка?
— Уу, чакыр яман.
— Собака юзбаши?
— Копек юзбаши… Яман… Бизым карным хер вакыт адждыр.
Разговариваем однажды так, а верхом на пушке сидит портняжка Макарка Сычев. Таскает он из-за пазухи вшей, иголкой их на шпулишную нитку цепочкой насаживает и покрикивает:
— Беговая… Рысистая… С поросенка!
Русские ржали, ржали и турки. В тот вечер у них праздник уруч-байрам был, прикатили они кислого виноградного вина бочонок, барашка приволокли. Барашка на горячие угли, бочонок в круг, плясунов, песенников на кон, и пошло у нас веселье: ни горело, ни болело, ровно и не лютовали никогда.
Подманил лихой портняжка одного Османа, лапу ему в ширинку запустил и за хвост, на ощупь, вытаскивает действительно вошь. Пустил ее в пару со своей в разгулку на ладонь и спрашивает Османа:
— Видишь?
— Вижу.
— Твоя насекомая и моя насекомая, моя крещеная, твоя басурманка… Угадай, какой они породы?
— Обе солдатской породы, — отвечает Осман на турецком языке. — Хэп сибир аскерлы…
— Верно, — орет Макарка Сычев. — За что же нам друг на друга злобу калить и зачем неповинную крову лить?.. Не одна ли нас вошь ест, и не одну ли мы гложем корку хлеба?
— Кардаш, чох яхши, чох! — закричали турки, а посмеявшись той шутке, все принялись господ офицеров поносить. И как они смеют прятать от солдата свободу в кошельке?
Слушали мы и песни турецкие, и на один, и на два голоса, и хоровые. Ничего, задушевные песни, а в пляске, я так думаю, за русским солдатом ни одна держава не угонится. Вышел наш Остап Дуда, штаны подтянул, сбил папаху на ухо, развернул плечо — ходу дай! Балалайки как хватят, Остап как топнет-топнет: земля стонет-рыдает, и сердце кличет родную дальню сторонушку…
Собрались как-то и мы целым взводом к туркам в гости.
Приходим.
— Салям алейкум.
— Сатраствуй, сатраствуй.
Оборванные, голодные, греются на солнышке, микробов ловят.
— Приятель, чего поймал? — спрашивает русский.
— Блох.
— Как блоху? Воша.
— Блох.
— Почему белый?
— Маладой.
— Почему не прыгает?
— Глюпый.
Смеемся, курим, о том и о сем разговариваем. По харям видно — и им до смерти домой хочется, а домой не пускают.
— Яман дела?
— Яман, яман…
Землянки турецкие еще хуже наших. Бревна не взакрой накатаны, как у русских принято, а торчат козлами, а иные логова из камня-плитняка сложены, пазы глиной и верблюжьими говяхами заделаны, по стенам плесень и грибы растут — в берлоге такой ни встать, ни лежа вытянуться. В офицерских землянках и чисто и сухо — полы мелким морским песком усыпаны, тут тебе цветы, тут ковры и подушки горами навалены, — этим терпеть можно, эти еще сто лет провоюют и не охнут.
Наменяли мы на кукурузный хлеб сыру козьего, табаку, мыла духового; один из наших уховертов умудрился — офицеровы сафьяновые сапожки спер, и поползли мы назад.
Доходим до своей позиции и видим пробуждение: полчане бегут, на ходу шинелишки напяливая; полковой пес Балкан тявкает и скачет как угорелый; музыканты барабаны и трубы тащат.
— Куда вы?
— В штаб дивизии.
— Чего там?
— Бежи все до одного… Комиссия приехала.
— Не насчет ли мира?
— Все может быть.
— А окопы, наша передовая линия?
— Нехай Балкан караулит.
До штаба дивизии восемь верст.
Бежим, пятки горят.
— Мир.
— Домой.
— Дай ты господи.
Довалились, языки повысунувши.
Народу набежало, народу…
Полковые знамена и красные флаги вьются, оркестры играют «Марсельезу».
— Кто приехал?
— Штатская комиссия по выборам в учредилку.
— Слава богу.
— Потише, потише…
Проскакал дивизионный, и полки замерли.
Вот чего-то прогугнил батя, но нам слушать его неинтересно.
Вылезает один, в суконной поддевке, снял шапку бобровую и давай на все стороны кланяться.
— Граждане солдаты и дорогие братья… Низкий поклон вам от свободной родины, от великой матери Расеи!
Закричала от радости вся дивизия, задрожали земля и небо.
Оратор тот знай повертывается да волосами потряхивает… Слушали его передние сотни, а задние — тысячи — по маханию рук старались догадаться, о чем он говорит.
До нашей роты, хоть и не каждое слово, а долетало:
— …Граждане солдаты… Геройское племя… Государственная дума… Защита прав человека… Углубление революции… Революция… Фронт… Революция… Тыл… Наши доблестные союзники… Старая дисциплина… Слуги старого строя… Сознательный солдат… Партия социалистов-революционеров… Свобода, равенство, братство… Своею собственной рукой… Еще один удар… Революция… Контрреволюция… Война до полной победы… Ура!
Дивизию как бурей качнуло.
— Ура!
— А-а-а-а…
— Аа-а-а-а-а-а…
Иной, не поняв ни аза, кричал так, что жилы на лбу вздувались; иной потому кричал, что другие кричали; была приучена дивизия к единому удару; а иной просто тому радовался, что видел живых расейских людей — и об нас, мол, не забывают.
В политике в те поры рядовые мало разбирались. Нам всякая партия была хороша, которая докинула бы до солдата ласковым словом да которая пригрела бы его, несчастного, на своей груди.
Мы с членом комитета Остапом Дудой кричали «ура» вместе со всеми, а потом поглядели друг на друга и задумались…
— «Война до победы», — говорю, — таковые слова для нас хуже отравы.
Остап Дуда скрипнул зубами.
— Как бы они нас красиво ни призывали, воевать больше не будем.
— Где тут солдату просветление, ежели нас на своих же офицеров натравливают? — Это говорит позади меня отделенный Павлюченко. — Сами мы их ругаем, а ты, тыловая вошь, не кусай. Они хоть и не больно хороши, а с нами вместе всю войну прошли, одним сухарем давились, под одну проволоку ползали, одна нас била пуля. Немало их, как и нас, серых, закопано в землю, немало калеченых по лазаретам валяется…
Кругом заговорили:
— Правильно.
— Неправильно.
— Долой белогорликов.
Оборачивается к Павлюченке Остап Дуда и головой невесело качает:
— Эх ты, Петрушка балаганный, верещишь не знамо что… Нашел кого жалеть! Нам офицеров жалеть не приходится, большинство из них воюет по доброй воле да нас же в три кнута гонят в наступление… Интенданты, что заглатывают солдатские деньги, есть наши первые враги. Называют тебя свободным гражданином и заставляют служить без курева за семьдесят пять копеек в месяц, а корпусной генерал, по словам писарей, получает три тысячи рублей в месяц. Эти генералы есть тоже наши первые враги… Туркам наша свобода не вредит, не в нос она тем, кто сидит на мягких диванах… Поехал я летом в отпуск в Тифлис. Жара-духота свыше сорока градусов. Хожу по улицам в зимней папахе и в зимних шароварах. А буржуи катаются на извощиках, одеты в шелка и бархат, обвешаны бриллиантами и золотом… Офицеры в духанах сидят, кителя расстегнули — курят сигары, тянут винцо и ля-ля-а, ля-ля, ля-ля-ля-ля, лля-ля, ля-ля-ля, ля-а-ля-ля-ля… Это не сказка, можете поехать в город Тифлис и сами все рассмотреть. Время положить ихнему блаженству конец!
Говорили штатские депутаты и наши офицеры, говорил начальник дивизии и какой-то комиссар фронта. Какие они правильные слова ни выражали, нам казались все до одного неправильными; сколько они солдату масла на голову ни капали, мы кричали — деготь; сколько они нас ни умягчали, мы несли свое:
— Монахов на фронт!
— Фабрикантов на фронт!
— Помещиков на фронт!
— Полицейских на фронт!
Кто-то кричит:
— Куда девали царя Николашку?
В суконной поддевке отвечает:
— Мы его судить думаем.
— Долго думаете. Ему суд короток. Царя и всю его свору надо судить в двадцать четыре часа, как они нас судили.
— Пускай пришлют сюда жандармов и помещиков, — смеется фейерверкер Пимоненко, — мы их сами разорвем и до турок не допустим.
— Сказани-ка, Остап, про Тифлис, про кошек серых…
— Сказани… Мы их слушали, нехай нас послушают.
Остап Дуда встал ногами к нам на плечи и давай поливать. А глотка у него здорова, далеко было слышно…
— Господа депутаты, — звонко кричит Остап Дуда, — вы страдали по тюрьмам и каторгам, за что и благодарим. Вы, борцы, побороли кровавого царя Николку — кланяемся вам земно и благодарим, и вечно будем благодарить, и детям, и внукам, и правнукам прикажем, чтобы благодарили… Вы за нас старались, ни жизнью, ни здоровьем своим не щадили, гибли в тюрьмах и шахтах сырых, как в песне поется. Просим — еще постарайтесь, развяжите нам руки от кандалов войны и выведите нас с грязной дороги на большую дорогу… На каторге вам не сладко было? А нам тут хуже всякой каторги… Нас три брата, все трое пошли на службу. Один поехал домой без ноги, другого наповал убило. Мне двадцать пять лет, а я не стою столетнего старика: ноги сводит, спину гнет, вся кровь во мне сгнила… Поглядите, господа депутаты, — показал он кругом, — поглядите и запомните: эти горы и долы напоены нашей кровью… Просим мы вас первым долгом поломать войну; вторым долгом — прибавить жалованья; третьим долгом — улучшить пищу. Низко кланяемся и просим вас, господа депутаты, утереть слезы нашим женам и детям. Вы даете приказ: «Наступать!» — а из дому пишут: «Приезжайте, родимые, поскорее, сидим голодные». Кого же нам слушать и о чем думать — о наступлении или о семьях, которые четвертый год не видят досыта хлеба? Разве вас затем прислали, чтоб уговаривать нас снова и снова проливать кровь? Снарядов нехваток, пулеметов нехваток, победы нам не видать как своих ушей, а только растревожим неприятеля, и опять откроется война. Нас тут побьют, семьи в тылу с голоду передохнут… Генералы живы-здоровы, буржуи утопают в пышных цветах, царь Николашка живет-поживает, а нас гоните на убой?.. Выходим мы из терпенья, вот-вот подчинимся своей свободной воле, и тогда — держись, Расея… Бросим фронт и целыми дивизиями, корпусами, двинемся громить тылы… Мы придем к вам в кабинеты и всех вас, партийных министров и беспартийных социалистов, возьмем на копчик штыка!.. Чего я не так сказал — не обижайтесь, товарищи, наболело… Кончайте войну скорее и скорее!..
Мы:
— Ура, ура, ура…
Депутаты пошептались, наскоро разъяснили нам, за кого голосовать, и — в автомобиль, и — дралала…
А мы вдогонку ревем:
— Ми-и-и-и-ир!
Полк наш три дня кряду голосовал прямым и равным, тайным и всеобщим голосованием. Листками избирательными набили урну внабой. Почетный караул к урне приставили и порешили, как было приказано высшим начальством, хранить наши голоса в полковом комитете впредь до особого распоряжения.
Живем, о мире ни гу-гу.
Офицеры из России газеты получали, но нам ничего не рассказывали: все равно, мол, рядовой, баранья башка, речь министрову не поймет.
Письма с родины доходили на фронт редко. Читались письма принародно, как манифесты. Семейные обстоятельства наши были одинаковы. Доводили нас родные до сведения о своей невеселой житухе. Мы на фронте страдаем, они в тылу страдают. Наслушаешься этих писем, злоба в тебе по всем жилам течет, а на кого лютовать — и не придумаешь толком. Еще пуще разбирает охота поскорее домой воротиться, хозяйство и семью посмотреть.
Так и жили, томились, ждали какого-то приказа о всеобщей демобилизации, на занятия не выходили, работой себя не донимали, в карты играть надоело, а курить было нечего.
Проведала братва, будто в городе Трапезунде на митингах насчет отпусков до точности разъясняют. Полковой комитет вызывает охотников. Выкликнулись мы трое — Остап Дуда, пулеметчик Сабаров да я — и пошли в Трапезунд на разведку.
Время мокрое, грязь по нижню губу, сто верст с гаком перли мы без отдыху — на митинг боялись опоздать. Напрасны были спасенья, митингов не переглядеть, не переслушать — и на базарах, и в духанах, и на каждом углу по митингу.
На митинге нам открылась секретная картина:
— Бей буржуев, долой войну.
Справедливые слова!
Меня аж затрясло от злости, а по набрякшему сердцу ровно ржавым ножом порснуло.
— Нечего, — говорю, — ребята, время зря терять: сколько ни слушай, лучшего не услышишь. Всем свобода, всем дано вольным дыхом дышать, а ты, серая шкурка, сиди в гнилых окопах да зубами щелкай. Снимемся всем полком и — прощай, Макар, ноги озябли.
Товарищи меня держат.
— Постой, Максим, погоди.
— Треба нам, как добрым людям, почайничать и перекусить малость.
— Будь по-вашему, — говорю.
Заходим в духан, солдат полно.
Кто кушает чай, кто — чебуреки, а кто и хлебец, по старой привычке, убивает. Есть деньги — платят, а нет — покушает, утрется и пойдет. Известно, служба солдатская не из легких, а жалованье кошачье. В конце семнадцатого года стали семь с полтиной получать, а бывало, огребет служивый за месяц три четвертака, не знай — ваксы купить, не знай — табачку, последняя рубашка с плеча ползет, вошь на тебе верхом сидит, шильце-мыльце нужно. Туда-сюда и пляшет защитник веры, царя и отечества, как карась на горячей сковороде. Карман не дозволяет солдату быть благородным.
Разговоры кругом, от разговоров ухо вянет.
— Какая в России власть?
— Нету в России власти.
— Дума? Наше Временное правительство?
— Всех наших правителей оптом и в розницу подкупила буржуазия.
— А Керенский?
— Так его ж никто не слушает.
Большевиков ругают, продали родину немцам за вагон золота. Кобеля Гришку Распутина кроют, как он, стервец, не заступился за солдата. Государя императора космыряют, только пух из него летит.
Один подвыпивший ефрейторишка шумит:
— Бить их всех подряд: и большевиков, и меньшевиков, и буржуазию золотобрюхую! Солдат страдал, солдат умирал, солдаты должны забрать всю власть до последней копейки и разделить промежду себя поровну!
Горячо говорил, курвин сын, а, насосавшись чаю, шашку в серебре у терского казака слизнул и скрылся.
— Расея без власти сирота.
— Не горюй, землячок, были бы бока, а палка найдется…
— Дивно.
— Самое дивное еще впереди.
— Где же та голова, что главнее всех голов?
— Всякая голова сама себе главная.
— А Учредительное собранье?
— Крест на учредилку! — смеется из-под черной папахи сибирский стрелок. Выбирает он из обшлага бумагу и подает нам. — Теперь мы сами с усами, язви ее душу. Читай, землячки, читай вслух, я весь тут перед вами со всеми потрохами: Сибирского полка, Каторжного батальона, Обуховой команды…
Бумагу — мандат — выдал ему ротный комитет, каковой ротный комитет в боевом порядке направо и налево предписывал: во-первых, революционного солдата Ивана Савостьянова с турецкого фронта до места родины, Иркутской губернии, перевезти за счет республики самым экстренным поездом; во-вторых, на всех промежуточных станциях этапным комендантам предсказывалось снабжать означенного Ивана всеми видами приварочного и чайного довольствия; в-третьих, как он есть злой охотник, разрешалось ему провезти на родину пять пудов боевых патронов и винтовку; в-четвертых, в-пятых и в-десятых — кругом ему льготы, кругом выгоды!
Мандат — во! — полдня читать надо.
— Где взял? — стали мы его допытывать.
— Где взял, там нет.
— Все-таки?
— Угадайте.
Нам завидно, навалились на сибиряка целой оравой и давай его тормошить: скажи да скажи.
— За трешницу у ротного писаря купил.
— Ну-у?
— Святая икона, — сказал он и засмеялся… Да как, сукин сын, засмеялся… У нас ровно кошки вот тут заскребли.
Выпадет же человеку счастье…
Спрятал Иван Савостьянович мандат в рукав, мешок с патронами на плечи взвалил, гордо так посмотрел на нас и пошел на самый экстренный поезд.
В городе Трапезунде встретил я казака Якова Блинова — станишник и кум, два раза родня. В бывалошное время дружбы горячей мы не важивали, был он природный казак и на меня, мужика, косился, а тут обрадовались друг другу крепко.
— Здорово, Яков Федорович.
— Здорово, служба.
Обнялись, поцеловались.
— Далече?
— До дому.
— Какими судьбами?
— Клянусь богом, до дому, — говорит.
— Приказ…
— Я сам себе приказ.
— Ври толще?