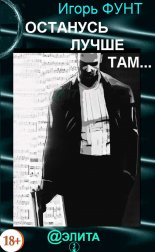Россия, кровью умытая (сборник) Веселый Артём
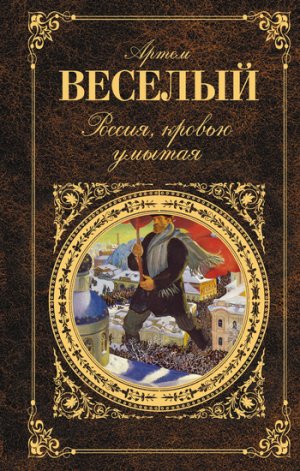
Бронепоезд меня заинтересовал.
Командир Никита Семенович подает команду:
— Батарея, готовься к бою… Прицел восемьдесят, трубка семьдесят восемь… Наводить точно… Огонь!
Га-гах.
Полетела моя консерва кадетам на завтрак. Влепил прямо в тендер. Из передовой цепи по телефону передают: попало. А я и так вижу: попало, аж пар зашипел.
Вот Митька Дягель грохнул, тоже попало.
Видим, сквозь пыль, рельсу крутит штопором, и, вот тебе, поехала железная дорога кверху. Никита Семенович глядит в прозорную трубу и смеется:
— Молодец, Половинкин! Молодец, Дягилев! Бейте еще!
Тут кадетская конница запылила, строит лаву. Тут пластуны из межевой канавы лезут в атаку. Захарчук наш замотался.
— Товарищи, надо отступать. Товарищи, побежим, пока не поздно.
Но на него некогда было оглядываться.
— Батарея, беглый огонь! Пулеметы, огонь!
Пошла тут вот такая, начали мешать небо с землей.
Кадеты побежали.
Наша пехота поднялась, вперед! Кавалерия, вперед! Батарея, известно, на передки и вперед! Ура, ура! Бронепоезд показал нам хвост и ушел. Пластуны сдаются, офицеры стреляют и колют себя, но не сдаются. Захватили обоз, патроны, муку, 120 пластунов — они борщ варили, борщ достался нам. Давно мы не видали горячей пищи, две недели питались консервами, и то только тогда, когда они были, вот покушали, теперь можно воевать дальше. Прибегает Захарчук с конным ведром.
— И мне, говорит, налейте.
— А ты где был? — спрашиваем.
— Я отстал, животом расстроился.
Напомнили мы ему, клялся идти с нами рука об руку, выплеснули остатки борща на землю, ему и одной ложки хлебнуть не дали. Кругом смеялись.
Пошли смотреть поле брани, прямо Бородинская битва. С убитого черкеса снял я маузер с золотой наческой. Выздоравливай, Фомка, скорей — маузер будет твой.
Подарков жители натащили — арбузов, сметаны и так далее. Музыка играет народный гимн. Какой восторг и трепыханье кругом… Девки пришли, одна подходящая: хорошего роста, в желтых гетрах и глаза такие серые, но не удалось с ней поближе познакомиться.
Командир передал — трогайся.
Прибыли на отдых в хутор, забыл его правильное название.
Ночью вшестером, комиссар Захарчук седьмой, отправляемся в разведку. Чистое поле, все тихо, спокойно. Туман такой — ушей коня не видно. Захарчук ежится и говорит:
— Ох, ребята, смотри зорко. Кадет хитрый, может сквозь наших ног пролезть.
Ладно.
Дело к свету. Пробираемся балкой по-над кустами. Впереди заржали лошади, разговаривают. Что такое? Мы приготовились. Голова в голову съезжаемся с кадетским разъездом. Их шестеро, нас шестеро — Захарчука в случае чего и считать нечего.
— Какого полка?
— Уманского.
Эге. По голосу и по бороде признаю дядю Прохора Артемьевича.
— Это ты, дядя Прохор?
— Я.
Захарчук шумит:
— Стреляй, кадеты.
— Ты, Сенька?
— Так точно, — отвечаю я дяде.
— Стреляй!..
— Перестань гавкать, — говорю я Захарчуку. — Это есть наши станишники, интересно нам про домашность узнать.
Захарчук крутнул свою рыжую кобылу и осадил за наши спины, ждет, что будет дальше.
Съехались на три шага. У них карабины наизготовку, и у нас карабины наизготовку. Ну, поздоровались. Дядя Прохор Артемьевич, Сметанин, Васька Пьянков, Федя Стецюра, что в атаке под хутором Малеваным вгорячах отрубил хвост своему жеребцу, и двое незнакомых.
— Давно из станицы? — спрашиваю.
— Не так давно, но порядочно.
— Как там моя баба?
— Скоро родить, со степью управилась.
— Как служба?
— Ничего, — отвечает дядя. — Жалованья тридцать рублей, сахару и табаку не дают. Когда будет конец этому?
— Сдавайте оружие, вот вам и конец.
— Мы погодим сдавать оружие, вы сдавайте. — А у самого глаза, как у сыча, сверкают.
— И мы погодим, — отвечаю.
Поговорили еще немного, угостили их папиросками и разъехались. Ни нам никто, ни мы никому.
Еще был бой у станции Овечка. Туго нам пришлось. Боевые обстоятельства предсказали нам отступать. Фронт растерялся, везде оказались прорывы. Занялись бегством, кто кого перегонит. На каждом сапогу по пуду грязи, ноги потерли до мослов, силы нет бежать. На переправе через реку Кубань так загрузили паром, что он пошел ко дну и пушки ко дну, а люди поплыли. Смешно, но смеяться некогда. Жалко было смотреть на такую картину, когда товарищи плыли по Кубани и стонали.
— Спасите, помогите…
Я сам вылез и Дягиля за русые кудри вытащил, — он нахлебался, ему оставалась одна минута до смерти.
Ушли живыми, все хорошо.
Стоим на отдыхе в станице Суворовской, пляшем на вечорках, калечим девок, хлещем самогон.
Жить пока можно.
Какая в лазарете пища и порядки? Скорее поправляйся и приезжай, я по тебе соскучился, и все товарищи поминают.
Ожидаю в скорых числах вашего ответа.
С поклоном С. Половинкин.
О чем говорили пушки?
«Мы, бойцы 1-го батальона Интернационального полка, собрались на митинг и обсудили постановление высшей власти о размене с Германией и Австрией военнопленными старой армии.
Добровольцев, желающих покинуть наши красные ряды и возвратиться на свою германскую и австрийскую родину, в батальоне не оказалось.
Некоторые навстречу оратору говорили:
— Сперва расправимся с русскими буржуями, потом все вместе пойдем свергать с золотого трона мировую буржуазию.
Пауль Михаэльс, как много раз он ранен и имеет преклонный возраст, командируется согласно нашего решения по месту жительства, в город Гамбург.
Даем ему наказ.
Товарищи и братья, рабочие и крестьяне всего мира! Сейчас и ребенку стало ясно, в единении наша сила на победу над общим врагом капиталом. Мы не щадим ни жизнями, ни семьями, ни родным кровом и идем напролом. Али вы не слышите наших слез, стонов и проклятий? Мы истекаем кровью в горах, лесах и степях необъятной России. Али вы не слышите, о чем гремят-говорят наши пушки? Близок, близок день полной победы над тиранами, генералами, помещиками и прочей мелкой сволочью, сосущей соки трудового народа. Своими кулаками мы стучимся в ваши груди. На помощь! Братья, на помощь! Разбирай оружие, и за дело. Если нужно будет нашей силы, то, покончив со своими, выйдем вам на подмогу и пойдем хоть на край света. Клянемся не свертывать красных знамен, пока на земном шаре не будет казнен последний паразит! Ни шагу назад! Да здравствует Красная армия мозолистых рук всего света!»
Ветхий листок резолюции подшит к архивному делу. На листке, как ржавчина, мазки засохшей глины. Документ волнует крепче всякой поэтической выдумки.
Сад блаженства
В глухом, заросшем травою переулке, в неприглядном покосившемся домишке доживал свой век престарелый чиновник Казимир Станиславович. За сорокалетнюю службу в акцизном ведомстве он получал небольшую пенсию. Давным-давно старик отмахнулся от житейских сует и никуда со двора не выходил. Сношения с внешним миром, главным образом с базаром, поддерживала верная подруга его жизни — Олимпиада Васильевна.
Ютились они в полутемной кухне, а солнечное зальце и две комнаты, заставленные фикусами и сухими кустьями, были отведены пернатым. На подоконниках — желтый песок, корытца для корму и питья, тарелки с зеленью и приспособленные для купанья чайные блюдца. Клетки под окнами, по стенам и под потолком; клетки низенькие, четырехугольные, круглые и высокие с куполообразным верхом, без жердочек и с жердочками в несколько ярусов; клетки, обтянутые редкой холстиной или промасленной бумагой; клетки в сенях и в саду — к дому примыкал сад, черен и дик.
Птицы, если это не была пора линьки, поднимали веселый гомон спозаранок.
Первыми встречали рассвет голосистый дрозд Залетный или соловушка Чародей — громовый раскат сверкающих трелей; от его песен, казалось, дрожали стены дома. Встряхивался и, прочищая горло, пробовал голос старый кенар по прозвищу Петька, столь искусный в своем деле, что по заказу высвистывал «Хаз-Булат», «Тройку», «Коль славен». Сквозь гущу разросшихся под окнами акаций продирался первый солнечный луч. Щеглы, чечетки, лазоревки и иные немудрящие птахи на разные лады славили утро.
Птицы будили стариков.
Казимир Станиславович в туфлях на босу ногу и в заплатанной-перезаплатанной форменной шинели внакидку обходил свои владенья, ласково улыбаясь и ворча и жмурясь спросонья. Драчливые лазоревки и сорокопуты уже ссорились у корытца с кормом. Жаворонки купались в песке, насыпанном в ящик из-под гильз. Пара молодых клестов, резвясь, сталкивала друг друга с жердочки. Зяблики и славки, что жили в открытых клетках, гонялись по комнатам за мухами и лепились к бревенчатым стенам, выклевывая из щелей тараканов.
Казимир Станиславович наскоро умывался и, шаркая туфлями, бежал на кухню завтракать.
— Как, по-твоему, — спрашивал он свою подругу, — не поставить ли Баяну еще одну жердочку? Или ему так просторнее? А?
Олимпиада Васильевна разливала чай и обычно молчала, а Казимир Станиславович продолжал:
— Дичок что-то заскучал… А как он еще позапрошлую неделю пел! Боже мой… Талант, талант… Не обтянуть ли его клетку полотном? Может быть, он хочет побыть в одиночестве?
— У меня, батюшка, не своя фабрика. Где я наберусь полотна? И так все тряпки перевела, со стола смахнуть нечем.
— Экая ты заноза! И как это язык повертывается такое сказать? Оторви рукав от моей нижней рубашки и выстирай, вот тебе и полотно… Зачем мне рукава? И без рукавов проживу. — Он сиял и заливался заморенным смешком.
— Хорош, хорош, басурман, — горестно взирая на него, качала седеющей головою старуха.
На позывный свист хозяина живо налетали щеглы, снегири, синицы, чечетки; садились ему на плечи, на руки, на голову, сновали по столу, подбирая крошки.
Случалось, под окнами пропитой голос тянул:
— Чинить тазы, ведра, самоварные трубы.
И — целая беда, если холодный кузнец принимался орудовать где-нибудь поблизости. Казимир Станиславович морщился: яростный грохот молотка и лязг железа оскорбляли нежный слух птиц.
— Степан Перфильев или слободской Горбыль… Не могу я видеть эти пьяные морды. Пойди, Олимпиадушка, дай ему гривенник на похмелье, он и провалится.
Олимпиада Васильевна спроваживала бродячего кузнеца, а заодно прогоняла с тротуара и мальчишек, играющих в бабки или в орлянку.
Последний глоток жиденького кофе, и завтрак окончен.
Дрозд Сударик тянулся с плеча, потом, осмелев, прыгал на подставленный палец и принимался быстро выбирать из усов хозяина хлебные крошки. Казимир Станиславович прихватывал лапку другим пальцем и так, на руке, уносил Сударика в комнаты.
В суете и хлопотах летели дни, годы…
Старик кормил и купал птиц, подстригал сломанные и искривленные коготки, чистил клетки, устраивал свадьбы, с перышка кормил птенцов желтком и тертой выдержанной в молоке репой, к старым певцам для выучки подсаживал молодых, гонял по саду злейших своих врагов — кошек.
Однажды Олимпиада Васильевна вернулась с базара в большой тревоге.
— Батюшки, светы мои… Немцы нам войну объявили!
— Отстань, старая, всегда ты с пустяками, — отмахнулся раздраженный Казимир Станиславович. — Несчастье: у Светланы судороги ног и палец нарывает, должно быть, заноза. Оберни-ка у ней жердочку сукнецом… Черный дрозд заболел: второй день не ест, не пьет. Бузины надо… Или наловила бы ты мне пауков да мокриц — при запорах помогает.
— Где я тебе их наловлю? Я — не воробей.
— Ну купи миндального маслица. Настою в масле мучных червей и покормлю дрозда. Авось…
— Хорош, хорош, басурман.
Железной поступью прошла война, грянула революция, в городе не раз сменялись власти. Казимир Станиславович знать ничего не хотел. Блаженствуя, слушал своих певцов, радовался ихними радостями и печалился ихнею печалью. Прекратили выдачу пенсии. Казимир Станиславович встретил эту весть равнодушно. Частенько, кротко улыбаясь и заглядывая своей старушке в добрые глаза, он говорил:
— Олимпиадушка, зачем тебе подвенечное платье? Если я и протяну ноги, так замуж тебе не выходить. Лучше меня не найдешь. — И он седым усом шаловливо щекотал ее морщинистую шею. — Зачем нам перина, сундуки, какие-то вазы, сковородки? Последний раз ты пекла блины года три назад, когда Перун из-за ревности выклюнул глаз Заливистому… Заливистый… Как он пел… Как щелкал… Какие трели, и рескат, и дробь пускал… Господи! — Он стонал и смахивал со щеки мутную слезинку. — Нет, нет… Таких соловьев больше нет, нет и не будет… Зачем тебе ковровый платок? Не молоденькая. Зачем обручальное кольцо? Зачем нам стулья? Проживем и без стульев.
Старьевщикам за бесценок пошла всякая всячина. Сами жили кое-как и кормились кое-чем, спали на полу на каких-то лохмотьях, но птицы по-прежнему ни в чем не знали недостатка: кормушки их были полны, клетки вычищены, сквозь акации блистало солнце.
Многотысячная армия обложила город.
Всю эту ночь Казимиру Станиславовичу снились кошки.
— Гром, что ли? — спросил он, выглядывая в кухонное окно.
— Хорош, хорош, басурман, из ума выжил… Какой тебе гром? Из пушек палят.
— Кто палит? Из каких пушек?
— Да ну тебя… — махнула рукой Олимпиада Васильевна и побежала к соседке занять муки на подболтку.
Казимир Станиславович копался в саду — червей искал, — когда в дом ударил снаряд: в туче пыли проблеснул желтый огонь, и в один миг ветхое строение было охвачено пламенем. Отброшенный силою взрыва в лопухи и репейник, старик смотрел на горящий дом в оцепенении и не в силах был двинуть ни рукой, ни ногой…
Из Туретчины
Казак Загинайло, дослужившийся за войну до чина подхорунжего, щелкал себя по щегольскому сапогу плетью и бойко рассказывал о своем побеге из турецкого плена:
— …Иду неделю, иду вторую, иду голодный… Горы, снега, все тропы и дороги позаметало, позамело. Иду. Орудия бухают. Ну, думаю, фронт недалече. Сердце радостью облилось. Иду. А ноги уж и не шагают. В ущелье речка гремит, над речкой аул. И до чего мне кушать захотелось, ну, крутит кишки, как клещами. Пропадать — так пропадать, что будет, а глядишь, чего и пожевать достану. Дождался ночи, спускаюсь… Ни огонька, ни визгу… Захожу в саклю — пусто, в другую — пусто. Весь аул облазил и, вот тебе, ни живой души, ни крохточки хлеба. Разложил огонек, и так чего-то мне неудобно. Дай переобуюсь. Не тут-то было, вмерзли ноги в сапоги, хоть отруби да выкинь. Сидеть у огня, думаю, не годится. А пушки, ну, совсем близко грохочут. Мне умирать не любопытно. Мне любопытно на родину возвернуться. Помолился пресвятой богородице и кое-кому из самых главных угодников и — ходу. Иду. Стоит под луной гора крута да высока, — поглядеть, заломя голову, — и втемяшилось мне забраться на нее. Оттуда, смекаю, и позицию и свой курень на Кубани увижу: така высоченна гора. Лез-лез, лез-лез, снега подо мной подломились, гу-гу, обвал… Закружило, завертело меня и обратно под аул в речку кинуло. Вылез, отряхнулся, как пудель, руки в крови, морда в крови, а на коленках и локтях мясо до мослов ободрано. Что тут будешь делать? Посушил на ветру лохмотья и опять на гору… Лез-лез, лез-лез, снова дрогнули снега, и снова меня в речку совлекло. Хоть плачь, хоть смейся. Больше суток я на ту проклятую гору царапался и все-таки влез, влез на самую вершину… Мать честная! Вот, они, шагнуть раз, турецкие окопы. Под горой, чуть видно, наша позиция. На турок мне глядеть не любопытно, любопытно мне, как бы поскорее к своим. Поднимаюсь во весь рост и кричу: «Братцы!» А до братцев верст пяток с гаком, где ж там услышать? Турки загалдели и ко мне. Шалишь, кардаш, теперь я научился с гор кататься. Перекрестился, подвернул под себя потуже полы шинели и в свою сторону с обрыва — бух! Крики, стрельба, снежная пыль надо мной столбом. Как летел до своих окопов, не помню. Очнулся аж в тифлисском лазарете…
— Лихо.
— Бог не без милости, казак не без счастья.
— И язык турецкий вы, господин подхорунжий, изучили? — скроив почтительную мину, спросил Захар Догоняй.
— Не так, чтобы очень, разве выпросить или купить чего, а украсть и так можно.
Слушатели дружно рассмеялись.
Побратимы
Они встретились в Кронштадте, на Якорной площади.
Арсений говорил скорую речь среди многотысячной волнующейся толпы моряков, солдат и портовых рабочих. Военный моряк французской службы Шарль Дюмон, что выделялся в толпе своей шапочкой с красным помпоном на макушке, слушал русского моряка с волнением: молодое, смуглого румянца лицо его было оживлено, осененные длинными ресницами глаза сияли.
Дружные крики: «Правильно! Правильно!» и хлопки жестких ладоней перекрыли последние слова оратора. Шарль протискался к нему и принялся энергично трясти, точно из чугуна литую, лапу русского моряка.
— Bravo, bravo, camarade! (Браво, браво, товарищ!)
— Bonjour, mon vieux. Comman que a va (Добрый день, приятель! Как дела?) — приветливо спросил и Арсений. Он, моряк старой службы, знал с сотню иностранных слов, которых ему за глаза хватало для любого разговора.
Прогуливаясь по Набережной, они переговорили обо всем на свете — о русской революции и о суточном порционе, о грядущем мире и подводных лодках, о последних волнениях во французской армии и о портовых девчонках: где-то в Алжире и Марселе у них нашлись общие приятельницы, чему оба немало смеялись.
Арсений повел гостя на свой крейсер, где Шарля все привело в восхищенье: и то, что все вредные офицеры казнены или списаны на берег; и то, что на корабле самими моряками поддерживается образцовый порядок; и то, что рядовые моряки живут на равную ногу с оставшимися лицами командного состава, едят из одного котла и курят одинаковый табак. Шарль Дюмон не захотел возвращаться на свой корабль. Арсений принес ему из вещевой баталерки комплект обмундирования и подарил отличного боя маузер.
Они подружились.
Всюду их видели вместе, — и на митингах, и на вечеринках, и в театре, и на лекциях, и на бурных заседаниях кронштадтского совета. Шарль рьяно изучал язык революционной страны.
В июльские дни они вместе маршировали по Невскому, на митинге слушали Ленина, перед особняком Кшесинской присягали на верность революции. Вместе они участвовали в штурме Зимнего дворца, вместе в конце семнадцатого года с одним из первых красногвардейских отрядов отправились и на фронт; всю зиму они вместе мыкались на бронепоезде по Украине и Дону, сражаясь с разномастными бандами контрреволюции. Под Ростовом бронепоезд был спущен под откос, а Арсений тяжело контужен.
Потрепанный отряд балтийцев отозвали в Харьков на переформирование; Арсений, прихватив с собой друга, уехал на поправку к себе в деревню, под Пензу, где у него еще живы были старики.
Дело близилось к весне.
Арсений быстро поправлялся и уже стал похаживать в сельсовет, наводя там порядки, а Шарль с жаром доучивался русскому языку у деревенских девок и частенько возвращался домой под утро.
Весною восемнадцатого года на защиту контрреволюции выступил чехословацкий корпус. По городам и селам зашевелилось воронье, по всему Поволжью забушевали грозы восстаний. Оба моряка пристали к проходившему мимо партизанскому отряду.
С отрядом, принимая бои, они упятились к Волге, сдали Сызрань, отступили до Самары.
По реке Самарке стлался предрассветный туман.
Нарытые по окраине города окопы были полны спящих людей: спали вымотанные последними боями латыши и матросы; спали лишь накануне прибывшие татары уфимской дружины. По дворам и домам, примыкавшим к фронту, сморенные смертельной усталостью и только что смененные с позиций, спали бойцы самарской дружины коммунистов; успокоенные обманчивой тишиной, беспечно спали в своих норах секреты и заставы.
Вдруг у самых окопов — осторожное дыхание паровоза…
Зарывшись в солому и посапывая, спал Шарль. У него в ногах, засунув рукав в рукав и обняв карабин, сидя, спал Арсений. Сознание его было заткано паутиной каких-то летучих, тревожных снов… Вдруг сердце-вещун: тук-тук… Арсений кулаком протер глаза и, выглянув из окопа, ахнул.
— Чехи, — крикнул он, выдергивая из-за пояса бомбу, — братва, чехи!
Через мост осторожно переползал неприятельский поезд — паровоз и несколько открытых платформ с установленными на них пулеметами и двумя орудиями. Под прикрытием поезда мост перебегали густые цепи чехов в своих шапочках пирожками.
В окопах зашевелились.
В следующее мгновение тишина июньского утра была разодрана залпами.
Весть о неприятеле искрой просверкнула по всей линии фронта от завокзальных позиций до косы, образуемой слиянием Волги и Самарки.
Взыграла паника.
Из окопов выпрыгивали и бежали сломя голову оробевшие, увлекая за собой отважных.
Минута, другая — и с угла Заводской и Уральской улиц, по квадратам кварталов, чехи стали быстро распространяться по городу. На подмогу им из темных щелей вылезли лабазники, эсерствующие юнцы, черная сотня и офицеры подпольной организации.
Защищались дружинники, захваченные в клубе коммунистов; защищался штаб охраны; на улицах защищались отдельные герои, но участь города была уже решена. Забросанный гранатами, сдался клуб коммунистов, и уцелевших защитников его рыжебородый Масленников вывел на улицу под белым флагом.
Волна террора обрушилась на город.
Захваченных в плен бойцов пачками расстреливали на косе, у плашкоутного моста, у вокзала, в Запанской слободке; топили в Волге и Самарке, вылавливали по дворам и предавали самосуду.
Моряки — человек пятнадцать — отходили по улице, отстреливаясь. Как вода, напоровшись на камень, разбивается на обе стороны, так и моряки разбились, наткнувшись на дом, из окон и с крыши которого по ним загремели выстрелы. Двое остались на мостовой, посредине улицы; пулеметчик Аксютин был застрелен в подъезде каким-то мальчишкой-гимназистом; еще один растянулся, уронив голову на порог чужого дома; Шарль был схвачен дворниками, остальные бросились врассыпную.
Арсений забежал во двор — кучка падких до зрелищ, полураздетых обывателей расступилась пред матросом, что в три прыжка перемахнул двор и нырнул в пролом в заборе. Перебежал еще двор, с маху на руках перекинулся еще через забор, под его коваными сапогами прогремела железная крыша, под ним оборвалась водосточная труба. Он упал куда-то в сад, прямо в сиреневый куст, в кровь испоров руки. Перелез еще через один, усаженный гвоздями, забор, оглядвшись, нырнул в дровяной сарай и — задыхающийся от волнения и быстрого бега — упал на дрова.
Все было кончено, бежать было некуда… Бомбы все до одной раскиданы; приклад карабина расколот пулей; не могли больше сослужить службы кольт и наган, патроны из которых были расстреляны, расстреляны все до последнего. Перебрав скороговоркой всех божьих угодников и святителей до семьдесят седьмого колена, моряк закурил… Но напрасно он думал, что оторвался от преследователей — его искали, искали и в саду, и по дворам, и по всем норам. Вот он заслышал лающие голоса, звон шпор, топот многих ног… Затоптал окурок и, схватив березовое полешко, — с сердцем, бьющимся в самом горле, — встал за дверной косяк… Идут, прошли… Но один — судьбы подарок! — завернул в дровяник и у самой двери рухнул, сраженный поленом. Через несколько минут, одетый в длинную до пят офицерскую шинель, Арсений вышел на улицу и замешался в толпу.
Город ликовал.
Над городом полыхал праздничный перезвон церковных колоколов, улицы были полны разряженными лавочниками, с балконов на победителей сыпались цветы и крики приветствий, гремели военные оркестры. При большевиках памятник Александру II был задрапирован досками. Чьи-то руки уже сдирали эти доски, и чьи-то лбы уже стукались о гранитный пьедестал «царя-освободителя», а там, на окраинах, еще шла расправа с побежденными.
Арсений шел, как пьяный. Жажда мести разъедала его сердце.
Привлеченный криками мальчишек: «Ведут, ведут!» — он остановился. По дороге, окруженная кольцом конвоя, двигалась партия пленных, среди которых он сразу узнал дружка: обрадовался, чуть не крикнул, но сдержался и, втянув голову в плечи, упятился на тротуар, за спины других. Шарль шагал, потупив залитое кровью лицо. Арсений без думы пошел следом.
Арестованных ввели в дом, у подъезда которого размашисто, мелом было написано: «Управление коменданта города».
Решение созрело мгновенно.
Арсений — мимо часового — вошел вслед за арестованными в просторный зал. Комендант города, в перевитых двухцветной ленточкой погонах полковника, сидел за столом перед зеркальцем и брился. Арсений, четко отбивая шаг, подошел к столу и принял под козырек:
— Поручик триста девятого Овручского пехотного полка… Честь имею, господин полковник, явиться в ваше распоряжение…
Полковник, не прекращая своего занятия, скосил глаза и внимательно осмотрел стоящего перед ним человека в офицерской шинели, из-под воротника которой выбивался ворот матросской форменки.
— Ваши документы?
Арсений подал истертый на сгибах послужной список, из которого явствовало, что он действительно является поручиком триста девятого Овручского пехотного полка Андреем Владимировичем Озеровым, награжденным двумя георгиевскими крестами и уволенным со службы по демобилизации.
Полковник отер носовым платком чисто выскобленное лицо и подал руку.
— Очень рад. Садитесь.
Арсений сел в кресло.
— Вы, господин поручик, и в русском флоте служили? — неожиданно спросил полковник, не сводя с него светлых, холодных глаз.
— Нет, не служил.
— А это что за маскарад? — И он, перегнувшись через стол, вытянул у него из-под шинели ворот форменки.
Арсений заправил ворот обратно и спокойно ответил:
— При большевиках, господин полковник, всяко приходилось одеваться…
— Да, да, конечно, — согласился полковник и, сказав несколько фраз об изуверстве тевтонского племени, о кровожадности большевиков и о единстве задач, стоящих перед славянами, протянул руку — Завтра, поручик, в нашем штабе вы получите назначение в действующую часть.
Арсений козырнул и пошел было к выходу, но, увидев прижатых в угол пленных, отшатнулся и повернул обратно к полковнику:
— Господин полковник… здесь… негодяй!..
— Что такое?
— Вашими солдатами задержан мерзавец, казнивший мою мать и сестру.
— Который?
Арсений подошел к кучке арестованных и грубо, за руку выдернул Шарля.
— Вот он!
— Не извольте, господин поручик, беспокоиться. Я прикажу немедленно расстрелять его, здесь же, во дворе.
— О, нет… На могиле матери я поклялся… Позвольте мне самому с ним расправиться! — И Арсений выхватил из кармана пустой кольт.
Полковник любезно согласился.
Арсений залепил другу по скуле так, что тот пролетел через весь зал и тяжестью своего тела распахнул дверь во двор. Арсений быстро выскочил за ним и, награждая его тумаками, повел куда-то в глубину двора.
Через полчаса они уже сидели на набережной в шумном трактире, пили чай и обсуждали план дальнейших действий. Убежать из города было не так-то просто: на все дороги и тропы были выставлены заставы, всюду шныряли военные патрули, проверяющие у всех подозрительных документы. В том же трактире они познакомились с кочегарами буксирного пароходишка «Сатурн». Арсений, решив сыграть ва-банк, открылся кочегарам во всем.
Ночевали дружки в трюме «Сатурна».
В трюме они сидели три недели, не высовывая носа на белый свет.
Но вот капитан «Сатурна» получил приказание чешского командования доставить на фронт две баржи с патронами и снарядами.
Отправились в поход.
В ночь с первого на второе июля под Хвалынском, пройдя полным ходом линию фронта, транспорт «Сатурн» — под красным флагом — выплыл к советским берегам, где и был встречен с почестями. Красная армия нуждалась и в пароходах, и в патронах, и в снарядах, а еще более — в верных революции людях!
Филькина карьера
Фильке Великанову под двадцать. За унылый рост и редкий голосок в слободке его прозвали Японцем.
Филька пылен, дробен, костляв как чехоня, рыло с узелок. С малых лет в работу втянут. Сезоны с отцом малярничал. Две зимы в приходской школе голыми пятками сверкал. Выгнали за озорство. С отцом дружба врозь. Убежал Филька из дому и нанялся в столярную мастерскую Рытова. Вскоре хозяин на своих же именинах опился политурой. Филька, имея беспокойство в сердце и трещину в кармане, укатил с эшелоном сибиряков под Перемышль, Крево, Молодечно. Команда разведчиков, тах-тара-рах, и с копыт Филька долой. В лазарете выпилили ему ребро и отпустили с военной службы по чистой. Ду-ду-у, пригрохал домой:
— Здорово, тятя.
Отец гнил заживо за печкой, в гнезде вонючего тряпья. Слушал-слушал Филька охи отцовские, тоска проняла. Купил мышьяку для крыс, самогонки банку:
— Пей, тятя, поправляйся.
Много ли слабому человеку надо? Дня через три схоронил Филька отца, распушил сундуки, купил гармонь. В синей суконной поддевочке нараспашку, в лакировках вышел к воротам на скамейку. Развел гармонь, колокольчиками тряхнул.
Пришла послушать бойкая солдатка Дарья, да и осталась, поворотила к Фильке свои милости обильные. Притащила узел с добром, швейную машину.
Дьяк-расстрига Ларионыч встретил Фильку на улице и говорит:
— Как я заведую подотделом вероисповедания и как помню твоего батюшку…
На другой день приоделся Филька, нацепил крест георгиевский и — в исполком. Ларионыч своей рукой прошенье вычурил, нашептал что-то Фильке на ухо, и вдвоем шасть в исполком к набольшему:
— Вот-с, товарищ Старчаков, глубокоуважаемый председатель, познакомьтесь… Сын трудового ремесленника, увечный воин, желает послужить народу, и подчерк подходящий.
Старчаков взглянул на почерк, на георгия на жидкую филькину рожицу в паутине мелкого волоса.