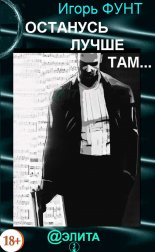Россия, кровью умытая (сборник) Веселый Артём
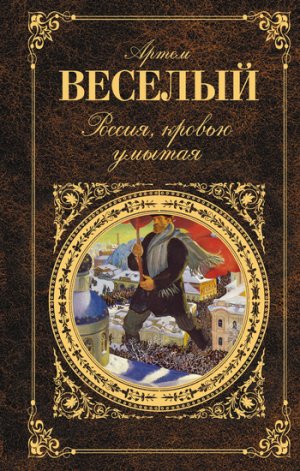
На краю города в раскрытом хлеву сидели однополчане — Максим Кужель, Григоров и Яков Блинов. Перед ними — на разостланной шинели — ведро вина, коврига хлеба и несколько печеных в золе картошек. Отслужившие свою службу винтовки были отставлены в угол.
Пили молча.
Казачья шашка и офицерская пуля выстелили полк по ставропольским степям. При переправе через реку Калаус белые отбили обоз, в котором ехали жена и больная дочь Григорова, — он не знал, что стало с ними. Под станицей Наурской ночью напоролись на засаду и потеряли последние пулеметы и последнюю батарею. Остатки полка рассеялись по дорогам. Максим на ногах переболел испанкой и брюшным тифом. Блинова дважды контузило — перекошенное лицо его беспрерывно дергалось, левая нога загребала, руки не слушались и не могли сразу схватить со стола ложку или кусок хлеба.
— Конец, друзья, всему конец, — как бы про себя тихо вымолвил Григоров. Он неторопливо просматривал записную книжку и уничтожал лист за листом.
Все трое опять долго молчали.
Где-то, со стороны Кизляра, погромыхивали пушки.
— Ехать надо, — вздохнул Максим и задумался. — Как и на чем ехать будем?
— Куда поедешь?
— Куда все, туда и мы.
— Брось…
— А тут чего высидим?.. Чу, кадетские пушки бухают?.. Того и гляди нагрянут, гады… Думай, не думай, а умней того не выдумаешь — утекать надо.
Григоров измятым котелком зачерпнул вина, медленно отпил и, обсосав ус, храпнул, как усталая лошадь.
— Никуда не пойду… Свое сыграли… Баста.
— Баста… — тряхнул головой и Яков Блинов. — Всякую жизнь поглядели, умирать пора… Были у нас в руках хоромы и дворцы, да не довелось пожить в них… Не дают нам контрики в две ноздри дышать, загнали обратно в свиной хлев. Тут, верно, и помереть придется. — Он с тоской оглядел заляпанные говяхами дырявые стены и невесело засмеялся: — Эх, ты, сивка моя бурка, не довезла солдата до райских садов. Выпьем…
Максим встал и сердито заговорил:
— От вас ли такое слышу, станишники?.. На войну с кадетами нас никто не гнал… Мы пошли по своей воле… Грудью, как это пишется в газетках, грудью вы встали за святое дело, не щадя ни жизни своей, ни хозяйства своего, ни семьи своей… Триста лет нас гнули, и отцов и дедов наших гнули…
— Брось, Максим Ларионыч… Я…
— Путь наш еще далек, — продолжал Максим, — а мы на полдороге начинаем спотыкаться и оглядываться назад… Кубань, Кубань… Да пропади она пропадом! По-старому-бывалому нам на ней не жить! За нами советская держава, сто или сколько там губерний… Только бы до Астрахани добраться, а там раздышимся и еще потягаемся с кадетами за райские сады, еще поедим золотых яблочков, еще вернемся на Кубань с музыкой, еще поплачут они от нас… А вы, головы, с большого ума чего надумали? Кадеты, с часу на час…
— Уж не мыслишь ли ты, Максим, что мы хотим к белым перебежать? — улыбнулся Григоров. — Нет, дружок… С кадетами нам одному богу не изливаться и одной соли не ёдывать.
— Ехать, ехать надо, — долбил свое Максим. — Лошаденка у нас хоть и плохонькая, а есть. В пути авось и другой разживемся.
— Никуда не поеду. Свое сыграл. Баста! — упрямо повторил Блинов и отвернулся.
Максим, волоча отекшие ноги, вышел.
Под навесом сарая дремала, уронив голову и распустив слюнявые губы, запряженная в двухколесную арбу буланая кобыленка.
— Но! — шлепнул ее Максим по крупу. — О грехах задумалась?.. — Сунул ей под морду горелую ржаную корку. — Набирайся паров, на тебя вся надежа.
В хлеву грохнул выстрел.
Максим кинулся туда.
На залитой вином шинели, грянувшись вниз лицом, лежал Яков Блинов. Правая разутая нога его еще дергалась, из затылка в стену тугой струей била кровь. Григоров сидел перед ним на корточках и, закусив бороду, глухо рыдал.
— Сам? — спросил Максим.
— Сам… Уговорились оба… Духу не хватает… И зачем пуля пощадила меня на фронте?
Максим потоптался немного и тронул Григорова за плечо.
— Едем.
— Куда ехать?
— Заладил свое, куда да куда… Вставай.
Под руки он поднял больного товарища и вывел из хлева.
Потом вернулся, вышарил в карманах у мертвого жестяную коробочку с махоркой, спички, поцеловал его в губы и, захватив пустое ведро и две винтовки, вышел сам.
— Ну, буланка, вывози.
Тронули улицей.
И сразу со всех сторон налетели попутчики. Оборванные, усталые и обозленные, они просили, стонали, ругались:
— Я не в силах идти, я погибаю…
— Братцы, посадите…
— Станица!.. Годок!.. Какими судьбами?.. — Перед арбой стоял Васька Галаган. Голова его была обмотана грязной тряпкой, сквозь которую проступила и черной лепешкой запеклась кровь. — Здорово, сват, — небрежно кивнул он и Григорову. — Подвезете версту-другую?.. Мне только своих догнать.
— Вася! — обрадованно воскликнул Максим. — Какой разговор? Садись, друг.
Галаган вспрыгнул на арбу.
Остальные не отставали и на разные голоса тянули.
— И я… И меня… Не покиньте на погибель…
— Ходи мимо! — вызверился моряк. — Лошадь, она не железная!
И еще Максим принял на арбу путавшегося в долгополом больничном халате мальчишку.
Уселись тесно, спина к спине.
— Откуда, сынок?
— Из лазарета, дяденька, убежал. Я здоровый, никого не заражу, ты меня не прогоняй… Я только измучился с дороги и от голоду… Во рту запеклось, покурить бы.
Моряк протянул ему расшитый цветными шелками, засаленный кисет с махоркой.
— Завертывай, салага. Табачок да вино, кипяченное со стручковым перцем, от тифа первое средство. — Он повернулся к Максиму и начал скороговоркой рассказывать: — Я сам больше месяца вылежал в пятигорском госпитале. Суют мне каких-то соленых порошков, а я их — за борт. «Врете, думаю, дорываетесь отравить морячка, но этот номер не пройдет». Под боком у меня две четверти вина грелось. Я его и сосал помаленьку. Винцо меня и на ноги поставило. Топаю в комиссию. Комиссия признает меня негодным к дальнейшей службе. Главврач, такой на козла похожий, спрашивает: «Ваш чин, звание, должность?» — «Моряк первой статьи с дредноута „Свободная Россия“ в недалеком прошлом, — отвечаю я, — и командир на все руки в настоящем и будущем». Улыбается главврач и говорит: «Вам, товарищ, необходимо отдохнуть». А я ему: «Катись ты к крокодильей матери. Все воюют, а я отдыхать буду? Ты меня увольняешь, но я остаюсь при своем славном отряде». Он мне ни слова. Лежу еще сколько-то дней, маракую, как бы дорожный аттестат забарабать… И снова топаю на комиссию. Доктора признают во мне возвратный тиф. «Мы вас, товарищ, переведем в заразный барак». — «Шалишь!» — кричу. «Я здоров!» — кричу. «Вы не врачи, а контры», — кричу. «Успокойтесь, товарищ, вам вредно волноваться. Вам нужен отдых». — «Не мне нужен отдых, кричу, хотите, чтоб я заразился и околел, и сами без меня мечтаете отдохнуть? Ну нет, гады. Я еще проживу бессчетно лет и долго не буду давать вам покою!» Они мне ни слова. С презрением поглядел я на них, закурил, сидора (мешок) на горб и — ходу.
— Отстал? — спросил Максим. — Где твой отряд?
Галаган рассказал о гибели отряда. Сам он последние месяцы не сидел сложа руки: был комендантом пороховых складов, возглавлял одну из уездных ЧК, гонял по Ставрополью бандитов, был начальником конной разведки Азовского полка.
Город давно пропал из виду.
Степь да степь кругом ни кустика, ни деревца, серые тяжелые пески.
Злой ветер гнал по степи сухую колючку и легкие шары перекати-поля: подпрыгивая и перегоняя друг друга, они неслись по дикому простору, массами скоплялись в низинах, подожженные, ярко пылали и указывали по ночам дорогу.
Наехали на схваченное льдом большое озеро.
— Море? — спросил мальчишка.
— Нет, хлопчик, это еще только шматки от моря. Само море будет в сторону верст на тридцать.
Напились соленой с горчинкой воды, сдобрив ее сахаром. Моряк отплевывался и ругался:
— От голоду-холоду отшутиться можно, а вот пить нечего — ложись и помирай. И как только тут люди живут? Это же не вода, а какая-то моча дамская. Тьфу, тьфу!..
— Так и живем, — подошел рыбак, — у нас в засушливые годы лягушки дохнут.
По берегу нагребли сухого камыша, метелками камыша покормили лошадь.
Рыбак рассказывал:
— На днях проходили тут ваши, многое множество. На Лагань пробирались. Озеро, оно вон какое, обходить далеко. Сунулись напрямик по льду. С версту отползли от берега, лед треснул и разошелся. Трещину забили повозками, лошадьми, пошли дальше… Лед подломился и осел. Все, сколько там ни было, с обозами, с пушками, потопли. Я шапок наловил полну лодку. Война, война… И кто ее выдумал на наше горе? Тьма-тьмущая народу гибнет.
— Погоди, дядя, буржуев перебьем, и войне конец.
— Жди, пока черт сдохнет, а он еще и хворать не думал.
По выбитой корытом дороге в одиночку и кучками шли, падали. Иные, шатаясь, подымались; иные оставались лежать; иные в горячке уходили в сторону от дороги.
За бугром в затишке присел отдохнуть молодой партизан, да так и замерз. Во рту у него торчал окурок. Ветер играл рыжим, выпущенным из-под кубанки чубом. Ноги замело песком.
Волы в упор тащили броневой автомобиль.
Валялась лошадь с выеденной волками требухой. Кто-то, спасаясь от холодного ветра, заполз в лошадиное брюхо; наружу торчали два костыля и одна нога в худом чоботе.
Брела молодая женщина с грудным ребенком на руках. Слезы размывали грязь на ее раскрасневшихся щеках. Из кармана бекеши торчала бутылка с молоком. Впереди, разбрыливая песок тяжелыми сапогами, шагал муж в малиновых штанах. Лицо его было накалено тифозным жаром, гноящиеся глаза не глядели. Нет-нет да и обернется и заорет: «Рассупонилась, тварь поганая!» И женщина зальется еще пуще. Ребенок уже не плакал, а только сипел.
Максим бодрил лошаденку хворостиной, но та ровно не слышала и, помахивая жиденьким хвостом, еле тащилась, заплетая ногу за ногу.
Тянулись руки, исхудавшие до того, что кожа казалась присохшей к мослам, и руки, отекшие до остекленения, в тифозной шелухе и язвах, многие руки тянулись и цеплялись за наклески арбы.
— Подвези.
— Куда же я тебя, бедолага, посажу?
— Как-нибудь… Ноги меня не держат… Посочувствуй…
— Жаль, друг, тебя, да жаль и себя.
— Ну, ладно, мы не сядем… Пойдем рядом… Будем только держаться…
Под курганом в головах издыхающего коня сидел, кутаясь в бурку, кавказец. Из-под сшитой из целого барана папахи его голодные глаза горели, как угли.
— Чего сидишь? — окликнул кто-то тихим голосом.
— Смэрть ждем, — так же тихо ответил он.
— Айда с нами.
— Гуляй адын.
— Продай, — потянул с него боец бурку, — тебе все равно умирать.
— Китыгис, кабан!.. Я тебе сделаю зубы наружу! — И кавказец взмахнул наганом.
Прошли.
Песок расползался под ногою, лошади вязли в песке по щетку.
В лощине застряла батарея. Артиллеристы выпрягли шатавшихся от изнурения, взмыленных битюгов, сыпнули в дуло каждого орудия по пригоршне песку и дали последний залп. Пушки дернулись и, изуродованные, свалились с лафетов. Батарейцы шапками отерли вспотевшие лица, закурили и, ведя в поводу битюгов, пошли вместе со всеми.
Два пулеметчика попеременно волочили за собой пулемет. Выбившись из сил, с раскрытыми ртами и глазами, налитыми кровью, они остановились, перекинулись коротким словом и принялись зарывать пулемет. На мерзлом песке сделали неприметные для чужого глаза хитрые отметины: они еще не теряли надежды вернуться!
В малиновых штанах отошел с дороги немного в сторону, перекрестился и пулей зачеркнул свою жизнь. Жена упала на него, забилась, закричала на крик:
— Феденька!.. Федя… Федя…
Ее темный вой доставал до каждого сердца, но всяк, кто ни проходил, отвертывался, чтоб не видеть такого… Никто и ничем не мог ей помочь… Но вот, шатаясь от усталости, подошел молодой боец и молча взял ребенка на руки. Женщина сняла с себя крест, накинула его на шею мужу и, плача с привизгом, поплелась за человеком, который понес ее ребенка. Долго она оглядывалась, останавливалась, как бы намереваясь повернуть назад.
Висел дождь, пахло мокрым песком.
Максим объехал распряженную повозку с больными. Они стонали и наказывали всем идущим и едущим мимо:
— Обозник обрубил постромки и ускакал верхом… Жеребец серый в яблоках, хвост коротко острижен, левое ухо резано, тавро глаголем. Обозник в плисовой бабьей жакетке, кривой на левый глаз. Где увидите — пристрелите.
— Не догонишь… Он поди-ка уже в Астрахани чаек с кренделями попивает.
Ковылял, припадая на ногу, китаец. По груди крест-накрест пулеметные ленты, на ремне через плечо ящик с полевым телефоном, в руках по винтовке, под мышками зажато по пучку соломы. За ним, не спуская с соломы налитых тоскою глаз, как тени, качались и брели, заплетая нога за ногу, брошенные хозяевами две худющие клячи. Как ни горько было бойцам, но многие рассмеялись.
— Покурим.
— Моя посола Астлакань, — оскалил он в улыбке гнилые зубы и прошел, не останавливаясь.
— Этот и до Сибири дойдет.
— Они живущие… Вчера на стану один такой же совсем кончался, а капнул я ему на язык три капли вина, у него глаза заблестели, встряхнулся: «Полоссай, товалиса», — только его и видали.
Пала ночь, забушевала темень, да такая, что и хвоста лошадиного невозможно было разглядеть. Ледяными струями потянул ветер, заковывая все в ледяную корку. А там хватила и, подобно снежному потопу, хлынула, закрутила метель.
Завыла, заметалась степь.
— Беда, — сказал Максим, — пропадем.
— Волчья ночка, — гнулся моряк, с головой укрываясь шинелью. Зубы его стучали, как пулемет. — Сам себя не видишь.
Наткнулись на целый лазарет. Лошади подохли в хомутах. На тачанках стонали, ругались, призывали бога и кляли его.
Мальчишка начал бредить. Он хватал Максима за руки и бормотал:
— Дяденька, у меня головной тиф… Дяденька, я умираю… жарко… Будто я — самовар, и в меня ровно кто горячих углей насыпал… Гони! Гони! Там за горой наша станица… Бабушка меня ждет, Федосья Кудрина. Капельку водички… жарко… Дяденька, кадеты! Вон, вон кадеты бегут… Белые флаги вьются… Стреляй! Дай винтовку! Гони скорее! — Он метался и захлебывался слезами.
Арбу мотало на ямах, арба дергалась, как в судороге.
— Гони!
— Тише, Максимушка, — просил Григоров. — Ох, ох, больно. Все нутро из меня выворачивает… Укрой меня, я замерзаю.
Максим набросил на Григорова свою шинель, а сам спрыгнул и зашагал рядом. Ноги его после тифа опухли и не лезли в ботинки. В пути он раздобыл валенки, но и в валенках было не лучше — то они мокрые, то обмерзнут, как колотушки.
— Волчья ночка… А ветер, ветер, того гляди, штаны сорвет… Это не игра. Не отстояться ли нам? — спросил Галаган.
— Остановимся — пропадем, — отозвался Максим. — Хоть и потихоньку, а ехать надо.
По мерзлой дороге скреблись лошади, скрипели колеса. В темноте хриплые голоса нокали.
— Кто идет?
— Темрючане.
— Братцы, — взмолился Максим, — давайте держаться вместе. Все как-то веселее.
— Погоняй, земляк, не отставай… Нас чумак ведет, сорок годов с промыслов рыбу возил, все дороги наизусть знает… На Эркентеневский улус трафим.
— И далече до него?
— К утру, гляди, довалимся… Только бы коняшки сдюжили.
Мальчишка спустил с плеча халат и, раздирая на себе гимнастерку, кидался:
— Жарко… Кожа на мне лопается… Дяденька, у меня ноги отваливаются… Одна уже, кажется, оторвалась?.. Слышишь, под землей конница скачет? Темно? Страшно! Аа! А! А! Горим! Горим! Пить хочу. Дай глоток воды, один глоток. Позовите взводного, я ему все расскажу…
— Фу ты, гнида, какой беспокойный, все бока протолкал, — ворчал моряк, прижимаясь к нему, чтобы согреться.
Максим не чуял под собой окоченевших ног, голову разламывало, каждая жила в нем стонала, но — с мужеством бывалого солдата — он крепился и все время что-нибудь делал: то оберет с лошадиной морды сосульки, то седелку оправит, сунет мальцу в горячий рот кусочек льду, приглядывал за Григоровым.
К утру парнишка затих. Отгоревшее лицо его посерело. Закушенный и покрытый белым налетом язык торчал на сторону. На синие веки опускались снежинки и не таяли.
— Испекся, — сказал моряк. — Столкнуть, а то только мешает.
Он ссунул мертвого и с облегчением вытянул на освободившееся место занемевшие ноги.
Мутный рассвет нагая степь ехали по еле набитому проселку.
— Где же улус?
— Леший его знает… Похоже, в сторону упороли.
— А чумак?
— Ночью сбежал… И мешок с хлебом прихватил, чтобы ему, кобелю старому, подавиться нашими крохами.
Вьюга-подируха из-под снегу драла песок. Снег поверху зачернел. Перебитый со снегом, скипевшийся мерзлый песок забивал уши, нос, рот. Песок скрипел на зубах, резал глаза и, казалось, пересыпался в пустых кишках.
Нежданно наехали на одинокую кибитку. Укрытая ото всех ветров, она стояла в седле меж двух курганов. Лошади, раздувая ноздри на кизячий дым, жадно заржали и прибавили шагу.
Не дошли сотню шагов из кибитки выскочил распоясанный и без шапки, спрыгнул в водомоину, высунул дуло винтовки и — давай смолить.
— Е! Ей! — закричали. — Одурел! Свои!
Повалилась на бок шедшая в голове соловая кобыла. Пуля клюнула в плечо одного из темрючан.
Моряк турманом слетел с арбы.
— Что за дело, сучье вымя, и тут война…
За ноги Максим сдернул с арбы спящего Григорова.
Залегли и другие.
Тах-тах-тах…
— Палит, сукин сын.
— Может, кадеты?
— Взяться им неоткуда… Похоже — один.
— Один-то один, да завалился в яму и пулей его не возьмешь.
— Окружим, — предложил молодой темрючанин, — подползем со всех сторон и на «ура».
— Эка, будем кота за хвост тянуть. Я его, лярву, в два счета пришью, я ему… — Галаган вскочил и, пригнувшись, в припрыжку ринулся вперед.
Когда подбежали и другие, моряк уже сидел на стрелке верхом, левой рукой душил его, а правой хлестал по рылу и приговаривал:
— Гад… Курва… Вредный… На своих руку поднял?.. Дракон… Мурло… Ехидна… Обломок Иуды… Чертов пуп! — и какими, какими только словами не поносил его морячок…
Бросились в кибитку. В кибитке на овчинах бредила в тифу старая калмычка. Больше никого кругом не было. Тогда подступили к стрелку. Галаган поднял его с земли за шиворот и поставил пред свои грозные очи:
— Рассказывай, что ты есть за человек?
— Не мучь, братишка, — заплакал тот, отирая рукавом кровь с подбородка. — Стреляй скорее, стреляй Христа ради и не мучь…
— Садись и рассказывай. — Галаган выдернул из-за пояса кольт и взвел курок. — Рассказывай чистую правду. За первое фальшивое слово съешь пулю.
Все уселись у входа в кабитку.
Запухшими от кровоподтеков глазами он глядел на своих вчерашних соратников, как хорек, схваченный капканом, и, еле шевеля разбитыми губами, тихо повествовал:
— Я Царегородцев, Пашковской станицы, 1-го Кубанского полка… Наш эскадрон вышел к морю, на Лагань. Оттуда лежит тракт до самого Астраханя. Стали переплавляться через лиман. И подуй на нашу беду с берега отдёрный ветер. Льдину оторвало и закачало, понесло всех нас в море. Кто плачет, кто со злости смеется, кто, понадеявшись на коня, бросается вплавь. Многие потонули, но мы с товарищем Бондаренком — Гончаровского хутора казачок — выплыли на берег. Вот покинули обмерзших коней и сами, чтобы хоть немного согреться, бегом ударились в степь. Дело ночное, следу не видно. «Ветер, говорю, должен дуть нам в левую скулу». А товарищ успоряет: «В правую». Сколько-то дней плутали, голодные, без курева, спички размокли, и ни одна не загорелась. Набрели на поселок, где не нашли ни куска хлеба и ни одного живого. В хатах лежали мертвые, по улице валялись мертвые, и меж ними шныряли собаки. Обморозил я ноги, кожа на ногах начала лупиться, загнили пальцы. Товарищ нес мой вещевой мешок и мою винтовку. Подстрелили барсука и сожрали его сырым. Поднялась у меня в брюхе паника, валюсь на песок и говорю: «Я умираю». Товарищ перевернул меня на спину и давай мять мне брюхо кулаками и коленками. Меня в испарину кинуло, силы немного прибавилось. Не так здоров, но встал и могу на ногах шататься. Пошли. Идем полегоньку. Потом наткнулись на эту кибитку. У них было три барана и немного муки. «Мы слабые, — говорю я, — они нас ночью заколют, да и харчей на всех надолго не хватит, давай их убьем». Бондаренко отвечает: «У меня рука не поднимется, они перед нами ни в чем не виноваты. Отец мой, такой же старичок, остался на Кубани, может быть, и его уже кто-нибудь решает жизни». — «Раз, говорю, у тебя сердце мягкое, отойди на минутку…» Он, хотя и с неохотой, отошел и отвернулся. Обнажаю наган и стреляю старого калмыка, стреляю дите, еще дите и еще одного черномазого — шустрый такой: двумя пулями его пробил, а он знай визжит, за наган хватается и ноги мне целует. Свалил и этого, а старуху оставил: хоть перед смертью, думаю, справлю удовольствие. Она была еще здоровая и горячая, пар от нее отскакивал… Живем день, живем неделю, живем хорошо, как цыгане. Наедимся лапши с бараниной, спать завалимся, выспимся, калымку я понасильничаю, снова лапшу завариваем и опять на бок. Товарищ мой совсем поправился и все долбит: «Пойдем да пойдем». У меня ноги разнесло, босиком далеко не уйдешь, а сапоги не лезут. Старуха по ночам донимала: сядет на могилку, где мы их закопали, и воет, да как, стерва, воет — волос на тебе медведем подымается. Гонял я ее, бил, а она, как ночь, опять за свое…
Он помолчал и досказал:
— Вот вижу, мука кончается, баранины одна тушка остается, и пала мне на сердце злая думка… Покинет меня товарищ и баранину упрет. Стал я следить за ним. Выйдет он на курган и все дороги рассматривает. Ну, мы с ним поругались… Он лег спать, ничего не думал… Ну, я его ночью… того. Остался я один и стал жить с калымкой, как с женой…
— Вопрос ясен, — прервал его Галаган. — Чего же ты, друг ситный, в нас палил?
— Испугался… Я, братишечка…
— Ага, испугался, что твою баранину съедим?.. Ну, миляга, пойдем, получай награду, какую заслужил, — пинком Галаган поднял его с земли, отвел немного в сторону и свалил.
Переждали, пока стихла вьюга, и снова двинулись в путь-дорогу.
Выбрались на большак.
У темрючан лошади были поживее, и они угнали вперед. Максим, Галаган и Григоров опять остались втроем. Лошаденка останавливалась все чаще и чаще.
— Но, удалая, вывози.
Удалая помоталась еще немного и — на бок. Ее подняли. Буланка шагнула раз, шагнула два и опять упала: предсмертная дрожь пробежала по ее истертой шкуре, как рябь по тихой воде.
— Скотина дохнет, человек жив. Чудеса твои, Христе-боже наш!.. — горько засмеялся Галаган и потянул с арбы карабин и вещевой мешок.
Максим тесаком расщепал оглобли, раздергал арбу по доске и разложил костер. Кое-как они переспали на теплой золе, утром пососали снегу и пошли дальше.
По дороге и на обе стороны от дороги валялись полузасыпанные песком грязные портянки, поломанные колеса, разбитые кухни и повозки, брошенные седла, скорченные фигуры людей.
Григоров еле переставлял ноги.
— Вот и мы скоро так же…
— Мужайся, друг, — подбадривал его Максим. Он и сам чуть шел, но унылого вида не показывал.
Не падал духом и Галаган. Чтобы отвлечь спутников от смертных мыслей, он всю дорогу рассказывал что-нибудь потешное.
Подобрали брошенную кем-то косматую кабардинскую бурку, — поставленная на подол торчмя, такая бурка стоит как лубяная, — но в нее столько набило мерзлого песку, что тащить было не под силу, и они ее оставили.
Татарская деревня Алабуга догорала на кострах. Дома и мазанки, сараи и летние дощаные бараки были растащены. На кострах пылали вершковые половицы, полотнища ворот, крашеная резьба оконных наличников, камышовые снопы. Вокруг костров сидели томные, полумертвые… Выжаривали вшей из рубах, пекли в золе лепешки, в вине варили маханину. В хомутах и под седлами дремали голодные лошади. Лежа, вытянув по земле шеи, дремали верблюды — нежные пятки их были ободраны до мослов, горбы обвисли, на скорбных глазах намерзали слезы по голубиному яйцу.
Подошли трое, поздоровались. У огня раздвинулись и дали им место.
— Земляки, нет ли испить? — хрипло спросил Григоров.
— Сами двое суток не пили.
Один выхватил из кипящего ведра большой кусок мяса и ковырнул его черным пальцем.
— Похоже, готово.
— Давай дели, — загалдели кругом. — Горячо сыро не живет. Бывало, трескали свинину, а ныне довоевались — не хватает и конины.
— Оно по первому разу вроде душа не принимает, — сказал стоявший в свете огня огромного роста человек, на плечи которого, как поповская риза, был накинут и стянут на груди сыромятным ремнем персидский ковер. — Намедни попробовал жеребенка и все боялся, как бы он у меня в брюхе не заржал да лягаться бы не начал, а сейчас хоть кобылу давай — съем.
— После тифу, братцы, так-то ли на еду манит!.. Не то кобылу, хомут с гужами слопать готов.
— Да, разбираться не приходится, ешь, что зуб возьмет…
Все набросились на маханину.
Из темноты на огонек выходили все новые и новые, один страшнее другого.
При дороге стояла старуха татарка с торбой на плече. Она кланялась и оделяла проходящих кусочками черствого хлеба.
— Прощевай, дядьки, — поднялся Галаган. — Потопаю. Увидите своих, кланяйтесь нашим, — пошутил он напоследок.
— Куда ты, Вася, на ночь глядя, пойдешь?
— Спешу, спешу к цветку любви! — пропел он разбитым тенорком, прилаживая на загорбок мешок. — В Астрахани меня девочка дожидается: юбочка гармонью, кружевной лифчик, и-их! Душа окаянная… А, глядишь, подфартит, и своих азовцев догоню… А ночь для меня — тьфу! Мне лиха беда полы за пояс заткнуть, а там как затопаю, только пыль за мной завьется! — Он пожал станичникам лапы и, воротя нос от ветру, бодро зашагал в ночную темень.
Ночевали Максим с Григоровым в яме, в которую ссыпают рыбу на засол. Шинель постлали, шинелью укрылись. Всю ночь воевала вьюга, лепил мокрый снег. Ночью Григоров умер и окоченел. Максим проснулся, охваченный мертвыми руками, как обручем. С трудом он освободился из объятий мертвеца, вылез из ямы, немного всплакнул о товарище и — довольно.
Спустя еще два дня Максим довалился до села Оленичева и решил тут отдохнуть — ноги не несли его дальше. На улицах чаны с водою. Около них грудились обозы, вповалку лежали люди и лошади. У помещения этапного коменданта гудела огромная толпа. Раздатчики из распахнутых окон выдавали по неполному котелку пшеницы на едока и по осьмушке махорки на четверых. Калмыки — мобилизованные санитарным врачом — шайками разъезжали по улицам, собирали мертвых на скрипучие арбы и свозили за село в ямы, в ямы валили великое урево мертвяков, заливая их известкой и присыпая песком. На одном дворе китайцы варили в банном котле верблюжью голову. Вокруг них похаживал хозяин того двора и ругался:
— И откуда вас прорвало, хари неумытые?.. День и ночь, день и ночь идут и идут… Всю душу вытрясли, в разор разорили.
— Мы не на прогулке, — с укором сказал ему Максим, — не по своей воле идем, горе нас гонит. Погоди, может, и вам, астраханцам, придется хлебнуть горячего до слез.
— Друг ты мой, стога сена пять лет стояли непочатые, аж землей их взяло, все думал — вот-вот, вот-вот. А тут вас, как из трубы, понесло — стравили, сожгли все до последней сенины. И спрашивать не с кого. Каково это крестьянскому сердцу?.. Вешай хоть такой замок, хоть такой… Как хмылом все берет. И когда вы провалитесь?
— Хлеба или чего такого не продашь? — перебил Максим черноречье хозяина.