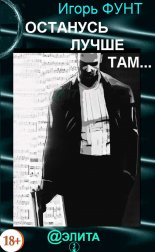Россия, кровью умытая (сборник) Веселый Артём
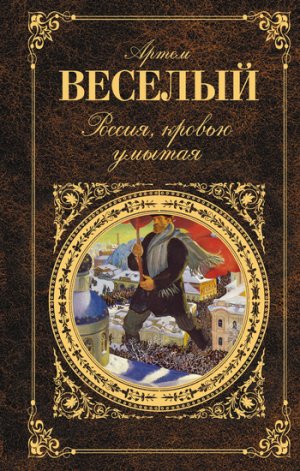
Наконец гости провалились.
Марфа кинула крепкие руки на плечи мужу и с пристоном выдохнула:
— Заждалась я тебя…
— Ы-ы, у меня у самого сердце, как золой, переело. — Он лепил в ее сухие, истрескавшиеся губы поцелуй за поцелуем.
Она задула лампу и, ровно пьяная, натыкаясь на стулья, пошла разбирать постель.
…Максим пересыпал в руке ее разметанные густые волосы и выспрашивал о житье-бытье.
— Жила, слезами сыта была… В степь сама, по воду сама, за камышом сама, тут домашность, тут корова ревет — ногу на борону сбрушила, дитё помирает. Кругом одна. Подавилась горем. От заботы молоко в грудях прогорькло, может, оттого и кончился Петенька.
— Не тужи, наживем другого.
— Легко сказать: другого. — Она заплакала. — Такой поползень был шустрый да смышленый. Везде он лез, все хватал, цапал…
На Максима забыть нашла, а над ухом все гудел и гудел ровный женин голос:
— Такие страхи пошли после извержения царя… Голову от дум разломило. Сперва все судачили — вот Керенский продал немцам за сорок пудов золота всю Кубань вместе с жителями; потом слышим — вот придут турки и начнут всех в свою веру переворачивать. На крещенье вернулся из города лавочник Мироха и на собрании объясняет всему обществу: «Вот наступает из Ростова на нашу станицу красное войско, прозвищем большевики. Все хвостатые, все рогатые, все с копытами. Пиками колют старых и малых, а из баб мыло делают». Такой поднялся вой, такое смятенье… С плачем, с криком кинулись мы, бабы, в церковь, подхватили иконы, подняли хоругвь. Батюшка с крестом три раза обошел вокруг станицы, все дороги и тропы святой водой окропил, и, слава царице небесной, пронесло большевиков стороной.
Сытый Максим пробурчал сквозь сон:
— Дуреха ты нечесаная.
— Чего я знаю? Темная я, как бутылка. Куда люди, туда и я.
— Такие брехи на страх простому народу разводят фабриканты, банкиры, генералы и все приспешники престола Николая, которые затаили в себе дух старого режима.
— Хай они все передохнут. Лошадь у нас есть, корова меж молок ходит, как-нибудь перебьемся, а там, глядишь, землицы нарежут, посеем посеву и заживем с полагоря…
В переднем углу теплилась лампадка зеленого хрусталя. Смутные тени лежали на темных ликах угодников. В покосившиеся окна заглядывало седое зимнее утро. За стеной промычала корова: Максиму показалось, что заиграл горнист, он вскочил, огляделся и снова подвалился под жаркий бок Марфы… Счастливый, уснул.
Станица раскачивалась, через станицу волной катились вести:
Большевики берут верх по всей России.
На Дону война. На Украине война.
В Новороссийске — советская власть.
По Ставрополью народом поставлена советская власть.
Казаки за народ. Казаки против народа.
Под станицей Энем офицеры перебили отряд новороссийских красногвардейцев.
В Екатеринодаре войсковое правительство разгромило исполком и арестовало большевистских вожаков.
Ростов взят красными.
В станице Крымской на съезде представителей революционных станиц выбран кубанский областной ревком.
Весна выдалась недружная. Блеснет ясный денек, другой, и снова запорошит, завьюжит. Чуть ли не до благовещеньего дня прихватывали заморозки, перепадал снежок, но уже близилась пора пашни и весеннего сева: по-особенному, свежо и зазвонисто горланили петухи; под плетнями на пригреве босые ребятишки уже играли в бабки; в садах и на огородах копались бабы; хозяин сортовал, протравливал посевное зерно, вез в починку плуг и сеялку.
Два раза в неделю приглушенно шумел базар, в кузнице день и ночь кипмя кипела работа, над станицей плыл и таял в сырых просторах степи медлительный великопостный звон.
У кузниц и на базаре, и на мельнице, и в церковной ограде— всюду, где сходились люди, — неизбежно заваривались крутые споры, вскипали сердитые голоса, вражда рвалась направо и налево.
Фронтовики из вечера в вечер собирались в доме учителя Григорова, судили, рядили — какую власть ставить? Приходили послушать дерзких речей и старики, но сами в разговор ввязывались редко, молча посасывали трубки, по перенятой от горцев привычке строгали ножами палочки да, посматривая друг на друга, качали головами. Завернули было как-то на огонек солдатки. Школьный сторож Абросимыч, престарелый герой турецких походов, облаял их последними словами и вытолкал в шею — не вашего, мол, тут ума дело.
— Я так думаю, надо самый зуб выдернуть — арестовать атамана! — говорил Максим, смело оглядывая собравшихся.
— Не с той ноги, Максим, пляшешь. Арестуем атамана — казаки завтра же всех нас порубят, постреляют. Они такие…
— Дурак, — осаживал говорившего кто-нибудь из молодых казаков. — Мне атаман тоже дорог, как собаке пятая нога. Сшибить его не хитро, а кого поставим хозяином станицы?
— Вот Емельку, — смеялся подъесаул Сотниченко, выталкивая вперед батрака Емельяна Пересвета. — За такой головой жить — не тужить.
Смущенный Пересвет, как бугай, мотал косматой башкой, что-то мычал и пятился в угол, а кругом гремели голоса:
— Брысь под лавку.
— Он и свинье замесить не умеет.
— Мы того не допустим, чтоб, как в других прочих местах, всякий прошатай над нами стоял… Послушаешь — уши вянут: там фельдфебелишка, там рыбак, там матрос станицей крутит.
— И Христос плотником был, — вставил благообразный мужик Потапов, вожак секты евангелистов.
— Быть того не могёт, — отмахнулся Сотниченко. — Какой там плотник? Может статься, был он подрядчиком или кем… Но чтоб плотником — руби голову, не поверю.
Хохот пошел такой, будто, поленница дров развалилась.
Сбитый с позиции Сотниченко не унимался:
— Я — природный казак. Два Георгия и медаль заслужил. Мне ли его, Емелькин, приказ исполнять? Того вовек не будет.
Взяло Максима за сердце, опрокинулся на подъесаула.
— Во, во, братику, генеральская палка еще не дюже вам прискучила… Поставь перед тобой чучелу в рассыпных эполетах — и перед той будешь тянуться да честь отдавать. Генералы да атаманы большое жалованье получали, много они сосали народной крови. Нам нужны управители подешевле. Всем миром-собором будем за делами смотреть. Выборный комиссар, будь хоть черт, он весь на виду. Чуть начнет неправильные приказы давать — по шапке его, выбирай другого…
— Господина Григорова просить будем, говорок.
— Он и говорок, да смирный, а дело… — Максим, как бы извиняясь, коротко улыбался учителю и испытующе глядел ему в глаза, — дело к войне, нам смирных не надо.
Григоров порывисто вскакивал и говорил-говорил о светлом будущем России и революции, о народоправстве и грядущем примирении всех наций и сословий. По природе человек мечтательный и тихий, в дни далекой юности он увлекался революционными идеями, но когда началась расправа над лучшими, слабые увяли. Увял и убрался из города и Григоров. Десять лет с лишним как он уже учительствовал в станице, вдалбливая в головы подростков нехитрые правила правописания и незыблемые истины начальной математики… Говорил он обычно горячо и помногу и при этом, по болезненной привычке, вертел в руках какой-нибудь предмет или быстрым движением навивал на палец и вновь распускал длинный черный шнурок пенсне. Иные, слушая его, скучали, а иных как раз и прельщали непонятные и кудреватые слова, которыми учитель обильно уснащал свою речь, сам того не замечая.
Когда, наконец, усталый и счастливый, он плюхался на стул, ему, по завезенной из города моде, рукоплескали, а до ушей долетал, обжигая, одобрительный шепот:
— Башка…
— Это действительно… Говорит, как по книжке читает.
— Господи, твоя воля, что-то с нами будет? — Мясник Данило Семибратов донельзя засаленным батистовым платком отирал вспотевшее лицо, поросшую золотистой шерстью грудь, подмышки и, редко расставляя слова, хрипел: — По мне, коли что, выбрать хорошего человека, и пускай ходит пополам: один день атаманом, другой день комиссаром.
Максим на него:
— Нет, Данило Семенович, нечего нам с атаманами якшаться! Раздергивать их на все концы, и никакая гайка.
— Дивитесь, люди добрые, Кужель сам в комиссары метит, да — не балуй! — хвост короток.
— Куда мне, я малограмотный… Вперед не суюсь, но и сзади не останусь: интересует меня, что у нас получится?.. Ночей не сплю, думаю.
Евангелист Потапов нахлобучивал на глаза заячий малахай и, пробираясь к выходу, ни на кого не глядя, как бы про себя бормотал:
— Всенародная молитва, покаяние и прощение грехов друг другу… А тут — адов смрад, хула, вертеп разбойников… Кровь будет, горе будет, пожрем и похитим друг друга, а червь пожрет всех нас… Зарастут пороги наших жилищ сорной травой, едины хищны звери будут рыскать по лицу земли…
Кто бы мог подумать, что не пройдет и месяца, как новоизраильцы, староизраильцы, субботники, штундисты, прыгуны и другие сожительствующие в станице секты выставят в партизанские отряды роты и сотни своих братьев?
Максим долбил свое:
— Нам хоть туда, хоть сюда, но как бы скорее землю…
— Да, время не ждет, пора бы и делить.
— А чего ее делить? — удивился рыжий Бобырь. — Она делена. Ударит теплышко-ведрышко, запрягу, свистну и поеду.
— Грех между нами будет.
— Старость придет, замолим.
— Умно сказал: «свистну да поеду». У вас, Алексей Миронович, казачьего наделу пятнадцать десятин на душу, а душ не мало — три сына, племяш, дед, зять да сам большой… Дурной головой сразу и не сообразишь, какую вы под пашню карту поднимете.
— А ты чужое не считай, мозги свихнешь… — сказал Бобырь. — Гони аренду по триста целкашей за десятину и вваривай, паши, насколько сила взгребет.
— Где возьму такие капиталы? Целкаши не кую и не ворую.
— Мне до того заботы мало, со своим добром не навяливаюсь. Кому надо, придут, да еще и в ножки поклонятся.
— Ой, Алексей Миронович, не просчитайся.
— И чего ты, Игнат, к нему присватываешься? — вступил в разговор инвалид Савка Курок. — Люди выедут, и мы выедем. Люди начнут сеять, и мы начнем сеять. Которое поле приглянулось, то и твое.
— Сейте, сейте, а убирать да молотить вас не заставим, как-нибудь и сами справимся.
— Разувайся… Мы, фронтовики, не выпустим оружия из рук, пока свой порядок не установим. Свобода, равенство и никакого с вами, кабанами, братства. Вся сила в нас: что захотим, то и сделаем.
— Погавкай, собака хромая.
— Это я — собака?
— Нет, не ты, а твоя милость.
Савка поднимал костыли и лез в драку. Его оттаскивали и отговаривали. Он рвался и не своим голосом орал:
— Я ему голову отвинчу…
— Отцепись, калека. Послушай лучше, что вон люди про войну говорят…
— Провались она в преисподню, эта самая война… Тебе, Игнат, еще гладко: сын в городе хорошие деньги зарабатывает, он тебя докормит до смерти. А мое положение — жена больна, нездоровье не позволяет ей работать, полна хата малышей, жрать нечего, и сам я не имею над чем трудиться.
— Да, почудили на свой пай, — сказал гвардеец Серега Остроухов. — Не знаю — как кого, а меня ныне на войну и арканом не затянешь, Погеройствовали, хватит. Самое теперь время ночью над своей бабой геройство оказывать.
— Ты, односум, до баб лют. Кабы за такое геройство награды выдавали, зараз бы полный бант заслужил.
— Ох, леденеет кровь в усталых жилах, как только подумаешь о войне, а воевать не миновать.
— Горюшко-головушка.
— До стены дошли, — говорит Максим, — стену ломать надо. С кого начинать, с чего начинать, у всех ли есть оружие?
Мысль рождалась туго.
Спорили целыми ночами, бесконечно плутали в кривотолках, и все же передовые хотя и медленно, но выбивались на верную тропу.
В праздничный красный день после обедни конные мыкались по станице и шумели под окнами:
— На майдан! Ходи, старики! Ходи, молодые! Из окна высовывалась голова хозяина:
— Што такое?
— Приехал…
— Кого там принесло?
— Его высокоблагородие полковник Бантыш, член Кубанской рады, изволили прибыть. На майдан сыпь наметом.
Хозяин, не допив чая и отодвинув недоеденный кусок пирога, выскакивал из-за стола и командовал:
— Баба, подавай полковую форму.
И скоро, приодевшись по-праздничному и нацепив все боевые отличия, казаки уже поспешали к станичному правлению. Улицей и переулками торопливо шагали старики и солдаты-фронтовики. Сломя голову мчались ребятишки. Бежали не пропускавшие ни одного собрания солдатки. Ковылял, волоча перебитую ногу, инвалид Савка Курок и во всю рожу орал:
— Какое там собрание? Все равно будет по-нашему. Вся сила в солдате! Казаки против народа не вытерпят.
Площадь от краю до краю затоплена станичниками. Там и сям заядлые спорщики уже вступали в единоборство. И даже робким, что всегда на народе молчали, и тем не молчалось.
Заика-пекарь Гололобов, подергивая контуженным плечом, шнырял по толпе и скороговоркой сыпал:
— Шапку к-к-казачыо носить не м-м-моги. С возом едешь, с-с-сворачивай. Аренду з-за план гони, за па-пашню гони, за попас к-к-козы гони. Пожарную к-к-команду содержи, дороги, мосты б-б-б-б-блюди. В церкви стой у п-п-п-порога. Суд к-к-казачий, правление к-к-казачье, училище к-к-казачье. Тьфу, провались в т-т-т-т-т…
— Тартарары, — подсказал учитель Григоров, и все рассмея лись.
— С-с-сижу вчера у ворот, по-по-подходят Нестеренко и Мишка К-к-козел. «Купи, говорят, бутылку самогонки, а то з-з-з-зарежем». И ко мне с кинжалами. Ну, к-к-купил. П-п-провались в тар-тарары такая жизнь.
— Всякая кокарда с двуглавым орлом будет над тобой измываться… Взял бы грязное метло…
— О-б-б-обидно.
— Не дают нам вверх глядеть.
— Страдаешь за то, что живешь.
В кругу тесно сгрудившихся слушателей Максим громко читал истрепанный номер большевистской газеты, с которым не расставался уже с месяц. Почти все статьи он знал наизусть. Бегло читал по листу и, где было нужно, добавлял перцу от себя, так что получалось здорово.
Сдержанные голоса и шепот:
— Вот тож большевики, сукины дети, каждым словом по буржуям и генералам бьют.
— Раз-раз — и в дамки.
— Шпиены…
— То, дядька, брехня.
— Знаменитая газетка, она раздерет глаза темному народу… Слушаю, и злоба во мне по всем жилам течет… Эх ты, власть богачей золотого мира, и до чего ж ты нашу государству довела?
— Тише, Егор, не мешай слушать.
На плечо Максима упала тяжелая рука старого казака Леонтия Шакунова:
— Стой, солдат.
Максим обернулся и стряхнул с плеча руку.
— Стою, хоть дой.
— Как ты, суконное рыло, смеешь народ возмущать?
— А какая твоя, старик, забота? Ты что, начальник надо мной или старый полицейский?
— Га-га-га, — загремели многие глотки.
— Не пяль хайло и грубить мне не моги. Я есть полный кавалер, в трех походах бывал.
— Проснись, кавалер, открой свои глаза: свобода слова. Кругом имею право говорить, кругом — требовать.
Шакунов вытянул кадыкастую шею, взглядом выискивая в толпе казаков.
— Чего вы, едрена-зелена, уши развесили, всякую хреновину слушаете да еще зубы скалите? Газетину эту надо арестовать, а солдата выпороть и выгнать из станицы к чертовому батьке…
— Не круто ли, дед, солишь?
Шакунов откашлялся и, грозя седою бровью, заговорил:
— Послушайте, господа станишники, меня старого. Мне жить осталось недолго, врать грех, врать не буду. Кто такие большевики и красногвардейцы? То не бывалошная гвардия, в которую шли служить лучшие, отборные люди, как наши лейб-казаки. То голодранцы, жулье, босая команда, золотая рота, отродье вечного похмелья. Ни дома, ни хозяйства у них нет и никогда не было. Дела никакого не знают. Говорят с ругней, едят и пьют с ругней. С Дону казаки их пугнули, и наша рада своих из Екатеринодара пугнула. Вот они и бродят по Кубани шайками, как волки, вынюхивают, где бараниной пахнет. Чего добудут, то и пропьют, проиграют али на папироски растратят. Хай-май, ничего им не жалко. Нынче тут, завтра бес знат где. У нас и хаты, и кони, и коровы, и кабаны, и плуги, а, может, у кого и косилка с жнейкой. Так что ж, господа станишники, пустим большевиков на дворы, в хаты, да и скажем: «Берите наше нажитое, спите с нашими женками?..»
— Слушаю я тебя, Леонтий Федорович, и диву даюсь, — перебил его седоусый вахмистр Луговый. — «Кони да коровы, кабаны да тягалки, кисель и сметана…» Как у тебя бесстыжие глаза не полопаются? Как ты ухитряешься всех на свой салтык мерять? Я — казак, ты — казак. У тебя один сын в Армавире писарем служит, другой при генерале холуем, а мои соколы с первого шагу войны за Расею бьются и груди свои молодецкие крестами да медалями изувешали. — Грязной тряпицей он отер слезящиеся глаза и всхлипнул. — У тебя посеву четыреста десятин, трех годовых работников содержишь, а мне шестьдесят пять годиков стукнуло, просятся старые кости на покой, ан нет: сам над своим наделом горб гну… Из-под ногтей у меня пшеница растет. — Он поднял задубевшие от работы руки и показал их всем, потом чиркнул спичку о корявую ладонь: спичка вспыхнула. — Это ты можешь понять?
— Тут и понимать нечего… Ты, Луговый, хоть и вахмистр, а на все стороны дурак. Не одному ли мы государю служили и не одинаковыми ли мы пользовались правами? Кто тебе наживать не велел? Пьянствовать надо было полегче да слушать тех, кто старше тебя чином.
— Служба царская до богачества меня не допускала. Сам двенадцать годов на сверхсрочной оттрубил, а сыны тут до самой свадьбы из ярма не вылазили, на таких, как ты, батрачили. Сам отслужился, деток стал на действительную собирать. Выставил трех строевых коней, справил три полных комплекта амуниции и закашлял, и до сего дня кашляю. Нынче сыт, а завтра, может быть, придется с сумкой на паперть идти. Каково это на старости лет?
— Ну, мой двор стороной обходи. Лучше кобелю кусок брошу, он хоть тварь бессловесная, спасиба не скажет, а хвостом повиляет. Через вас, таких дуроломов, и на нас такая туга пришла…
Луговый еще что-то хотел сказать, но побелевшие губы его задрожали, он плюнул и, повернувшись, ушел. Кто-то из стариков вздохнул.
— Батюшка нонче в проповеди справедливо разъяснил: «Трусы, и мятежи, и кровопролитные брани… На крови Кубань зачалась, на крови и скончается».
— Надо спасать революцию, а не Кубань. Останется жива революция, цела будет и Кубань.
— Ох, эта ваша революция… Переобует она казаков из сапог в лапти.
— Да, пойдет теперь кто туда, кто сюда… Сто лет будем враждовать и не разберемся.
— Неправда, — сказал Максим и снова развернул газету, — разберемся. Мы стали не такими темными, какими были в четырнадцатом году. Можем разобраться, где квас, где сусло, кто говорит красно, да мыслит черно…
Шакунов покосился на газету:
— Ты, солдат, ее спрячь и сегодня же представь атаману на рассмотрение. Нас, казаков, не переконовалишь на мужичий лад. На каждое твое слово у меня десять найдется. Мой сказ короток: шашка — казачья программа. Кулак мой — вам хозяин. Вот он, немоченый, десять фунтов. — Он воздел волосатый кулак и покрутил им над толпой.
Гвардеец Серега Остроухов сверкнул глазами.
— Ты, Леонтий Федорович, сперва отмой руки, после девятьсот пятого года… Твои руки в крови!..
— Цыц, сукин сын! Всех вас, разбойников, лишим казачьего звания и наделов. Не допустим порушить порядок, который наши отцы и деды ставили. Не видать вам нашего покору, как свинье неба.
Остроухов схватил его за горло:
— Зараз глотку перерву…
Зашумели было, зарычали, но в эту минуту из правления на крыльцо в сопровождении станичного атамана и стариков вышел одетый в синюю черкеску гвардейского сукна член Кубанской рады Бантыш.
Площадь притихла.
Бантыш снял папаху, поклонился и осипшим от многих речей голосом крикнул:
— Здорово, господа станичники!
Толпа качнулась и недружно, вразнобой ответила:
— Здравия желаем, ва-ва-ва…
— Гляди, какой бравый!
— Орел.
— Он человек приезжий, стравит нас, да и дальше, а нам расхлебывать, — робко заметил Сухобрус.
— Этот наговорит… — засмеялся казак Васянин. — Одному такому же усачу мы на киевском вокзале добре мускула правили.
— Тише, вы, горлохваты, слушайте оратора. Никакого соображения в людях нет. Ведь это вам не тюха-митюха и не кляп собачий, а его высокоблагородие господин полковник.
Бантыш по-атамански отставил ногу и заговорил:
— Достохвальные казаки! Настало время сказать: то ли мы будем служить панихиду по казачеству, то ли все как один гаркнем: «Есть еще порох в пороховницах! Еще крепка казацкая сила!» Был один Распутин и то сколько горя причинил, а ныне вся Россия распутничает, и ее же сыны продают ее направо-налево: грабежи, убийства, партийная борьба, святых церквей разорение. Россия поскользнулась в крови и упала, пусть сама подымается, мы ее не толкали. Нам, кубанцам, потомкам славных запорожцев, надо подумать, как бы утвердить добрый порядок у себя дома. В Екатеринодаре заседает наша войсковая рада. Есть у нас, слава богу, и свое казачье войско. Будет и казна своя и законы. Кубань сама себе барыня…
— Так, так, справедливо… — трясли бородами старики, а в углах площади уже снова разгорались споры.
Фронтовик Зырянов — глаза блестят, руками машет — кричал громко, ровно его окружали глухие:
— Тут тебе земля дворянская, тут — монастырская, тут — войсковая, а где ж наша, мужичья?
— Ваша в Рязанской губернии, там вам пуп резан, туда и валите новые порядки наводить.
— Я четыре раза ранен…
— Дураков и в церкви бьют.
— По-моему, надо порешить нам, фронтовикам, общим голосом — разделить паи по всем живым душам, и греха больше не будет.
— Меня, друг, с мужиком, с бабой да с малым дитем не равняй… Мы за Кубань кровью своей разливались, костями своими ее сеяли. У нас на кладбище одни женки да матери лежат, а казаки — кто на Кавказе сгинул, кто в чужих землях утратился. Мы службой обязаны.
— И мы службой обязаны.
— Погоди, кривой, дотявкаешься.
— Не грози…
— И другой глаз надо тебе выхлестнуть.
— Ты мне глаза не выковыривай, хочу дожить и посмотреть на погибель таких барбосов, как ты.
— Не доживешь.
— Доживу.
— Не доживешь.
— Доживу.
Казак кулаком опрокинул кривого и начал топтать его. Более спокойные растащили и развели драчунов.
Около правления, по предложению Бантыша, довыбирали члена рады. Дмитрий Чернояров, как того требовал обычай, отбрыкивался:
— Увольте, господа старики. Вы меня не знаете, не знаете, куда я вас поведу. Выбирайте коренного станичника.
— Мы тебя знаем, и батька, и деда твоего знаем, послужи.
— Не могу.
— Послужи, Дмитрий Михайлович.
А невдалеке молодой казак стоял ногами на седле и, картинно скрестив на груди руки, говорил речь:
— …Мы не против рады, но с большевиками драться не хотим. Пускай рада сама себя защищает. Господа казаки, которые фронтовики! Пора нам опамятоваться, куда мы идем и за кем? Кресты и медали, награды и золотые грамоты, что нам, дуракам, навешивали на шею, тяжелее камней… Валили они нас царю под ноги…
— Не к делу, не к делу…
— Безотцовщина.
— Геть, чертяка!
— Остро говорит. Чей таков?
— Ванька Чернояров.
— Эге… Так и печет им в глаза, так и печет. Ну и бедовый, пес.
— …Старики, до кой поры вы нас будете уговаривать и осаживать? Вы, верные слуги его императорского величества царя Палкина, привыкли протягивать руки за полтинниками, вам и жалко расставаться со старым режимом. Мы, ваши сыны и внуки, воевали, а вы на печках снохам фокусы показывали и блаженствовали… Через золотые погоны у меня сердце наядрило, как чирий! Не забудем, как они, эти полковники да генералы, над нами издевались! Сгорите вы вместе с ними! Долой! Долой! Долой!
— Геть!
— Плетюганов ему!
— Арестовать!
— Ура! Вра-а-а…
— Приступи! Хватай его!
Над головами стариков заколыхался целый лес палок.
Иван пал на седло гикнул и, сшибая конем неувертливых, прорвался в улицу, поскакал в аул к Шалиму, только пыль за ним завилась.
Плескалась-звенела весна прибоем горячих дней.
Степь отряхнулась от снегов и, выкатив тугие черные груди курганов, покорно ждала пахаря.