На войне как на войне (сборник) Курочкин Виктор
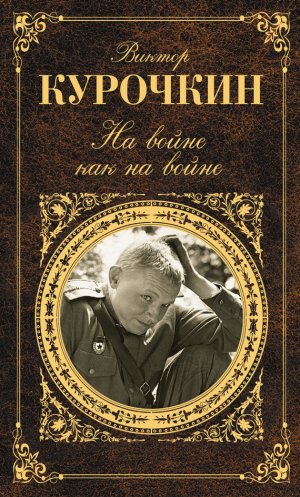
— Точно, было, — подтвердил ефрейтор. — А что на это фриц?
— Да ничего. Натянул сапог, бросил на верстак алюминиевую монету, погрозил мне пальцем: «Шен, шен, кауказус. Вир верден дих безухен Абрек Заур» — и ушел. Через полчаса и я смазал пятки.
Щербак зашевелился, поднял голову:
— А где вши?
— Ты не спишь? — удивился наводчик. — А зачем они тебе?
— А вот, — начал Щербак, — когда мы ехали в эшелоне на фронт, один механик-водитель, старшина, поймал вошь, выбросил ее из вагона и сказал: «Не хочешь ехать — иди пешком».
— Можно смеяться, Гришка? — спросил Домешек.
Саня закрыл глаза и увидел, как старшина снимает с воротника вошь, долго рассматривает ее, потом бросает на землю и говорит: «Иди пешком». «Не смешно, — подумал Саня, — глупо и противно».
Печка остывала. Угли подернулись пушистым пеплом. Переносная лампочка, свисая из нижнего люка, бросала на дно ямы холодный, мертвый свет.
«Который уже час горит переноска? И ничего. А попробуй я включить рацию, заорет, что опять аккумуляторы разряжаю». Саня хотел погасить переноску, но рука невольно потянулась к куче дров. Он набил печку дровами, завернулся в шубу и по привычке подвернул под мышку голову.
Осторожно, тщательно выговаривая слова, запел Щербак на мотив шахтерской песни о молодом коногоне:
- Моторы пламенем пылают,
- А башню лижут языки.
- Судьбы я вызов принимаю
- С ее пожатием руки.
На повторе Щербака поддержали наводчик с заряжающим. Домешек — резко и крикливо, Бянкин, наоборот, — очень мягко и очень грустно. Это была любимая песня танкистов и самоходчиков. Ее пели и когда было весело, и так просто, от нечего делать, но чаще, когда было невмоготу тоскливо.
Второй куплет:
- Нас извлекут из-под обломков,
- Поднимут на руки каркас,
- И залпы башенных орудий
- В последний путь проводят нас,
— начал Бянкин высоким тенорком и закончил звенящим фальцетом.
— Очень высоко, Осип. Нам не вытянуть. Пусть лучше Гришка запевает, — сказал Домешек.
Щербак откашлялся, пожаловался, что у него першит в горле, и вдруг сдержанно, удивительно просторно и мелодично повел:
- И полетят тут телеграммы
- К родным, знакомым известить,
- Что сын их больше не вернется
- И не приедет погостить…
Саня, закрыв рукой глаза, шепотом повторял слова песни. Сам он подтягивать не решался. У него был очень звонкий голос и совершенно не было слуха. Теперь Щербак с ефрейтором пели вдвоем. Хрипловатый бас и грустный тенорок, словно жалуясь, рассказывали о печальном конце танкиста:
- В углу заплачет мать-старушка,
- Слезу рукой смахнет отец,
- И дорогая не узнает,
- Какой танкиста был конец.
У Малешкина выступили слезы, горло перехватило, и он неожиданно для себя всхлипнул. Щербак с Бянкиным взглянули на него и залились пуще прежнего:
- И будет карточка пылиться
- На полке позабытых книг,
- В танкистской форме, при погонах,
- А он ей больше не жених.
Но сбились с тона: спели слишком громко, визгливо и тем испортили впечатление. Последний куплет:
- Прощай, Маруся дорогая,
- И ты, КВ, братишка мой,
- Тебя я больше не увижу,
- Лежу с разбитой головой…
— проревели все с какой-то отчаянностью и злобой, а потом, угрюмо опустив головы, долго молчали.
Первым поднялся наводчик.
— Надо пойти посмотреть, — сказал он.
Всем сразу тоже захотелось посмотреть. Вылезли из ямы, посмотрели… Ночь была темная, сырая, дул мокрый ветер. В доме ярко светились окна, а около двери словно из земли вылетали искры.
«Что же это такое там?» — подумал Саня, но так как ничего придумать не смог, то решил сходить и проверить.
— Сбегаю до комбата, поговорить надо. — Малешкину совершенно не о чем было говорить с комбатом. Но это был веский предлог посидеть в тепле, в обществе, скоротать время.
Не доходя до дома, Малешкин услышал рыкающий голос повара Никифора Хабалкина:
— Степан, куды ты заховал кочережку?
— Що воно такэ? — спросил Степан.
— Кочережка — палка с железякой на конце, чем в печке ковыряют, рыло немытое.
— Ну що вин лается, як кобель, — проворчал Степан и в сердцах пнул ногой пустое ведро.
Малешкин вежливо поздоровался с поваром. Никифор не обратил на него внимания. После командира части и своего непосредственного начальника, помпохоза Андрющенки, он считал себя по значимости третьей фигурой в полку. Солдаты прозвали его Никифор Хамло. Однако Никифор свое дело знал. Старался, чтобы солдаты у него были вовремя и сытно накормлены. Нередко сам на спине под огнем таскал мешки с хлебом и термосы с супом и при этом так громко ругался, что за километр было слышно.
— А что, Никифор, комбат Беззубцев здесь? — спросил Саня.
Вместо ответа Никифор крепко выругался.
В доме за столом сидели все четыре комбата. Они ужинали. Пашка Теленков заводил патефон. Он перевернул пластинку, и мембрана, хрякнув, затрещала, потом зашипела, потом задребезжала и, наконец, загнусавила:
- Он был в плясовой, стал быть, рубашке
- И фильдикосовык, стал быть, штанах…
На печке, свесив светлые лохматые головы, спали Миколка с Василем. Их мать сидела тоже за столом и грустно смотрела на густобрового кудрявого комбата второй батареи капитана Каруселина. У печки солдаты чистили картошку.
— Ты что, Малешкин? — спросил Беззубцев.
Саня замялся.
— Так… Пришел спросить, не будет ли каких приказаний.
— Нет. Иди к машине.
— Эй, Малешкин, — окликнул Саню Каруселин, — хочешь выпить?
— Нечего ему тут делать, — запротестовал Беззубцев.
— Ладно. Пусть погреется парень, — поддержал Каруселина комбат Табаченко. — Иди садись, Саня.
Комбаты потеснились, и Саня сел. Ему налили водки, положили на хлеб кусок американской консервированной колбасы. Саня взял стакан, подержал его, посмотрел на комбата и отставил в сторону. Беззубцев самодовольно ухмыльнулся.
Каруселин хлопнул Саню по спине:
— А ну-ка расскажи, как ты выкуривал интенданта.
Саня малость поломался для приличия и стал рассказывать. При этом так врал, что сам удивлялся, как у него здорово получается. Товарищи комбаты хохотали до слез и хвалили Малешкина за смекалку. Капитан Каруселин с ходу предложил Беззубцеву обменять Малешкина на любого командира машины из его батареи. Беззубцев решительно заявил, что сообразительные командиры ему и самому нужны. Это так ободрило Саню, что он расстегнул шинель, схватил отставленный стакан с водкой, лихо выпил, крякнул и сплюнул через выбитый зуб.
Теленков опять завел патефон, тоненький женский голосок завизжал:
- Руки, вы две огромных теплых птицы…
— Заткни ей глотку, Теленков! — крикнул Каруселин. — Сейчас мы споем нашу. Валяй, Табаченко!
Табаченко начал валять, как дьякон, речитативом:
- — Отец благочинный пропил полушубок овчинный и нож перочинны-ы-ый!…
— Удивительно, удивительно, удивительно… — подхватили комбаты глухими, осипшими басами. Сане показалось, что песня родилась не за столом, а выползла из-под пола и застонала, как ветер в трубе. У печки взлетел вверх необычно звонкий и чистый подголосок: «Удивительно, удивительно-о-о…»
У Сани даже заломило скулы от напряжения: так он боялся, как бы у солдата не сорвался голос.
— Ну и голосок, черт возьми! — скрипнул зубами Каруселин. — Валяй, Табаченко!
Табаченко валял… Комбаты простуженными басами дули, как в бочку, а подголосок звенел, падал и снова взлетал.
С шумом ввалился повар Никифор.
— Что вы, начальнички, панихиду завели? Других песен мало? — и, подергивая плечами, приседая, как на пружинах, пошел выковыривать ногами. — Хоп, кума, нэ журыся, туды-сюды поверныся, — схватил хозяйку, завертел и, видимо, ущипнул.
— Отчепись, лешак поганый! — закричала она.
Микола с Василем проснулись и дружно заревели: «Ма-а-а-мка!» Комбаты стали одеваться.
Малешкин, Теленков и Беззубцев вышли вместе. Прощаясь, комбат сказал, что завтра одну из батарей придадут танковому полку Дея.
— Чью? — спросил Теленков.
— Пока неизвестно, — ответил комбат.
— Не завидую этим ребятам, — сказал Пашка.
— Почему? — удивился Саня. — Все говорят, что Дей — самый боевой командир в корпусе.
Теленков усмехнулся:
— Еще говорят, что в бою он не щадит ни себя, ни своих солдат.
Комбат вздохнул и ничего не сказал.
Лиловым утром четвертая батарея лейтенанта Беззубцева отбыла в распоряжение 193-го отдельного танкового полка. Он ночевал в трех километрах, на территории сахарного завода. Завод был наполовину разбит, наполовину сожжен и полностью разграблен. Двор завода был усыпан желтым, пахнущим свеклой песком. Щербак посмотрел на это безобразие и сказал:
— Сколько бы из этого добра самогонки вышло! Залейся.
Танкисты выводили машины на дорогу, выстраивались — в колонну.
Четвертую батарею они встретили свистом.
— Славяне, глянь! Самоходы притащились.
— На що?
— Для поддержки.
— Який поддержки? Штанив? Га-га-га!
Прямо на машину Малешкина шла тридцатьчетверка с десантом. Водитель, видимо, и не думал сворачивать.
— Чего он хочет? — испуганно спросил Саня.
— Чтоб мы уступили ему дорогу, — ответил Домешек.
Танк подошел вплотную, остановился. Из люка высунулась голова водителя.
— Ты чего, падла, зевальник разинул?
— Пошел бы ты!… — крикнул Щербак.
— Сворачивай!
— Сворачивай! — заревел десант.
«Пахнет скандалом», — подумал Саня и хотел приказать Щербаку сворачивать. К танку подбежал долговязый лейтенант в кожаной тужурке с меховым воротником. Он поднял руку и поприветствовал самоходчиков.
— Привет танкистам! — радостно ответил Саня.
Лейтенант подошел к люку водителя.
— Ты чего дуришь, Родя? Дороги тебе мало?
— А чего они, товарищ лейтенант…
— Разговорчики, — оборвал его лейтенант.
Родя сдал машину назад, на полном газу чертом проскочил мимо самоходки. На башне сбоку Малешкин успел прочесть: «Машина Героя Советского Союза лейтенанта Доронина». И ему стало стыдно, что не уступил дорогу. Домешек поморщился и махнул рукой, как бы говоря: «Ну и наплевать».
Подошло отделение автоматчиков. Рябой, как вафля, ефрейтор доложил Малешкину, что десант в количестве пятнадцати человек прибыл в его распоряжение. И в ту же минуту со всех сторон закричали: «Самоходчиков батя требует! Самоходы, к бате!»
Саня приказал Домешеку заняться десантом, а сам со всех ног бросился к командиру полка.
Автоматчики, ни слова не говоря, полезли на самоходку. Такое самовольство Домешек расценил как личное оскорбление.
— Назад! — рявкнул он. — Кто здесь командир?
Рябой солдат вытянулся:
— Ефрейтор Рассказов.
— Построиться! — приказал наводчик.
Ефрейтор построил десант, подал команду «смирно», доложил.
— Здравствуйте, товарищи солдаты! — громко приветствовал Домешек автоматчиков.
— Здра… — нехотя ответили солдаты.
— Поздравляю вас с прибытием в славный гвардейский экипаж младшего лейтенанта Малешкина.
Десантники молчали. Домешек нахмурился.
— Что, разучились, как отвечать? Когда вас приветствует командир в строю, вы должны выразить восхищение, бурную радость. А как солдаты выражают бурную радость? — спросил наводчик и сам же ответил: — Троекратным громким «ура». Понятно?
Солдаты, сообразив, что сержант «валяет ваньку», дружно и оглушительно заревели «ура». На крик сбежались танкисты и стали с любопытством наблюдать, как самоходчики ломают комедию…
Домешек обошел строй.
На левом фланге переминался с ноги на ногу солдатик в непомерно широкой и длинной шинели. Если бы не огромная шапка над воротником, из-под которой выглядывала остренькая мордочка с черными глазенками, можно было бы подумать, что шинель сама стоит на снегу.
— А ты кто? — спросил Домешек.
— Солдат Громыхало.
— Как, как? Повтори, не расслышал. — Домешек снял шапку, наклонил голову.
Солдат напыжился и во всю мощь своих легких рванул:
— Громыхало!
Домешек отскочил и схватился за ухо.
— Ух ты, какой голосистый!
— У нас в деревне все голосистые, товарищ сержант, — радостно сообщил Громыхало.
— Откеля ты?
— Из Подмышек.
— Откуда? — удивленно протянул Домешек.
— Из деревни Подмышки Пензенской области, — пояснил солдат.
— Воевал?
— Нет ешо.
— Кто «нет ешо»? — строго спросил Домешек, обращаясь к десантникам.
Автоматчики дружно подняли руки.
— Прекрасно! — воскликнул Домешек. — Это и есть то, чего не хватало нашему славному гвардейскому экипажу. А теперь я вас инструктировать буду. Слушать внимательно и на ус мотать, — объявил Домешек. — Итак, что вы должны и не должны…
Десантники должны были выполнять все приказания экипажа и помогать ему: чистить машину, заправлять ее горючим, загружать снарядами, закапывать самоходку в землю, охранять ее, защищать и нести всю караульную службу. Не должны были десантники только пререкаться, роптать и возмущаться. После инструктажа Домешек стал обучать солдат правилам посадки десанта на машину и гонял их до тех пор, пока у автоматчиков не взмокли шапки. Потом милостиво разрешил им покурить и оправиться.
Ефрейтор Бянкин, наблюдавший за учением, сказал наводчику:
— Хорошо, что тебя из офицерского училища турнули. А то бы ты с солдата по пять шкур драл…
Домешек самодовольно ухмыльнулся и заявил Бянкину, что с него бы он все десять спустил.
Встреча с батей Саню Малешкина обидела. Не такой он её представлял, не такие мечтал слушать слова. Герой Советского Союза полковник Дей вместо приветствия заявил, что он очень добрый и мягкий человек, а поэтому прощает батарее полчаса опоздания. Беззубцев заикнулся было объяснить, что он не виноват. Но Дей, сверкнув белками глаз, резко его осадил:
— Все, комбат. В бою минуты не прощу.
Скрипучим, железным голосом командир полка поставил перед батареей задачу, которая заключалась в поддержке самоходками танковой атаки.
— Запомните, самоходки должны двигаться за моими танками в ста метрах.
— Это не по уставу, товарищ полковник, — возразил Беззубцев.
Огромные белки Дея заметались, но он сдержал себя и как бы между прочим заметил:
— Мне тоже как-то доводилось читать устав, товарищ лейтенант. Сто метров, и ни сантиметра дальше. Понятно?
Беззубцев вытянулся:
— Так точно, товарищ полковник!
— Все. С богом!
Дей резко вскинул руку, резко повернулся и пошел вдоль колонны легко и быстро. За ним побежал адъютант, придерживая болтавшуюся сбоку планшетку.
Саня обиделся не на грубость полковника и не на жестокий приказ, а на то, что он не обратил никакого внимания на командиров машин, как будто их и не было. «А ведь не комбату идти за танками в ста метрах и не ему гореть, а командиру машины, а он даже не посмотрел на нас. Да какое ему дело до младшего лейтенанта Малешкина…» — думал Саня, возвращаясь к своей самоходке. Точно так же размышлял и Пашка Теленков, и Чегничка, и командир машины Вася Зимин.
4-я танковая армия генерал-полковника Гота пятилась нехотя, злобно огрызаясь. На этом направлении отступление прикрывал 2-й корпус СС.
У полковника Дея был категорический приказ командующего выбить немцев из местечка Кодня. На карте Кодня обозначена крохотным кружочком. И в этом кружке находились танки дивизии «Тотен Копф». Эсэсовцы сидели за броней в двести миллиметров и из мощной пушки расстреливали наши танки за километр, как птиц. Птица хоть могла прятаться, а танки полковника Дея не имели права. Они должны были атаковать и обязательно выбить. Вот что мучило с утра полковника Дея. Так простим же этому уже второй месяц не вылезающему из танка, исхудавшему, как скелет, полковнику, что он, углубленный в свои мысли, возмущенный непосильной задачей, не заметил Саню Малешкина, не улыбнулся ему, не кинул ободряющего слова.
Полк обогнул лесок на холме и, развернувшись в боевую линию, приготовился к атаке. Перед танками лежала унылая пустошь, поросшая чахлым кустарником, которую чуть-чуть оживляли молодые елочки и светло-зеленые папахи можжевельника. За пустошью было поле, а за полем — село. Сквозь кустарник оно не проглядывалось. Но Саня знал, что там село, а в селе — немцы.
Впереди Саниной самоходки стоял танк Героя Советского Союза Доронина. Малешкин решил двигаться за ним. Это решение Саню и успокоило, и ободрило. Десантники, сбившись в кучу, жались друг к другу, курили, передавая из рук в руки цигарку. Из люка высунулся Домешек, посмотрел на них и, увидев маленького солдата, подмигнул:
— Ну как, Громыхало из Подмышек, боишься?
Громыхало застеснялся, вытер рукавицей нос.
— Немножко трясеть, товарищ сержант.
— Не дрейфь, Громыхало. Помни: как начнут фрицы лупить — сигай с машины в снег и зарывайся с головой.
— Как тятерка? — спросил Громыхало.
— Во-во, как тетерев-косач.
Подбодрив Громыхалу, наводчик взгромоздился на свой стульчак и прилип глазом к прицелу.
— Прицел обычный — восемьсот? — спросил он.
— На прямой, — ответил Малешкин.
Рация работала на прием. Саня включил внутрипереговорное устройство, проверил. Оно тоже работало отлично.
«Когда стоим, все как часы работает. А как поедем, сразу расстроится. Почему это так получается?» — спросил себя Саня, но ответить не успел: помешал голос комбата.
Беззубцев приказал приготовиться и по сигналу красной ракеты — вперед.
— Повторите, как меня поняли, — потребовал комбат.
— По сигналу красной ракеты — вперед, — отчеканил Саня.
Через минуту Беззубцев опять вызвал Малешкина и строго спросил, почему он не отвечает. Саня взглянул на рацию и обомлел. Разговаривая с командиром, он позабыл перевести рычаг на «передача». Он включил передатчик и доложил, что команду понял хорошо, а в первый раз не ответил потому, что забыл перевести рычажок, на что комбат укоризненно сказал:
— Как же ты, шляпа, со мной во время боя будешь держать связь, когда на исходной не можешь…
Этот глупый, досадный промах испортил ему боевое настроение. Малешкин приказал экипажу приготовиться к атаке: заряжающему зарядить пушку, десанту внимательно следить, когда взлетит красная ракета, а сам уткнулся в панораму.
Осип Бянкин открыл затвор, вытащил из гнезда бронебойный заряд, пошувыкал его, как ребенка, и со словами «пошел, милый» загнал в патронник. Затвор с лязгом закрыл ствол пушки.
— Пушка заряжена, — предупредил Бянкин наводчика.
Малешкин не отрывался от панорамы. Прошло еще пять минут, а сигнала к атаке все не было. «Чего стоим, чего стоим?» — шептал Саня. Мелькнула мысль, что в панораму он может и не заметить красной ракеты, а десантники ее прозевают.
Саня высунулся наполовину из люка. Автоматчики еще теснее сбились в кучу и все так же курили, передавая цигарку по кругу.
Повалил снег, крупный, мягкий и очень густой. И ничего не стало видно — сплошная белая тьма. Если бы ракета взлетела над головой Малешкина, он бы ее и не заметил. Руки у Сани дрожали. И он почувствовал, что на него наваливается страх, хватает за горло, трясет и колотит. Саня уперся лбом в панораму и стиснул зубы. Но это ни к чему не привело. Его продолжало трясти и колотить. «Да что же это такое?» — чуть не закричал Саня, оторвался от панорамы, посмотрел на экипаж.
Заряжающий сидел на днище, спокойно курил и поплевывал. Домешек протирал стекло прицела. Щербак, сжимая своими лапищами рычаги фрикционов, согнулся так, будто приготовился к прыжку. Сане стало легче, но совсем успокоиться он не успел. Заскрежетали коробки передач, захлопали гусеницы.
— Танки пошли, лейтенант! — крикнул Щербак.
Малешкин даже не успел сообразить, что ему делать, как в наушниках раздался отрывистый и совершенно незнакомый голос комбата: «Вперед!»
— Вперед! — закричал Саня и прилип к панораме.
Щербак вел машину по следу танка. А снег валил и валил. Как Саня ни крутил панораму, как напряженно ни взглядывался в белую муть, ничего, кроме перекрестья и черных цифр на стекле, не видел. В конце концов Малешкин устал от напряжения и совсем успокоился.
Ему даже стало скучно. Разве он такой представлял себе атаку? Она рисовалась ему стремительной, до ужаса захватывающей. Самоходка на пятой скорости проносится мимо горящих танков, врывается в боевые порядки противника и все уничтожает и давит. Потом поджигают и его машину. Саня смертельно ранен. Верный экипаж вытаскивает его из самоходки и несет на шинели по глубокому снегу. А Мишка Домешек, смахивая слезы, говорит: «На войне как на войне». Вот так представлял себе младший лейтенант Малешкин свою первую атаку. «А это что? Ползем, как черепахи, друг за другом и ни черта не видим», — с раздражением думал Саня.
Машина вдруг споткнулась и закачалась. Щербак завалившись на спину, держал ее на тормозах. За броней кричали и ругались солдаты. Саня выглянул из люка. Его самоходка наскочила на танк и пушкой расшвыряла десантников. Один солдат барахтался в снегу и на чем свет стоит крыл самоходчиков. К счастью, обошлось без жертв. Танк, подобрав свалившихся автоматчиков, тронулся.
— Фу, черт возьми! — сказал Саня, вытер взмокший лоб и обругал водителя слепым верблюдом.
Снег не переставая валил и валил. Десант на машине превратился в грязную, бесформенную снежную глыбу.
Внезапно справа и слева захлопали пушки. Выстрелы звучали резко и сухо, как будто где-то поблизости кололи дрова. Танк лейтенанта Доронина тоже начал стрелять. Саня приказал Щербаку отъехать в сторону и отдал команду: «Огонь!»
— А куда, лейтенант? Ни черта не видно, — сказал Домешек.
— Туда, куда и все, — и Саня неопределенно махнул рукой.
— Выстрел! — крикнул наводчик.
Пушка рявкнула и с грохотом выбросила из патронника гильзу.
Заряжающий с маху вогнал новый снаряд.
— Готово!
— Огонь! — крикнул Саня.
— Выстрел, — ответил Домешек.
Пушка опять ахнула, опять сверкнула гильза, и желтый, вонючий, как тухлые яйца, дым столбом пополз из люка.
— Готово! — доложил заряжающий.
— Стой! — сказал Малешкин, высунулся из люка, прислушался.
Стрельба прекратилась. Чуть слышно ворчали моторы.
«Ушли вперед», — сообразил Саня, и ему стало по-настоящему страшно.
— Вперед, Щербак!
Щербак с места воткнул третью скорость. Самоходка понеслась и вскоре догнала танки. Лицо младшего лейтенанта Малешкина расплылось в широченной радостной улыбке.
— А здорово мы, братцы, стрельнули!
— В белый свет, как в копеечку! — захохотал Домешек.
Но тут Саня вспомнил, что он не на учебных стрельбах, не на полигоне, а в бою, в танковой атаке, и, собственно говоря, радоваться нечему, и, кроме того, он совсем забыл про связь с комбатом. Малешкин вызвал Беззубцева, и тот высыпал на его голову ворох матюков, Саня не обратил на них особого внимания. Но когда комбат заявил, что он теперь понимает капитана Сергачева и полностью с ним согласен, Малешкину стало очень скучно. «Черт знает как мне не везет. Теперь этот грозит снять. Ну и пусть снимают, подумаешь, какая радость — самоходка». Но от одной только мысли, что его еще могут снять и отправить в резерв, Малешкину стало опять больно и обидно.
Не заметили, как танки вошли в село. И оказалось, все было напрасно: и атака, и стрельба, и ругань комбата. Немцы отошли еще на рассвете.
В бой вступили внезапно, с ходу за село Антополь-Боярка. Село раскинулось на снегу серым огромным треугольником.
Полк двигался походной колонной, и когда колонна вышла из леса, боевое охранение уже скрылось в селе за крайними хатами. Раздался треск, как будто переломили сухую палку. И в центре треугольника заклубился смолистый дым. Взлетела красная ракета, и танки стали стремительно разворачиваться.
Саня, в сущности, плохо понимал, что происходит. Комбат приказал не вырываться вперед, и двигаться за танками не ближе, чем в ста метрах. Щербак же повис на хвосте впереди идущей машины. Тридцатьчетверка шла зигзагами, стреляя на ходу. За ней так же зигзагами вел самоходку Щербак. Саня не видел поля боя: мешала тридцатьчетверка. Саня приказал Щербаку отстать или свернуть в сторону. Щербак, не ответив, продолжал плестись за танком.
— Сворачивай! Что же ты делаешь? — кричал Малешкин.
— Сворачивай, гад, мне стрелять нельзя! — заревел наводчик.
Щербак оглянулся, кивнул головой и еще ближе прижался к танку. Саня понял, что водитель боится и из страха прячется за броню впереди идущей машины.
— Спокойно, ребята. Спокойно… Все будет в порядке, — сказал Малешкин, больше успокаивая себя, нежели ребят.
Суматошно закричали солдаты-десантники. Саня метнулся к люку. Автоматчики скатывались с машин. Маленький Громыхало, как слепой, метался с одной стороны на другую, потом лег ничком между ящиками и закрыл голову руками. Перед самоходкой на одной гусенице вертелся танк. Механик-водитель пытался вывалиться из люка, но за что-то зацепился, повис и тоже вертелся вместе с машиной и дико кричал: «А-а-а-а-а!…» Из башни вырвался острый язык огня, окаймленный черной бахромой, и танк заволокло густым смолистым дымом. Ветер подхватил дым и темным лохматым облаком потащил по снегу в село.






