Стихотворения и поэмы. Дневник Ахмадулина Белла
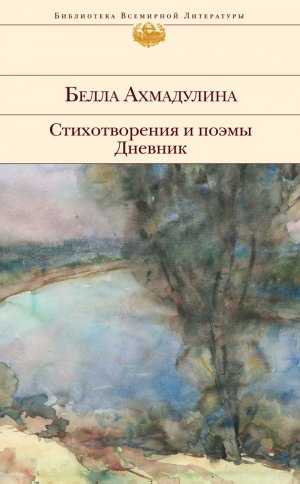
- Какая зелень глаз вам свойственна, однако…
- И тьмы подошв – такой травы не изомнут.
- С откоса на Оку вы глянули когда-то:
- на дне Оки лежит и смотрит изумруд.
- Какая зелень глаз вам свойственна, однако…
- Давно из-под ресниц обронен изумруд.
- Или у вас – ронять в Оку и в глушь оврага
- есть что-то зеленей, не знаю, как зовут?
- Какая зелень глаз вам свойственна, однако…
- Чтобы навек вселить в пространство изумруд,
- вам стоило взглянуть и отвернуться: надо
- спешить, уже темно и ужинать зовут.
- Здесь дом стоял. Столетие назад
- был день: рояль в гостиной водворили,
- ввели детей, открыли окна в сад,
- где ныне лют ревнитель викторины.
- Ты победил.Виктория – твоя.
- Вот здесь был дом, где ныне танцплощадка,
- площадка-танц, иль как ее… Видна
- звезда небес, как бред и опечатка
- в твоем дикоязычном букваре.
- Ура, ты победил, недаром злился
- и морщил лоб при этих – в серебре,
- безумных и недремлющих из гипса.
- Дом отдыха – и отдыхай, старик.
- Прости меня. Ты не виновен вовсе,
- что вижу я, как дом в саду стоит
- и музыка витает окон возле.
- Морская – так иди в свои моря!
- Оставь меня, скитайся вольной птицей!
- Умри во мне, как в мире умерла,
- темно и тесно быть твоей темницей.
- Мне негде быть, хоть всё это – мое.
- Я узнаю твою неблагосклонность
- к тому, что спёрто, замкнуто, мало.
- Ты – рвущийся из душной кожи лотос.
- Ступай в моря! Но коль уйдешь с земли,
- я без тебя не уцелею. Разве —
- как чешуя, в которой нет змеи:
- лишь стройный воздух, вьющийся в пространстве.
- Молчали той, зато хвалима эта.
- И то сказать – иные времена:
- не вняли крику, но целуют эхо,
- к ней опоздав, благословив меня.
- Зато, ее любившие, брезгливы
- ко мне чернила, и тетрадь гола.
- Рак на безрыбье или на безглыбье
- пригорок – вот вам рыба и гора.
- Людской хвале внимая, разум слепнет.
- Пред той потупясь, коротаю дни
- и слышу вдруг: не осуждай за лепет
- живых людей – ты хуже, чем они.
- Коль нужно им, возглыбься над низиной
- их бедных бед, а рыбья немота
- не есть ли крик, неслышимый, но зримый,
- оранжево запекшийся у рта.
- Растает снег. Я в зоопарк схожу.
- С почтением и холодком по коже
- увижу льва и: – Это лев! – скажу.
- Словечко и предметище не схожи.
- А той со львами только веселей!
- Ей незачем заискивать при встрече
- с тем, о котором вымолвит: – Се лев. —
- Какая львиность норова и речи!
- Я целовала крутолобье волн,
- просила море: – Притворись водою!
- Страшусь тебя, словно изгнали вон
- в зыбь вечности с невнятною звездою.
- Та любит твердь за тернии пути,
- пыланью брызг предпочитает пыльность
- и скажет: – Прочь! Мне надобно пройти. —
- И вот проходит – море расступилось.
- Как знать, вдруг – мало, а не много:
- невхожести в уют, в приют
- такой, что даже и острога
- столь бесприютным не дают;
- мгновения: завидев Блока,
- гордыней скул порозоветь,
- как больно смотрит он, как блекло,
- огромную приемля весть
- из детской ручки;
- ручки этой,
- в страданье о которой спишь,
- безумием твоим одетой
- в рассеянные грёзы спиц;
- расчета: властью никакою
- немыслимо пресечь твою
- гортань и можно лишь рукою
- твоею, —
- мало, говорю,
- всего, чтоб заплатить за чудный
- снег, осыпавший дом Трёхпрудный,
- и пруд, и труд коньков нетрудный,
- а гений глаза изумрудный
- всё знал и всё имел в виду.
- Две барышни, слетев из детской
- светёлки, шли на мост Кузнецкий
- с копейкой удалой купецкой:
- Сочельник, нужно наконец-то
- для ёлки приобресть звезду.
- Влекла их толчея людская,
- пред строгим Пушкиным сникая,
- от Елисеева таская
- кульки и свёртки, вся Тверская —
- в мигании, во мгле, в огне.
- Всё время важно и вельможно
- шел снег, себя даря и множа.
- Сережа, поздно же, темно же!
- Раз так пройти, а дальше – можно
- стать прахом неизвестно где.
Путешествие
- Человек, засыпая, из мглы выкликает звезду,
- ту, которую он почему-то считает своею,
- и пеняет звезде: «Воз житья я на кручу везу.
- Выдох лёгких таков, что отвергнут голодной свирелью.
- Я твой дар раздарил, и не ведает книга моя,
- что брезгливей, чем я, не подыщет себе рецензента.
- Дай отпраздновать праздность. Сошли на курорт забытья.
- Дай уста отомкнуть не для пенья, а для ротозейства».
- Человек засыпает. Часы возвещают отбой.
- Свой снотворный привет посылает страдальцу аптека.
- А звезда, воссияв, причиняет лишь совесть и боль,
- и лишь в этом ее неусыпная власть и опека.
- Между тем это – ложь и притворство влюбленной звезды.
- Каждый волен узнать, что звезде он известен и жалок.
- И доносится шелест: «Ты просишь? Ты хочешь? Возьми!»
- Человек просыпается. Бодро встает. Уезжает.
- Он предвидел и видит, что замки увиты плющом.
- Еще рань и февраль, а природа цвести притерпелась.
- Обнаженным зрачком и продутым навылет плечом
- знаменитых каналов он сносит промозглую прелесть.
- Завсегдатай соборов и мраморных хладных пустынь,
- он продрог до костей, беззащитный, как все иноземцы.
- Может, после он скажет, какую он тайну постиг,
- в благородных руинах себе раздобыв инфлюэнцы.
- Чем южней его бег, тем мимоза темней и лысей.
- Там, где брег и лазурь непомерны, как бред и бравада,
- человек опечален, он вспомнил свой старый лицей,
- ибо вот где лежит уроженец Тверского бульвара.
- Сколько мук, и еще этот юг, где уместнее пляж,
- чем загробье. Прощай. Что растет из гранитных расселин?
- Сторож долго решает: откуда же вывез свой плач
- посетитель кладбища? Глициния – имя растений.
- Путник следует дальше. Собак разноцветные лбы
- он целует, их слух повергая в восторженный ужас
- тем, что есть его речь, содержанье и образ судьбы,
- так же просто, как свет для свечи – и занятье, и сущность.
- Человек замечает, что взор его слишком велик,
- будто есть в нем такой, от него не зависящий, опыт:
- если глянет сильнее – невинную жизнь опалит,
- и на розовом лике останется шрам или копоть.
- Раз он видел и думал: неужто столетья подряд,
- чуть меняясь в чертах, процветает вот это семейство? —
- и рукою махнул, обрывая ладонью свой взгляд
- (благоденствуйте, дескать), – хоть вовремя, но неуместно.
- Так он вчуже глядит и себя застигает врасплох
- на громоздкой печали в кафе под шатром полосатым.
- Это так же удобно, как если бы чертополох
- вдруг пожаловал в гости и заполонил палисадник.
- Ободрав голый локоть о цепкий шиповник весны,
- он берет эту ранку на память. Прощай, мимолетность.
- Вот он дома достиг и, при сильной усмешке звезды,
- с недоверьем косится на оцарапанный локоть.
- Что еще? В магазине он слушает говор старух.
- Озирает прохожих и втайне печется о каждом.
- Словно в этом его путешествия смысл и триумф,
- он стоит где-нибудь и подолгу глядит на сограждан.
Роза
Александру Кушнеру
- Вид рынка в Гагре душу веселит.
- На злато дыни медный грош промотан.
- Не есть ли я ленивый властелин,
- чей взор пресыщен пурпуром и мёдом?
- Вздыхает нега, бодрствует расчет,
- лоснится благоденствие Кавказа.
- Торговли огнедышащий зрачок
- разнежен сном и узок от коварства.
- Где, визирь мой, цветочные ряды?
- С пристрастьем станем выбирать наложниц.
- Хвалю твои беспечные труды,
- владелец сада и садовых ножниц.
- Знай, я полушки ломаной не дам
- за бледность черт, чья быстротечна участь.
- Я красоту люблю, как всякий дар,
- за прочный позвоночник, за живучесть.
- Я алчно озираюсь. Наконец,
- как старый царь – невольницу младую,
- влеку я розу в бедный мой дворец
- и на свои седины негодую.
- Эй вы, плавней, кто тянет паланкин!
- Моих два локтя понукаю, то есть —
- хранить ее, пока меж половин
- всего, что в нём, расплющил нас автобус.
- В беспамятстве, в росе еще живой,
- спи, жизнь моя, твой обморок не вечен.
- Как соразмерно мощный стебель твой
- прелестно малой головой увенчан.
- Уф, отдышусь. Вот дом, в чей бок тавро
- впечатано: «Дом творчества». Как просто!
- Есть дом у нас, чтоб сотворить твое
- бессмертие на белом свете, роза!
- Пока юлит перед тобой глагол,
- твой гений сразу обретает навык
- дышать водой, опередив глоток
- сестёр твоих – прислужниц и чернавок.
- Прости, дитя, что, из родимых кущ
- изъяв тебя, томлю тебя беседой.
- Лишь для того мой разум всемогущ,
- чтоб стала ты пусть мертвой, но воспетой.
- Что розе этот вздор? Уныл и дряхл
- хваленый ум, и всяк эпитет скуден.
- Он бесполезней и скучнее драхм
- ее красе, что занята искусством
- растеньем быть, а не предметом для
- хвалы моей. О, как светает грозно.
- Я говорю при первом свете дня:
- – Как ты прекрасна, розовая роза!
- Та роза ныне – слабый призрак, вздох.
- Но у нее заступник есть в природе.
- Как беспощадно он взимает долг
- с немой души, робеющей при розе.
Памяти Генриха Нейгауза
- Что – музыка? Зачем? Я – не искатель муки.
- Я всё нашла уже и всё превозмогла.
- Но быть живой невмочь при этом лишнем звуке,
- о мука мук моих, о музыка моя.
- Излишек музык – две. Мне – и одной довольно,
- той, для какой пришла, была и умерла.
- Но всё это – одно. Как много и как больно.
- Чужая – и не тронь, о музыка моя.
- Что нужно остриям органа? При органе
- я знала, что распят, кто, говорят, распят.
- О музыка, вся жизнь – с тобою пререканье,
- и в этом смысл двойной моих услад-расплат.
- Единожды жила – и дважды быть убитой?
- Мне, впрочем, – впору. Жизнь так сладостно мала.
- Меж музыкой и мной был музыкант любимый.
- Ты – лишь затем моя, о музыка моя.
- Нет, ты есть он, а он – тебя предрекший рокот,
- он проводил ко мне всё то, что ты рекла.
- Как папоротник тих, как проповедник кроток
- и – краткий острый свет, опасный для зрачка.
- Увидела: лицо и бархат цвета… цвета? —
- зеленого, слабей, чем блеск и изумруд:
- как тина или мох. И лишь при том здесь это,
- что совершенен он, как склон, как холм, как пруд —
- столь тихие вблизи громокипящей распри.
- Не мне ее прощать: мне та земля мила,
- где Гёте, Рейн, и он, и музыка – прекрасны,
- Германия моя, гармония моя.
- Вид музыки так прост: он схож с его улыбкой.
- Еще там были: шум, бокалы, торжество,
- тот ученик его прельстительно великий,
- и я – какой ни есть, но ученик его.
Переделкино после разлуки
Станиславу Нейгаузу
- Темнела долгая загадка,
- и вот сейчас блеснет ответ.
- Смотрю на купол в час заката,
- и в небо ясный вход отверст.
- Бессмертная душа надменна,
- а то, что временный оплот
- души, желает жить немедля,
- но это место узнает.
- Какая связь меж ним и телом,
- не догадаться мудрено.
- Вдали, внизу, за полем белым
- о том же говорит окно.
- Всё праведней, всё беззащитней
- жизнь света в доблестном окне.
- То – мне привет сквозь мглу, сквозь иней,
- укор и предсказанье мне.
- Просительнее слёз и слова,
- слышнее изъявленья уст
- свет из окна. Но я – готова,
- и я пред ним не провинюсь.
- Ни я не замараюсь славой,
- ни поле, где течет ручей,
- не вздумает очнуться свалкой
- ненужных и чужих вещей.
Письмо Булату из Калифорнии
- Что в Калифорнии, Булат, —
- не знаю. Знаю, что прелестный,
- пространный край. В природе летней
- похолодает, говорят.
- Пока – не холодно. Блестит
- простор воды, идущий зною.
- Над розой, что отрадно взору,
- колибри пристально висит.
- Ну, вот и всё. Пригож и юн
- народ. Июль вступает в розы.
- А я же «Вестником Европы»
- свой вялый развлекаю ум.
- Всё знаю я про пятый год
- столетья прошлого: раздоры,
- открытья, пререканья, вздоры
- и что потом произойдет.
- Откуда «Вестник»? Дин, мой друг,
- славист, профессор, знаний светоч,
- вполне и трогательно сведущ
- в словесности, чей вкус и звук
- нигде тебя, нигде меня
- не отпускает из полона.
- Крепчает дух Наполеона.
- Графиня Некто умерла,
- до крайних лет судьбы дойдя.
- Все пишут: кто стихи, кто прозу.
- А тот, кто нам мороз и розу
- преподнесет, – еще дитя
- безвестное, но не вполне:
- он – знаменитого поэта
- племянник, стало быть, родне
- известен. Дальше – буря, мгла.
- Булат, ты не горюй, всё вроде
- о’кей. Но «Вестником Европы»
- зачитываться я могла,
- могла бы там, где ты и я
- брели вдоль пруда Химок возле.
- Колибри зорко видит в розе
- насущный смысл житья-бытья.
- Меж тем Тому – уже шесть лет!
- Еще что в мире так же дивно?
- Всё это удивляет Дина.
- Засим прощай, Булат, мой свет.
Шуточное послание к другу
- Покуда жилкой голубою
- безумья орошен висок,
- Булат, возьми меня с собою,
- люблю твой лёгонький возок.
- Ямщик! Я, что ли, – завсегдатай
- саней? Скорей! Пора домой,
- в былое. О Булат, солдатик,
- родимый, неубитый мой.
- А остальное – обойдется,
- приложится, как ты сказал.
- Вот зал, и вальс из окон льется.
- Вот бал, а нас никто не звал.
- А всё ж – войдем. Там, у колонны…
- так смугл и бледен… Сей любви
- не перенесть! То – Он. Да Он ли?
- Не надо знать, и не гляди.
- Зачем дано? Зачем мы вхожи
- в красу чужбин, в чужие дни?
- Булат, везде одно и то же.
- Булат, садись! Ямщик, гони!
- Как снег летит! Как снегу много!
- Как мною ты любим, мой брат!
- Какая долгая дорога
- из Петербурга в Ленинград.
Ленинград
- Опять дана глазам награда Ленинграда…
- Когда сверкает шпиль, он причиняет боль.
- Вы неразлучны с ним, вы – остриё и рана,
- и здесь всегда твоя второстепенна роль.
- Зрачок пронзён насквозь, но зрение на убыль
- покуда не идет, и по причине той,
- что для него всегда целебен круглый купол,
- спасительно простой и скромно золотой.
- Невинный Летний сад обрёк себя на иней,
- но сей изыск списать не предстоит перу.
- Осталось, к небесам закинув лоб наивный,
- решать: зачем душа потворствует Петру?
- Не всадник и не конь, удержанный на месте
- всевластною рукой, не слава и не смерть —
- их общий стройный жест, изваянный из меди,
- влияет на тебя, плоть обращая в медь.
- Всяк царь мне дик и чужд. Знать не хочу! И всё же
- мне не подсудна власть – уставить в землю перст,
- и причинить земле колонн и шпилей всходы,
- и предрешить того, кто должен их воспеть.
- Из Африки изъять и приручить арапа,
- привить ожог чужбин Опочке и Твери —
- смысл до поры сокрыт, в уме – темно и рано,
- но зреет близкий ямб в неграмотной крови…
- Так некто размышлял… Однако в Ленинграде
- какой февраль стоит, как весело смотреть:
- всё правильно окрест, как в пушкинской тетради,
- раз навсегда, впопад и только так, как есть!
«Не добела раскалена…»
- Не добела раскалена,
- и все-таки уже белеет
- ночь над Невою.
- Ум болеет
- тоской и негой молодой.
- Когда о купол золотой
- луч разобьется предрассветный
- и лето входит в Летний сад,
- каких наград, каких услад
- иных
- просить у жизни этой?
Возвращение из Ленинграда
- Всё б глаз не отрывать от города Петрова,
- гармонию читать во всех его чертах
- и думать: вот гранит, а дышит, как природа…
- Да надобно домой. Перрон. Подъезд. Чердак.
- Былая жизнь моя – предгорье сих ступеней.
- Как улица стара, где жили повара.
- Развязно юн пред ней пригожий дом столетний.
- Светает, а луна трудов не прервала.
- Как велика луна вблизи окна. Мы сами
- затеяли жильё вблизи небесных недр.
- Попробуем продлить привал судьбы в мансарде:
- ведь выше – только глушь, где нас с тобою нет.
- Плеск вечности в ночи подтачивает стены
- и зарится на миг, где рядом ты и я.
- Какая даль видна! И коль взглянуть острее,
- возможно различить границу бытия.
- Вселенная в окне – букварь для грамотея,
- читаю по складам и не хочу прочесть.
- Объятую зарей, дымами и метелью,
- как я люблю Москву, покуда время есть.
- И давешняя мысль – не больше безрассудства.
- Светает на глазах, всё шире, всё быстрей.
- Уже совсем светло. Но, позабыв проснуться,
- простёр Тверской бульвар цепочку фонарей.
«Петра там нет. Не эту же великость…»
- Петра там нет. Не эту же великость
- дымов и лязгов он держал в уме.
- И хочется скорей покинуть Липецк,
- хоть жаль холма и дома на холме.
- Оттуда вид печальнее и шире
- на местность и на помысел о том,
- как, смирного уезда на вершине,
- быльём своим был обитаем дом.
- Вцепился охранительный малинник
- в нескромный взор, которым мещанин
- смотрел на окна: сколько ж именинник
- гостей созвал и света учинил.
- Здесь ныне процветает учрежденье.
- И, в сумерках смущая секретарш,
- зачем, – не понимает привиденье
- план составлять и штаты сокращать?
- Мы – верхогляды и не обессудим
- чужую жизнь, где мы не ко двору,
- но ревность придирается, что скуден
- столп, посвященный городом Петру.
Тифлис
Отару и Тамазу Чиладзе
- Как любила я жизнь! – О любимая, длись! —
- я вослед Тициану твердила.
- Я такая живучая, старый Тифлис,
- твое сердце во мне невредимо.
- Как мацонщик, чей ослик любим, как никто,
- возвещаю восход и мацони.
- Коль кинто не придет, я приду, как кинто,
- веселить вас, гуляки и сони.
- Ничего мне не жалко для ваших услад.
- Я – любовь ваша, слухи и басни.
- Я нырну в огнедышащий маленький ад
- за стихом, как за хлебом – хабази.
- Жил во мне соловей, всё о вас он звенел,
- и не то ль меня сблизило с вами,
- что на вас я взирала глазами зверей
- той породы, что знал Пиросмани.
- Без Тифлиса жила, по Тифлису томясь.
- Есть такие края неужели,
- где бы я преминула, Отар и Тамаз,
- вспомнить вас, чтоб глаза повлажнели?
- А когда остановит дыханье и речь
- та, последняя в жизни превратность,
- я успею подумать: позволь умереть
- за тебя, мой Тифлис, моя радость!
«То снился он тебе, а ныне ты – ему…»
Мне Тифлис горбатый снится…
Осип Мандельштам
- То снился он тебе, а ныне ты – ему.
- И жизнь твоя теперь – Тифлиса сновиденье.
- Поскольку город сей непостижим уму,
- он нам при жизни дан в посмертные владенья.
- К нам родина щедра, чтоб голос отдыхал,
- когда поет о ней. Перед дорогой дальней
- нам всё же дан привал, когда войдем в духан,
- где чем душа светлей, тем пение печальней.
- Клянусь тебе своей склоненной головой
- и воздухом, что весь – душа Галактиона,
- что город над Курой – всё милосердней твой,
- ты в нём не меньше есть, чем был во время оно.
- Чем наш декабрь белей, когда роняет снег,
- тем там платан красней, когда роняет листья.
- Пусть краткому «теперь» был тесен белый свет,
- пространному «потом» – достаточно Тифлиса.
Гагра: кафе «Рица»
Фазилю Искандеру
- Как будто сон тягучий и огромный,
- клубится день огромный и тягучий.
- Пугаясь роста и красы магнолий,
- в нём кто-то плачет над кофейной гущей.
- Он ослабел – не отогнать осу вот,
- над вещей гущей нависает если.
- Он то ли болен, то ли так тоскует,
- что терпит боль, не меньшую болезни.
- Нисходит сумрак. Созревают громы.
- Страшусь узнать: что эта гуща знает?
- О, горе мне, магнолии и горы.
- О море, впрямь ли смысл твой лучезарен?
- Я – мертвый гость беспечности курортной:
- пусть пьет вино, лоснится и хохочет.
- Где жизнь моя? Вот блеск ее короткий
- за мыс заходит, навсегда заходит.
- Как тяжек день – но он не повторится.
- Брег каменный, мы вместе каменеем.
- На набережной в заведенье «Рица»
- я юношам кажусь Хемингуэем.
- Идут ловцы стаканов и тарелок.
- Печаль моя относится не к ним ли?
- Неужто всё – для этих, загорелых
- и ни одной не прочитавших книги?
- Я упасу их от моей печали,
- от грамоты моей высокопарной.
- Пускай всегда толпятся на причале,
- вблизи прибоя – с ленью и опаской.
- О Море-Небо! Ниспошли им легкость.
- Дай мне беды, а им – добра и чуда.
- Так расточает жизни мимолетность
- тот человек, который – я покуда.
«Пришелец, этих мест название: курорт…»
- Пришелец, этих мест название: курорт.
- Пляж озабочен тем, чтоб стал ты позолочен.
- Страдалец, извлеки из северных корост
- всей бледности твоей озябший позвоночник.
- Магнолий белый огнь в честь возожжен твою.
- Ты нищ – возьми себе плодов и роз излишек.
- Власть моря велика – и всякую вину
- оно простит тебе и боль ума залижет.
- Уж ты влюблен в балкон – в цветах лиловых весь.
- Балкон средь облаков висит и весь в лиловом.
- Не знаю кто, но есть тебе пославший весть
- об упоенье уст лилово-винным словом.
- Счастливец вновь спешит страданья раздобыть.
- В избытке райских кущ он хочет быть в убытке.
- Придрался вот к чему и вот чего забыть
- не хочет, говорит: я здесь – а где убыхи?
- Нет, вовсе не курорт названье этих мест.
- Край этот милосерд, но я в нём только странник.
- Гость родины чужой, о горе мне, я – есмь,
- но нет убыхов здесь и мёртв язык-изгнанник.
- К Аллаху ли взывать, иль Боже говорить,
- иль Гмерто восклицать – всё верный способ зова.
- Прошу: не одаряй. Ненадобно дарить.
- У всех не отними ни родины, ни слова.
«Как холодно в Эшери и как строго…»
- Как холодно в Эшери и как строго.
- На пир дождя не звал нас небосвод.
- Нет никого. Лишь бодрствует дорога
- влекомых морем хладных горных вод.
- Вино не приглашает к утешенью
- условному. Ум раны трезв и наг.
- Ущелье ныне мрачно, как ущелью
- пристало быть. И остается нам
- случайную пустыню ресторана
- принять за совершенство пустоты.
- И, в сущности, как мало расстоянья
- меж тем и этим. Милый друг, прости.
- Как дней грядущих призрачный историк
- смотрю на жизнь, где вместе ты и я,
- где сир и дик средь мирозданья столик,
- накрытый на краю небытия.
- Нет никого в ущелье… Лишь ущелье,
- где звук воды велик, как звук судьбы.
- Ах нет, мой друг, то просто дождь в Эшери.
- Так я солгу – и ты мне так солги.
Бабочка
Антонине Чернышёвой
- День октября шестнадцатый столь тёпел,
- жара в окне так приторно желта,
- что бабочка, усопшая меж стекол,
- смерть прервала для краткого житья.
- Не страшно ли, не скушно ли? Не зря ли
- очнулась ты от участи сестер,
- жаднейшая до бренных лакомств яви
- средь прочих шоколадниц и сластён?
- Из мертвой хватки, из загробной дрёмы
- ты рвешься так, что, слух острее будь,
- пришлось бы мне, как на аэродроме,
- глаза прикрыть и голову пригнуть.
- Перстам неотпускающим, незримым
- отдав щепотку боли и пыльцы,
- пари, предавшись помыслам орлиным,
- сверкай и нежься, гибни и прости.
- Умру иль нет, но прежде изнурю я
- свечу и лоб: пусть выдумают – как
- благословлю я хищность жизнелюбья
- с добычей жизни в меркнущих зрачках.
- Пора! В окне горит огонь-затворник.
- Усугубилась складка меж бровей.
- Пишу: октябрь, шестнадцатое, вторник —
- и Воскресенье бабочки моей.
«Смеркается в пятом часу, а к пяти…»
Илье Дадашидзе
- Смеркается в пятом часу, а к пяти
- уж смерклось. Что сладостней поздних
- шатаний, стояний, скитаний в пути,
- не так ли, мой пёс и мой посох?
- Трава и сугробы, октябрь, но февраль.
- Тьму выбрав, как свет и идею,
- не хочет свободный и дикий фонарь
- служить Эдисонову делу.
- Я предана этим бессветным местам,
- безлюдию их и безлунью,
- науськавшим гнаться за мной по пятам
- позёмку, как свору борзую.
- Полога дорога, но есть перевал
- меж скромным подъемом и спуском.
- Отсюда я вижу, как волен и ал
- огонь в обиталище узком.
- Терзаясь значеньем окна и огня,
- всяк путник умерит здесь поступь,
- здесь всадник ночной придержал бы коня,
- здесь медлят мой пёс и мой посох.
- Ответствуйте, верные поводыри:
- за склоном и за поворотом
- что там за сияющий замок вдали,
- и если не замок, то что там?
- Зачем этот пламень так смел и велик?
- Чьи падают слёзы и пряди?
- Какой же избранник ее и должник
- в пленительном пекле багряном?
- Кто ей из веков отвечает кивком?
- Чьим латам, сединам и ранам
- не жаль и не мало пропасть мотыльком
- в пленительном пекле багряном?
- Ведуний там иль чернокнижников пост?
- Иль пьется богам и богиням?
- Ужайший мой круг, мои посох и пёс,
- рванемся туда и погибнем.
- Я вижу, вам путь этот странный знаком,
- во мгле что горит неусыпно?
- – То лампа твоя под твоим же платком,
- под красным, – ответила свита.
- Там, значит, никто не колдует, не пьет?
- Но вот, что страшней и смешнее:
- отчасти мы все, мои посох и пёс,
- той лампы моей измышленье.
- И это в селенье, где нет поселян, —
- спасенье, мой пёс и мой посох.
- А кто нам спасительный свет посылал —
- неважно. Спасибо, что послан.
«Мы начали вместе: рабочие, я и зима…»
- Мы начали вместе: рабочие, я и зима.
- Рабочих свезли, чтобы строить гараж с кабинетом
- соседу. Из них мне знакомы Матвей и Кузьма
- и Павел-меньшой, окруженные кордебалетом.
- Окно, под каким я сижу для затеи моей,
- выходит в их шум, порицающий силу раствора.
- Прошло без помех увядание рощ и полей,
- листва поредела, и стало светло и просторно.
- Зима поспешала. Холодный сентябрь иссякал.
- Затея томила и не давалась мне что-то.
- Коль кончилось курево или вдруг нужен стакан,
- ко мне отряжали за прибылью Павла-меньшого.
- Спрошу: – Как дела? – Засмеется: – Как сажа бела.
- То нет кирпича, то застряла машина с цементом.
- – Вот-вот, – говорю, – и мои таковы же дела.
- Утешимся, Павел, печальным напитком целебным.
- Октябрь наступил. Стало Пушкина больше вокруг,
- верней, только он и остался в уме и природе.
- Пока у зимы не валилась работа из рук,
- Матвей и Кузьма на моём появлялись пороге.
- – Ну что? – говорят. Говорю: – Для затеи пустой,
- наверно, живу. – Ничего, – говорят, – не печалься.
- Ты видишь в окно: и у нас то и дело простой.
- Тебе веселей: без зарплаты, а всё ж – без начальства…
- Нежданно-негаданно – невидаль: зной в октябре.
- Кирпич и цемент обрели наконец-то единство.
- Все травы и твари разнежились в чудном тепле,
- в саду толчея: кто расцвел, кто воскрес, кто родился.
- У друга какого, у юга неужто взаймы
- наш север выпрашивал блики, и блески, и тени?
- Меня ободряла промашка неловкой зимы,
- не боле меня преуспевшей в заветной затее.
- Сияет и греет, но рано сгущается темь,
- и тотчас же стройка уходит, забыв о постройке.
- Как, Пушкин, мне быть в октября девятнадцатый день?
- Смеркается – к смерти. А где же друзья, где восторги?
- И век мой жесточе, и дар мой совсем никакой.
- Всё кофе варю и сижу, пригорюнясь, на кухне.
- Вдруг – что-то живое ползет меж щекой и рукой.
- Слезу не узнала. Давай посвятим ее Кюхле.
- Зима отслужила безумье каникул своих
- и за ночь такие хоромы воздвигла, что диво.
- Уж некуда выше, а снег всё валил и валил.
- Как строят – не видно, окно – непроглядная льдина.
- Мы начали вместе. Зима завершила труды.
- Стекло поскребла: ну и ну, с новосельем соседа!
- Прилажена крыша, и дым произрос из трубы.
- А я всё сижу, всё гляжу на падение снега.
- Вот Павел, Матвей и Кузьма попрощаться пришли.
- – Прощай, – говорят. – Мы-то знаем тебя не по книжкам.
- А всё же для смеха стишок и про нас напиши.
- Ты нам не чужая – таая простая, что слишком…
- Ну что же, спасибо, и я тебя крепко люблю,
- заснеженных этих равнин и дорог обитатель.
- За все рукоделья, за кроткий твой гнев во хмелю,
- еще и за то, что не ты моих книжек читатель.
- Уходят. Сказали: – К Ноябрьским уж точно сдадим.
- Соседу втолкуй: всё же праздник, пусть будет попроще… —
- Ноябрь на дворе. И горит мой огонь-нелюдим.
- Без шума соседнего в комнате тихо, как в роще.
- А что же затея? И в чём ее тайная связь
- с окном, возлюбившим строительства скромную новость?
- Не знаю.
- Как Пушкину нынче луна удалась!
- На славу мутна и огромна, к морозу, должно быть!
Сад
Василию Аксёнову
- Я вышла в сад, но глушь и роскошь
- живут не здесь, а в слове «сад».
- Оно красою роз возросших
- питает слух, и нюх, и взгляд.
- Просторней слово, чем окрестность:
- в нём хорошо и вольно, в нём
- сиротство саженцев окрепших
- усыновляет чернозём.
- Рассада неизвестных новшеств,
- о, слово «сад» – как садовод,
- под блеск и лязг садовых ножниц
- ты длишь и множишь свой приплод.
- Вместилась в твой объем свободный
- усадьба и судьба семьи,
- которой нет, и той садовой
- потёрто-белый цвет скамьи.
- Ты плодороднее, чем почва,
- ты кормишь корни чуждых крон,
- ты – дуб, дупло, Дубровский, почта
- сердец и слов: любовь и кровь.
- Твоя тенистая чащоба
- всегда темна, но пред жарой
- зачем потупился смущенно
- влюбленный зонтик кружевной?
- Не я ль, искатель ручки вялой,
- колено гравием красню?
- Садовник нищий и развязный,
- чего ищу, к чему клоню?
- И если вышла, то куда я
- всё ж вышла? Май, а грязь прочна.
- Я вышла в пустошь захуданья
- и в ней прочла, что жизнь прошла.
- Прошла! Куда она спешила?
- Лишь губ пригубила немых
- сухую муку, сообщила,
- что всё – навеки, я – на миг.
- На миг, где ни себя, ни сада
- я не успела разглядеть.
- «Я вышла в сад», – я написала.
- Я написала? Значит, есть
- хоть что-нибудь? Да, есть, и дивно,
- что выход в сад – не ход, не шаг.
- Я никуда не выходила.
- Я просто написала так:
- «Я вышла в сад»…
Владимиру Высоцкому
- Твой случай таков, что мужи этих мест и предместий
- белее Офелии бродят с безумьем во взоре.
- Нам, виды видавшим, ответствуй, как деве прелестной:
- так – быть? или – как? что решил ты в своем Эльсиноре?
- Пусть каждый в своем Эльсиноре решает, как может.
- Дарующий радость, ты – щедрый даритель страданья.
- Но Дании всякой, нам данной, тот славу умножит,
- кто подданных душу возвысит до слёз, до рыданья.
- Спасение в том, что сумели собраться на площадь
- не сборищем сброда, бегущим глазеть на Нерона,
- а стройным собором собратьев, отринувших пошлость.
- Народ невредим, если боль о Певце – всенародна.
- Народ, народившись, – не неуч, он ныне и присно —
- не слушатель вздора и не покупатель вещицы.
- Певца обожая, – расплачемся. Доблестна тризна.
- Так – быть или как? Мне как быть? Не взыщите.
- Хвалю и люблю не отвергшего гибельной чаши.
- В обнимку уходим – всё дальше, всё выше, всё чище.
- Не скаредны мы, и сердца разбиваются наши.
- Лишь так справедливо. Ведь если не наши – то чьи же?
- Московских сборищ завсегдатай,
- едва очнется небосвод,
- люблю, когда рассвет сохатый
- чащобу дыма грудью рвет.
- На Беговой – одной гостиной
- есть плюш, и плен, и крен окна,
- где мчится конь неугасимый
- в обгон небесного огня.
- И видят бельма рани блеклой
- пустых трибун рассветный бред.
- Фырчит и блещет быстролетный,
- переходящий в утро бег.
- Над бредом, бегом – над Бегами
- есть плюш и плен. Есть гобелен:
- в нём те же свечи и бокалы,
- тлен бытия, и плюш, и плен.
- Клубится грива ипподрома.
- Крепчает рысь младого дня.
- Застолья вспыльчивая дрёма
- остаток ночи пьет до дна.
- Уж кто-то щей на кухне просит,
- и лик красавицы ночной
- померк. Окурки утра. Осень.
- Все разбредаются домой.
- Пирушки грустен вид посмертный.
- Еще чего-то рыщет в ней
- гость неминуемый последний,
- что всех несносней и пьяней.
- Уже не терпится хозяйке
- уйти в черёд дневных забот,
- уж за его спиною знаки
- она к уборке подает.
- Но неподвижен гость угрюмый.
- Нездешне одинок и дик,
- он снова тянется за рюмкой
- и долго в глубь вина глядит.
- Не так ли я в пустыне лунной
- стою? Сообщники души,
- кем пир был красен многолюдный,
- стремглав иль нехотя ушли.
- Кто в стран полуденных заочность,
- кто – в даль без имени, в какой
- спасительна судьбы всеобщность
- и страшно, если ты изгой.
- Пригубила – как погубила —
- непостижимый хлад чела.
- Всё будущее – прежде было,
- а будет – быль, что я была.
- На что упрямилось воловье
- двужилье горловой струны —
- но вот уже и ты, Володя,
- ушел из этой стороны.
- Не поспевает лба неумность
- расслышать краткий твой ответ.
- Жизнь за тобой вослед рванулась,
- но вот – глядит тебе вослед.
- Для этой мысли темной, тихой
- стих занимался и старел
- и сам не знал: при чем гостиной
- вид из окна и интерьер?
- В честь аллегории нехитрой
- гость там зажился. Сгоряча
- уже он обернул накидкой
- хозяйки зябкие плеча.
- Так вот какому вверясь року
- гость не уходит со двора!
- Нет сил поднять его в дорогу
- у суеверного пера.
- Играй со мной, двойник понурый,
- сиди, смотри на белый свет.
- Отверстой бездны неподкупной
- я слышу добродушный смех.
- Эта смерть не моя есть ущерб и зачёт
- жизни кровно-моей, лбом упершейся в стену.
- Но когда свои лампы Театр возожжет
- и погасит – Трагедия выйдет на сцену.
- Вдруг не поздно сокрыться в заочность кулис?
- Не пойду! Спрячу голову в бархатной щели.
- Обреченных капризников тщетный каприз —
- вжаться, вжиться в укромность – вина неужели?
- Дайте выжить. Чрезмерен сей скорбный сюжет.
- Я не помню из роли ни жеста, ни слова.
- Но смеется суфлёр, вседержитель судеб:
- говори: всё я помню, я здесь, я готова.
- Говорю: я готова. Я помню. Я здесь.
- Сущ и слышим тот голос, что мне подыграет.
- Средь безумья, нет, средь слабоумья злодейств
- здраво мыслит один: умирающий Гамлет.
- Донесется вослед: не с ума ли сошед
- Тот, кто жизнь возлюбил да забыл про живучесть.
- Дай, Театр, доиграть благородный сюжет,
- бледноликий партер повергающий в ужас.
Ладыжино
Владимиру Войновичу
- Я этих мест не видела давно.
- Душа во сне глядит в чужие краи
- на тех, моих, кго люблю, кого
- у этих мест и у меня – украли.
- Душе во сне в Баварию глядеть
- досуга нет – но и вчера глядела.
- Я думала, когда проснулась здесь:
- душе не внове будет, взмыв из тела.
- Так вот на что я променяла вас,
- друзья души, обобранной разбоем.
- К вам солнце шло. Мой день вчерашний гас.
- Вы – за Окой, вон там, за темным бором.
- И ваши слёзы видели в ночи
- меня в Тарусе, что одно и то же.
- Нашли меня и долго прочь не шли.
- Чем сон нежней, тем пробужденье строже.
- Вот новый день, который вам пошлю —
- оповестить о сердца разрыванье,
- когда иду по снегу и по льду
- сквозь бор и бездну между мной и вами.
- Так я вхожу в Ладыжино. Просты
- черты красы и бедствия родного.
- О, тетя Маня, смилуйся, прости
- меня за всё, за слово и не-слово.
- Прогорк твой лик, твой малый дом убог.
- Моих друзей и у тебя отняли.
- Всё слышу: «Не печалься, голубок».
- Да мочи в сердце меньше, чем печали.
- Окно во снег, икона, стол, скамья.
- Ад глаз моих за рукавом я прячу.
- «Ах, андел мой, желанная моя,
- не плачь, не сетуй».
- Сетую и плачу.
Вослед 27-му дню февраля
- День пред весной, мне жаль моей зимы,
- чей гений знал, где жизнь мою припрятать.
- Не предрекай теплыни, не звени,
- ты мне грустна сегодня, птичья радость.
- Мне жаль снегов, мне жаль себя в снегах,
- Оки во льду и полыньи отверстой,
- и радости, что дело не в стихах,
- а в нежности к пространству безответной.
- Ах, нет, не так, не с тем же спорить мне,
- кто звал и знал ответа благосклонность.
- День-Божество, повремени в окне,
- что до меня – я от тебя не скроюсь.
- В седьмом часу не остается дня.
- Красно-синё окошко ледяное.
- День-Божество, вот я, войди в меня,
- лишь я – твое прибежище ночное.
- Воскресни же – ты воскрешен уже.
- Велик и леп, восстань великолепным.
- Я повторю и воздымлю в уме
- твой первый свет в моём окошке левом.
- Вновь грозно-нежен разворот небес
- в знак бедствий всех и вместе благоденствий.
- День хочет быть – день скоро будет – есть
- солнце-морозный, всё точь-в-точь: чудесный.
- Грядущее грядет из близи. Что ж,
- зато я знаю выраженье сосен,
- когда восходит то, чего ты ждешь,
- и сердце еле ожиданье сносит.
- Всё распростерто перед ним, всё – ниц.
- Ему не в труд, свет разметав по крышам,
- пронзить цветка прозрачный организм,
- который люди Ванькой-мокрым кличут.
- Да, о растенье. Возлюбив его,
- с утра смеюсь: кто, Ваня милый, вы-то?
- Сердечком влажным это существо
- в меня всмотрелось и ко мне привыкло.
- Мы с ним вдвоём в обители моей
- насквозь провидим ясную погоду.
- День пред весной всё шире, всё вольней.
- Внизу мне скажут: дело к ледоходу.
- Лёд, не ходи! Хоть и весна почти,
- земля прочна и глубока остуда.
- Мне жаль того, поверх воды, пути
- в Поленово, наискосок отсюда.
- Я выхожу. Морозно и тепло.
- Мне говорят, что дело к ледоходу.
- Грущу и рада: утром с крыш текло —
- я от воды отламываю воду.
- Иду в Пачёво, в деревушку. Во-он
- она дымит: добра и пусторука.
- К ней влажен глаз, и слух в нее влюблен.
- Под горку, в горку, роща и – Таруса.
- Я б шла туда, куда глаза вели,
- когда б не Ты, кого весна тревожит.
- Всё Ты да Ты, всё шалости Твои:
- там, впереди, – художник и треножник.
- Я не хочу свиданье их спугнуть.
- И кто я им, воссоздавая втуне
- их поз взаимность, синий санный путь,
- себя – пятно, мелькнувшее в этюде?
- Им оставляю блеск и синеву.
- Цвет никакой не скуден и не тесен.
- А я? Каким я день мой назову?
- Мне сказано уже, что он – чудесен.
- Грядами леса спорят об Оке
- отвесный берег с этим вот, пологим.
- Те двое грациозных вдалеке
- всё заняты круженьем многоногим.
- День пред весной, снега мой след сотрут.
- Ты дважды жил и не узнал об этом.
- В окне моём Юпитер и Сатурн
- сейчас в соседях. Говорят, что – к бедам.
Игры и шалости
- Мне кажется, со мной играет кто-то.
- Мне кажется, я догадалась – кто,
- когда опять усмешливо и тонко
- мороз и солнце глянули в окно.
- Что мы добавим к солнцу и морозу?
- Не то, не то! Не блеск, не лёд над ним.
- Я жду! Отдай обещанную розу!
- И роза дня летит к ногам моим.
- Во всём ловлю таинственные знаки,
- то след примечу, то заслышу речь.
- А вот и лошадь запрягают в санки.
- Коль ты велел – как можно не запречь?
- Верней – коня. Он масти дня и снега.
- Не всё ль равно! Ты знаешь сам, когда:
- в чудесный день! – для усиленья бега
- ту, что впрягли, ты обратил в коня.
- Влетаем в синеву и полыханье.
- Перед лицом – мах мощной седины.
- Но где же ты, что вот – твое дыханье?
- В какой союз мы тайный сведены?
- Как ты учил – так и темнеет зелень.
- Как ты жалел – так и поют в избе.
- Весь этот день, твоим родным издельем,
- хоть отдан мне, – принадлежит Тебе.
- А ночью – под угрюмо-голубою,
- под собственной твоей полулуной —
- как я глупа, что плачу над тобою,
- настолько сущим, чтоб шалить со мной.
Радость в Тарусе
- Я позабыла, что всё это есть.
- Что с небосводом? Зачем он зарделся?
- Как я могла позабыть средь злодейств
- то, что еще упаслось от злодейства?
- Но я не верила, что упаслось
- хоть что-нибудь. Всё, я думала, – втуне.
- Много ли всех проливателей слёз,
- всех, не повинных в корысти и в дури?
- Время смертей и смертельных разлук
- хоть не прошло, а уму повредило.
- Я позабыла, что сосны растут.
- Вид позабыла всего, что родимо.
- Горестен вид этих маленьких сёл,
- рощ изведенных, церквей убиенных.
- И, для науки изъятых из школ,
- множества бродят подростков военных.
- Вспомнила: это восход, и встаю,
- алчно сочувствуя прибыли света.
- Первыми сосны воспримут зарю,
- далее всем нам обещано это.
- Трём обольщеньям за каждым окном
- радуюсь я, словно радостный кто-то.
- Только мгновенье меж мной и Окой,
- валенки и соучастье откоса.
- Маша приходит: «Как, андел, спалось?»
- Ангел мой Маша, так крепко, так сладко!
- «Кутайся, андел мой, нынче мороз».
- Ангел мой Маша, как славно, как ладно!
- «В Паршино, любушка, волк забегал,
- то-то корова стенала, томилась».
- Любушка Маша, зачем он пугал
- Паршина милого сирость и смирность?
- Вот выхожу, на конюшню бегу.
- Я ль незнакомец, что болен и мрачен?
- Конь, что белеет на белом снегу,
- добр и сластёна, зовут его: Мальчик.
- Мальчик, вот сахар, но как ты любим!
- Глаз твой, отверсто-дрожащий и трудный,
- я бы могла перепутать с моим,
- если б не глаз – знаменитый и чудный.
- В конюхах – тот, чьей безмолвной судьбой
- держится общий невыцветший гений. li>Как я, главенствуя в роли второй,
- главных забыла героев трагедий?
- То есть я помнила, помня: нас нет,
- если истока нам нет и прироста.
- Заново знаю: лицо – это свет,
- способ души изъявлять благородство.
- Семьдесят два ему года. Вестей
- добрых он мало услышал на свете.
- А поглядит на коня, на детей —
- я погляжу, словно кони и дети.
- Где мы берем добродетель и стать?
- Нам это – не по судьбе, не по чину.
- Если не сгинуть совсем, то – устать
- всё не сберемся, хоть имем причину.
- Март между тем припекает мой лоб.
- В марте ли лбу предаваться заботе?
- «Что же, поедешь со мною, милок?»
- Я-то поеду! А вы-то возьмете?
- Вот и поехали. Дня и коня,
- дня и души белизна и нарядность.
- Федор Данилович! Радость моя!
- Лишь засмеется: «Ну что, моя радость?»
- Слева и справа: краса и краса.
- Дым-сирота над деревнею вьется.
- Склад неимущества – храм без креста.
- Знаю я, знаю, как это зовется.
- Ночью, при сильном стеченье светил,
- долго смотрю на леса, на равнину.
- Господи! Снова меня Ты простил.
- Стало быть – можно? Я – лампу придвину.
Ревность пространства. 9 марта
Борису Мессереру
- Объятье – вот занятье и досуг.
- В семь дней иссякла маленькая вечность.
- Изгиб дороги – и разъятье рук.
- Какая глушь вокруг, какая млечность.
- Здесь поворот – но здесь не разглядеть
- от Паршина к Тарусе поворота.
- Стоит в глазах и простоит весь день
- все-белизны сплошная поволока.
- Даль – в белых нетях, близь – не глубока,
- она – белка, а не зрачка виденье.
- Что за Окою – тайна, и Ока —
- лишь знание о ней иль заблужденье.
- Вплотную к зренью поднесен простор,
- нет, привнесен, нет, втиснут вглубь, под веки,
- и там стеснен, как непомерный сон,
- смелее яви преуспевший в цвете.
- Вход в этот цвет лишь ощупи отверст.
- Не рыщу я сокрытого порога.
- Какого рода белое окрест,
- если оно белее, чем природа?
- В открытье – грех заглядывать уму,
- пусть ум поможет продвигаться телу
- и встречный стопор взору моему
- зовет, как все его зовут: метелью.
- Сужает круг всё сущее кругом.
- Белеют вместе цельность и подробность.
- Во впадине под ангельским крылом
- вот так бело и так темно, должно быть.
- Там упасают выпуклость чела
- от разноцветья и непостоянства.
- У грешного чела и ремесла
- нет сводника лютее, чем пространство.
- Оно – влюбленный соглядатай мой.
- Вот мучит белизною самодельной,
- но и прощает этой белизной
- вину моей отлучки семидневной.
- Уж если ты себя творишь само,
- скажи: в чём смысл? в чём тайное веленье?
- Таруса где? где Паршино-село?
- Но, скрытное, молчит стихотворенье.
Милость пространства. 10 марта
Борису Мессереру
- Я описала марта день девятый —
- см. где-то здесь, где некому смотреть.
- Вот перечень его примет невнятный:
- застой снегов и снега круговерть.
- В нём всё отвесно и ничто не навзничь.
- Восстал хребет последней пред-весны.
- Тот цвет, что белым мною вкратце назван, —
- сильней и безымянней белизны.
- Неодолима вздыбленная плоскость.
- Ямщик всевластью вьюги подлежит.
- Но в этот раз ее провидит лошадь,
- чей гений – прыток и домой бежит.
- Конь, мной воспетый и меня везущий,
- тягается с воспетыми не мной,
- пока, родной мой, вечно-однозвучный,
- не от наслышки слышу голос твой.
- Всё так и было в дне девятом марта.
- Равна моим чернилам белизна:
- в нее их тщаньем ни одна помарка
- развязно не была привнесена.
- Как школьник в труд радивого соседа
- шлет глаз крадущий, я взяла себе
- у дня – весь день, всё поведенье снега
- и песнь похмелья в Паршине-селе.
- На измышленья разум сил не тратил:
- вздымалось поле и метель мела.
- Лишь ты придуман, призрачный читатель.
- Но ты мне нужен, выдумка моя.
- Сам посуди: про марта день девятый
- еще моих ты не прочел стихов,
- а я, под утро, из теплыни ватной
- кошусь в окно: десятый день каков?
- Его восход внушает беспокойство:
- как бы меня во сне не провели
- влиянья неба, шлющие с откоса
- зеленый свет в зеницу полыньи.
- Капель-крикунья, потакая марту,
- навзрыд вещает. Ярко лжет окно,
- что опыт белой росписи по мраку
- им не изведан иль забыт давно.
- На улицу! Но валенки не в зиму,
- а в лужу вводят. Некому пенять.
- На вешнюю нездешнюю резину
- мой верный войлок надобно менять.
- Опять иду. Я верю косогору.
- Он знает всё про то, что за Окой.
- Пал занавес. И слепнущему взору
- даль предстает младою и нагой.
- Над всем, что было прочно и парчово,
- хихикнул чей-то синий голосок.
- Тарусы – сквозь прозрачное Пачёво —
- вон крайний дом, не низок, не высок.
- Я слышу смех пространства и Кого-то,
- кто снег убрал и посылает свет.
- Как подступают к сердцу жизнь и воля,
- когда смеется Тот, кто милосерд.
- Так думаю – в каком это? – в четвертом
- часу. Часы и я удивлены.
- Усилен воздух нежным и нетвердым
- сияньем, равным четверти луны.
- Еще пишу: отвьюжило, отмглилось,
- Оке наскучил закадычный лёд,
- Но в это время чья-то власть и милость
- «Спи!» – говорит и мой целует лоб.
Строгость пространства. 11 марта
Борису Мессереру
- Что марту дни его: девятый и десятый?
- А мне их жаль терять и некогда терять.
- Но кто это еще, и словно бы с досадой,
- через плечо мое глядит в мою тетрадь?
- Одиннадцатый, ты? Смещая очередность,
- твой третий час уже я трачу на вчера.
- До света досижу и дольше – до черемух,
- чтоб наспех не сказать, как стала ночь черна.
- А где твоя луна? Ведь только что сияла.
- Сияет – но моя, взращенная в стихах.
- Да ты, я вижу, крут. Там, где вода стояла,
- ты льдины в память льдин возводишь впопыхах.
- Я пререкалась с днем как со знакомцем новым —
- он знать меня не знал. Он укреплял Оку.
- Он сызмальства зари был взрослым и суровым.
- Все вензели зимы он возвратил окну.
- Он строго проверял: морозно ли? бело ли? —
- и на лету сгубил слабейшую из птах.
- Он строил из воды умершее былое,
- как будто воскрешал храм, обращенный в прах.
- День стужу затевал и делал, что затеял:
- вязал ручьи узлом, доверье верб терзал.
- То гением глядел, то взглядывал злодеем.
- Что б Ты о нём сказал, который всё сказал?
- Когда я, как всегда, отправилась в Пачёво,
- меня, как свой пустяк, он зашвырнул домой.
- Я больше дням твоим, март, не веду подсчета.
- Вот воспеватель твой: озябший и больной.
- Меж дней твоих втеснюсь в укромный промежуток.
- Как сумрачно глядит пространство-нелюдим!
- Оно шалит само, но не приемлет шуток. li>Несдобровать тому, кто был развязен с ним.
- В ночи взывают к дню чернила и бумага.
- Мне жаль, что преступил полночную черту
- День – выродок из дней, хоть выходец из марта,
- один, словно поэт – всегда чужой в роду.
- Особенный закат он причинил природе:
- уж не было зари, а всё была видна.
- Стихами о его трагическом уходе
- я возвещу восход двенадцатого дня.
Кофейный чертик
- Опять четвертый час. Да что это, ей-Богу!
- Ну, что, четвертый час, о чём поговорим?
- Во времени чужом люблю свою эпоху:
- тебя, мой час, тебя, веселый кофеин.
- Сообщник-гуща, вновь твой черный чертик ожил.
- Ему пора играть, но мне-то – спать пора.
- Но угодим – ему. Ум на него помножим —
- и то, что обретем, отпустим до утра.
- Гадаешь ты другим, со мной – озорничаешь.
- Попав вовнутрь судьбы, зачем извне гадать?
- А если я спрошу, ты ясно означаешь
- разлуку, но любовь, и ночи благодать.
- Но то, что обрели, – вот парочка, однако.
- Их общий бодрый пульс резвится при луне.
- Стих вдумался в окно, в глушь снега и оврага,
- и, видимо, забыл про чертика в уме.
- Он далеко летал, вернулся, но не вырос.
- Пусть думает свое, ему всегда видней.
- Ведь догадался он, как выкроить и выкрасть
- Тарусу, ночь, меня из бесполезных дней.
- Эй, чертик! Ты шалишь во мне, а не в таверне.
- Дай помолчать стиху вблизи его луны.
- Покуда он вершит свое само-творенье,
- люблю на труд его смотреть со стороны.
- Меня он никогда не утруждал нимало.
- Он сочинит свое – я напишу пером.
- Забыла – дальше как? Как дальше, тетя Маня?
- Ах, да, там дровосек приходит с топором.
- Пока же стих глядит, что делает природа.
- Коль тайну сохранит и не предаст словам —
- пускай! Я обойдусь добычею восхода.
- Вы спали – я его сопроводила к вам.
- Всегда казалось мне, что в достиженье рани
- есть лепта и моя, есть тайный подвиг мой.
- Я не ложилась спать, а на моей тетради
- усталый чертик спит, поникнув головой.
- Пойду, спущусь к Оке для первого поклона.
- Любовь души моей, вдруг твой ослушник – здесь
- и смеет говорить: нет воли, нет покоя,
- а счастье – точно есть. Это оно и есть.
День: 12 марта 1981 года
- Дни марта меж собою не в родстве.
- Двенадцатый – в нём гость или подкидыш.
- Черты чужие есть в его красе,
- и март: «Эй, март!» – сегодня не окликнешь.
- День – в зиму вышел нравом и лицом:
- когда с холмов ее снега поплыли,
- она его кукушкиным яйцом
- снесла под перья матери-теплыни.
- Я нынче глаз не отпускала спать —
- и как же я умна, что не заснула!
- Я видела, как воля Дня и стать
- пришли сюда, хоть родом не отсюда.
- Дню доставало прирожденных сил
- и для восхода, и для снегопада.
- И слышалось: «О, нареченный сын,
- мне боязно, не восходи, не надо».
- Ему, когда он челядь набирал,
- всё, что послушно, явно было скушно.
- Зачем позёмка, если есть буран?
- Что в бледной стыни мыкаться? Вот – стужа.
- Я, как известно, не ложилась спать.
- Вернее, это Дню и мне известно.
- Дрожать и зубом на зуб не попасть
- мне как-то стало вдруг не интересно.
- Я было вышла, но пошла назад.
- Как не пойти? Описанный в тетрадке,
- Дня нынешнего пред… – скажу: пред-брат —
- оставил мне наследье лихорадки.
- Минувший день, прости, я солгала!
- Твой гений – добр. Сама простыла, дура,
- и провожала в даль твои крыла
- на зябких крыльях зыбкого недуга.
- Хворь – боязлива. Ей невмоготу
- терпеть окна красу и зазыванье —
- в блеск бытия вперяет слепоту,
- со страхом слыша бури завыванье.
- Устав смотреть, как слишком сильный День
- гнёт сосны, гладит против шерсти ели,
- я без присмотра бросила метель
- и потащилась под присмотр постели.
- Проснулась. Вышла. Было семь часов.
- В закате что-то слышимое было,
- но тихое, как пенье голосов:
- «Прощай, прощай, ты мной была любима».
- О, как сквозь чернь березовых ветвей
- и сквозь решетку… там была решетка —
- не для красы, а для других затей,
- в честь нищего какого-то расчета…
- сквозь это всё сияющая весть
- о чём-то высшем – горем мне казалась.
- Нельзя сказать: каков был цвет. Но цвет
- чуть-чуть был розовей, чем несказанность.
- Вот участь совершенной красоты:
- чуть брезжить, быть отсутствия на грани.
- А прочего всего – грубы черты.
- Звезда взошла не как всегда, а ране.
- О День, ты – крах или канун любви
- к тебе, о День? Уж видно мне и слышно,
- как блещет в небе ровно пол-луны:
- всё – в меру, без изъяна, без излишка.
- Скончаньем Дня любуется слеза.
- Мороз: слезу содеешь, но не выльешь.
- Я ничего не знаю и слепа.
- А Божий День – всезнающ и всевидящ.
Рассвет
- Светает раньше, чем вчера светало.
- Я в шесть часов проснулась, потому что
- в окне – так близко, как во мне, —
- вещая,
- капель бубнила, предсказаньем муча.
- Вот голосок, разорванный на всхлипы,
- возрос в струю и в стройное стенанье.
- Маслины цвета превратились в сливы:
- вода синеет на столе в стакане.
- Рассвет всё гуще набирает силу,
- бросает в снег и в слух синичью стаю.
- Зрачки, наверно, выкрашены синью,
- но зеркало синё – я не узнаю.
- Так совершенно наполненье зренья,
- что не хочу зари, хоть долгожданна.
- И – ненасытным баловнем мгновенья —
- смотрю на синий томик Мандельштама.
Непослушание вещей
- Что говорить про вольный дух свечей —
- все подлежим их ворожбе и сглазу.
- Иль неодушевленных нет вещей,
- иль мне они не встретились ни разу.
- У тех, что мне известны, – норов крут.
- Не перечесть их вспыльчивых поступков.
- То пропадут, то невпопад придут,
- свой тайный глаз сокрыв, но и потупив.
- Сейчас вот потешались надо мной:
- Вещь – щелкала не для, а вместо света,
- и заточённый в трубы водяной
- не дал воды и задрожал от смеха.
- Всю эту ночь, от хваткости к стихам,
- включатель тьмы пощелкивал над слухом,
- просил воды назойливый стакан
- и жадный кран, как щедрый филин, ухал.
- Удел вещей: спешить куда-то вдаль.
- Вчера, под вечер, шаль мне подарили —
- под утро зябнет и скучает шаль,
- ей невтерпёж обнять плеча другие.
- Я понукаю их свободный бег —
- пусть будет пойман чьей-нибудь рукою,
- как этот вольный быстротечный снег,
- со всех холмов сзываемый Окою.
- Я не умела вещи приручать.
- Их своеволье оставляю людям.
- Придвиньтесь ближе, лампа и тетрадь.
- Мы никакую вещь не обессудим.
- Сейчас, сей миг, от сей строки – рука
- отпрянула, я ей перекрестилась:
- для шумного, из недр души, зевка
- дверь шкафа распахнулась и закрылась.
Свет и туман
- Сколь ни живи, сколь ни учи наук —
- жизнь знает, как прельстить и одурачить,
- и робкий неуч, молвив: «Это – луг», —
- остолбенев глядит на одуванчик.
- Нельзя привыкнуть и нельзя понять.
- Жизнь – знает нас, а мы ее – не знаем.
- Ее надзором, в занебесном «над»
- исток берущим, всяк насквозь пронзаем.
- Мгновенье ока – вдохновенье губ —
- в сей миг проник наш недалекий гений,
- но пред вторым – наш опыт кругло глуп:
- сплошное время – разнобой мгновений.
- Соседка капля – капле не близнец,
- они похожи, словно я и кто-то.
- Два раза одинаково блестеть
- не станет то, на что смотрю с откоса.
- Всегда мне внове невидаль окна.
- Его читатель вечный и работник,
- робею знать, что значат письмена, —
- и двадцать раз уже я второгодник.
- Вот – ныне, в марта день двадцать шестой,
- я затемно взялась за это чтенье.
- На языке людей: туман густой.
- Но гуще слова бездны изъявленье.
- Какая гордость и какая власть —
- себя столь скрытной охранить стеною.
- И только галки промельк мимо глаз
- не погнушался свидеться со мною.
- Цвет в просторечье назван голубым,
- но остается анонимно-большим.
- На таковом – малина и рубин —
- мой нечванливый Ванька-мокрый ожил.
- Как бы – светает. Но рассвета рост
- не снизошел со зрителем якшаться.
- Есть в мартовской понурости берез
- особое уныние пред-счастья.
- Как всё неизымаемо из мглы!
- Грядущего – нет воли опасаться.
- Вполоборота, ласково: «Не лги!» —
- и вновь собою занято пространство.
Луна до утра
- Что опыт? Вздор! Нет опыта любви.
- Любовь и есть отсутствие былого.
- О, как неопытно я жду луны
- на склоне дня весны двадцать второго.
- Уже темно! И там лишь не темно,
- где нежно меркнет розовая зелень.
- Ее скончанье и мое окно —
- я так стою – соотношу я зреньем.
- Соблазн не в том, что схожи цвет и свет —
- в окне скучает роза абажура, —
- меж ними – муки связь: о лампа, нет,
- свет изведу, а цвет не опишу я.
- Но прежде надо перенесть зарю —
- весть тихую о том, что вечность – рядом.
- Зари не видя, на печаль мою
- окно мое глядит печальным взглядом.
- Что, ситцевая роза, заждалась?
- Ко мне твоя пылает сердцевина
- такою страстью, что – звезда зажглась,
- но в схватке вас двоих – не очевидна.
- Зажглась предтеча десяти часов.
- Страшусь, что помрачневшими глазами
- я вытяну луну из-за лесов
- иль навсегда оставлю за лесами.
- Как поведенье нервов назову?
- Они зубами рвут любой эпитет,
- до злата прожигают синеву
- и причиняют небесам Юпитер.
- Здесь, где живу, есть – не скажу: балкон —
- гроздь ветхости, нарост распада или
- древесное подобье облаков,
- образованье трогательной гнили.
- На всё на это – выхожу. Вон там,
- в той стороне, опасность золотая.
- Прочь от нее! За мною по пятам
- вихрь следует, покров стола взметая.
- Переполох испуганных листов
- спроста ловлю, словно метель иль стаю.
- Верх пекла огнедышит из лесов —
- еще сильней и выпуклей, чем знаю.
- Вздор – хлад, и желтизна, и белизна.
- Что опыт, если всё не предвестимо.
- Как оборотень, движется луна,
- вобрав необратимое светило.
- (И кстати, там, за брезжущей чертой
- и лунной ночи, и стихотворенья,
- истекшее вот этой краснотой,
- я встречу солнце, скрытое от зренья.
- Всем полнокровьем выкормив луну,
- оно весь день пробудет в блеклых нетях.
- Я видела! Я долг ему верну
- стихами, что наступят после этих.)
- Подъем луны – непросто претерпеть.
- Уж мочи нет – всё длится проволочка.
- Тяжелая, еще осталась треть
- иным очам и для меня заочна.
- Вот – вся округлость видима. Луну:
- взойдет иль нет – уже никто не спросит.
- Явилась и зависла. Я люблю
- ее привычку медлить между сосен.
- Затем, что край обобран чернотой, —
- вдруг как-то человечно косовата.
- Но не проста! Не попрана пятой
- (я знаю: он невинен) космонавта.
- Вдруг улыбнусь и заново пойму,
- чей в ней так ясен и сохранен гений.
- Она всегда принадлежит Ему —
- имуществом двух маленьких имений.
- Немедленно луна меняет цвет
- на мутно-серебристый и особый.
- Иль просто ей, чтоб продвигаться вверх,
- удобно стать бледней и невесомей.
- Мне всё труднее подступать к окну.
- Чтоб за луной угнался провожатый:
- влюбленный глаз – я голову клоню
- еще левей. А час который? Пятый.
- На этом точка падает в тетрадь.
- Сплошь темноты – всё зримее и реже.
- И снова нужно утро озирать —
- нежнее и неграмотней, чем прежде.
Утро после луны
- Что там с луною – видит лишь стена.
- Окно уже увлечено Окою.
- Моя луна – иссякла навсегда.
- Вы осиянны вечной, но другою.
- Подслеповатым пристальным белком
- белесый день глядит неблагосклонно.
- Я выхожу на призрачный балкон —
- он свеж, как описание балкона.
- Как я люблю воспетый мной предмет
- вновь повстречать, но в роли очевидца.
- Он как бы знает, что он дважды есть,
- и ластится, клубится и двоится.
- Нет ни луны и никаких улик,
- что впрямь была. Забывчиво пространство.
- Учись, учись, тщеславный ученик,
- и, будучи, не помышляй остаться.
- Перед лицом – тумана толщина.
- У слуха – лишь добычи и удачи:
- нежнейших пересвистов толчея,
- любви великой маленькие плачи.
- Священный шум несуетной возни:
- томленье свадеб, добыванье пищи.
- О, милый мир, отверстый для весны,
- как уберечь твое сердечко птичье?
- Кому дано собою заслонить
- твой детский облик в далях заоконных?
- Надежда – что прищуриться ленив
- твой смертный час затеявший охотник.
- Вдруг раздается краткозвучный гром,
- мгновенно-меткий выстрел многоточья:
- то дятел занят праведным трудом —
- спросонок взмыла паника сорочья.
- Он потрясает обомлевший ствол,
- чтоб помутился разум насекомых.
- Я возвращаюсь и сажусь за стол —
- счастливец из существ, им не искомых.
- Что я имею? Бывшую луну,
- туман и не-событие восхода.
- Я обещала солнцу, что верну
- долги луны. Что делать мне, природа?
- Чем напитаю многоцветье дня,
- коль все цвета исчерпаны луною?
- Достанет ли для этого меня
- и права дальше оставаться мною?
- Меж тем – живой и всемогущий блеск
- восходит над бессонницей моею.
- Который час? Уже неважно. Без
- чего-то семь. Торжественно бледнею.
Вослед 27-му дню марта
- У пред-весны с весною столько распрей:
- дождь нынче шел и снегу досадил.
- Двадцать седьмой, предайся, мой февральский,
- объятьям – с марта днем двадцать седьмым.
- Отпразднуем, погода и погода,
- наш тайный праздник, круглое число.
- Замкнулся круг игры и хоровода:
- дождливо-снежно, холодно-тепло.
- Внутри, не смея ничего нарушить,
- кружусь с прозрачным циркулем в руке
- и белую пространную окружность
- стесняю черным лесом вдалеке.
- Двадцать седьмой, февральский, несравненный,
- посол души в заоблачных краях,
- герой стихов и сирота вселенной,
- вернись ко мне на ангельских крылах.
- Благодарю тебя за все поблажки.
- Просила я: не отнимай зимы! —
- теплыни и сиянья неполадки
- ты взял с собою и убрал с земли.
- И всё, что дале делала природа,
- вступив в открытый заговор со мной, —
- не пропустив ни одного восхода,
- воспела я под разною луной.
- Твой нынешний ровесник и соперник
- был мглист и долог, словно времена,
- не современен марту и сиренев,
- в куртины мрака спрятан от меня.
- Я шла за ним! Но – чем быстрей аллея
- петляла в гору, пятясь от Оки,
- тем боязливей кружево белело,
- тем дальше убегали башмачки.
- День уходил, не оставляя знака, —
- то, может быть, в слезах и впопыхах,
- Ладыжина прекрасная хозяйка
- свой навещала разоренный парк.
- Закат исполнен женственной печали.
- День медленно скрывается во мгле —
- пять лепестков забытой им перчатки
- сиренью увядают на столе.
- Опять идет четвертый час другого
- числа, а я – не вышла из вчера.
- За днями еженощная догонка:
- стихи – тесна всех дней величина.
- Сова? Нет! Это вышла из оврага
- большая сырость и вошла в окно,
- согрелась – и отправился обратно
- невнятно-белый неизвестно кто.
- Два дня моих, два избранных любимца,
- останьтесь! Нам – расстаться не дано.
- Пусть наша сумма бредит и клубится:
- ночь, солнце, дождь и снег – нам всё равно.
- Трепещет соглядатай-недознайка!
- Здесь странная компания сидит:
- Ладыжина прекрасная хозяйка,
- я, ночь и вы, два дня двадцать седьмых.
- Как много нас! – а нам еще не вдосталь.
- Новь жалует в странноприимный дом.
- И то, во что мне утро обойдется, —
- я претерплю. И опишу – потом.
Возвращение в Тарусу
- Пред Окой преклоненность земли
- и к Тарусе томительный подступ.
- Медлил в этой глубокой пыли
- стольких странников горестный посох.
- Нынче май, и растет желтизна
- из открытой земли и расщелин.
- Грустным знаньем душа стеснена:
- этот миг бытия совершенен.
- К церкви Бёховской ластится глаз.
- Раз еще оглянусь – и довольно.
- Я б сказала, что жизнь – удалась,
- всё сбылось и нисколько не больно.
- Просьбы нет у пресыщенных уст
- к благолепью цветущей равнины.
- О, как сир этот рай и как пуст,
- если правда, что нет в нём Марины.
Препирательства и примирения
- Вниз, к Оке, упадая сквозь лес,
- первоцвет упасая от следа.
- Этот, в дрожь повергающий, блеск
- мной воспет и добыт из-под снега.
- – Я вернулась, Ока! – Ну, так что ж, —
- отвечало Оки выраженье. —
- Этот блеск, повергающий в дрожь,
- не твое, а мое достиженье.
- – Но не я ли сподвижник твоих
- льда недвижного и ледохода?
- – Ты не ведаешь, что говоришь.
- Ты жива и еще не природа.
- – Я всю зиму хранила тебя,
- словно берег твой третий и тайный.
- – Я не знаю тебя. Я текла
- самовластно, прохожий случайный.
- – Я лишь третьего дня над Курой
- без твоих тосковала излучин.
- – Кто теплынью отчизны второй
- обольщен – пусть уходит, он скучен.
- Зачерпнула воды, напилась
- не любезной и скаредной влаги.
- Разделяли Оки неприязнь
- раболепные лес и овраги.
- Чтоб простили меня – сколько лет
- мне осталось? Кукушка умолкла.
- О, как мало, овраги и лес!
- Как печально, как ярко, как мокро!
- Всё, что я воспевала зимой,
- лишь весну ныне любит, весну лишь.
- Благоденствуй, воспетое мной!
- Ты воспомнишь меня и возлюбишь.
- Возымевшей в бессонном зрачке
- заводь мглы, где выводится слово,
- без меня будет мало Оке
- услаждать полусон рыболова.
- – Оглянись! – донеслось. – Оглянись!
- Там ручей упирался в запруду.
- Я подумала: цвет медуниц
- не забыть описать. Не забуду.
- Пред лицом моим солнце зашло.
- Справа – Серпухов, слева – Алексин.
- – Оглянись! – донеслось. – Ни за что. —
- Трижды розово небо над лесом.
- Слив двоюродно-близких цветов:
- от лилового неотделимы
- фиолетовость детских стихов
- на полях с отпечатком малины.
- Такова ж медуница для глаз,
- только синее – гуще и ниже.
- Чей-то голос, в который уж раз:
- – Оглянись! – умолял. – Оглянись же!
- Оглянулась. Закрыла глаза.
- Этот блеск, повергающий в ужас
- обожанья, я знаю, Ока.
- Как ты любишь меня, как ревнуешь!
- – О, прости! – я просила Оку.
- Я опять поднималась на сцену.
- Поклонюсь – и писать не могу,
- поглядеть на бумагу не смею.
- Неопрятен и славен удел
- ведать хладом, внушаемым залу.
- Голос мой обольщает людей.
- Это грех или долг – я не знаю.
- Это страх так отважно поёт,
- обманув стадион бледнолицый.
- Горла алого рваный проём
- был ли издали схож с медуницей?
- Я лишь здесь совершенно не лгу.
- Хоть за это пошли мне прощенья.
- Здесь впервые мой след на снегу
- я увидела без отвращенья.
- «Это кто-то хороший стоял», —
- я подумала и засмеялась.
- Я-то знала, как путник устал,
- как ему этой ночью писалось.
- Я жалею февраль мой и март.
- Сердце как-то задумчиво бьется.
- Куковал многократный обман:
- время есть! всё еще обойдется!
- Что сулят мне меж мной и Окой
- препирательства и примиренья —
- от строки я узнаю другой,
- не из этого стихотворенья.
Черемуха
- Когда влюбленный ум был мартом очарован,
- сказала: досижу, чтоб ночи отслужить,
- до утренней зари, и дольше – до черемух,
- подумав: досижу, коль Бог пошлет дожить.
- Сказала – от любви к немыслимости срока,
- нюх в имени цветка не узнавал цветка.
- При мартовской луне чернела одиноко —
- как вехи сквозь метель – простертая строка.
- Стих обещал, а Бог позволил – до черемух
- дожить и досидеть: перед лицом моим
- сияет бледный куст, так уязвим и робок,
- как будто не любим, а мучим и гоним.
- Быть может, он и впрямь терзаем обожаньем.
- Он не повинен в том, что мной предрешено.
- Так бедное дитя отцовским обещаньем
- помолвлено уже, еще не рождено.
- Покуда, тяжко пав на южные ограды,
- вакхически цвела и нежилась сирень,
- Арагву променять на мрачные овраги
- я в этот раз рвалась: о, только бы скорей!
- Избранница стиха, соперница Тифлиса,
- сейчас из лепестков, а некогда из букв!
- О, только бы застать в кулисах бенефиса
- пред выходом на свет ее младой испуг.
- Нет, здесь еще свежо, еще не могут вётлы
- потупленных ветвей изъять из полых вод.
- Но вопрошал мой страх: что с нею? не цветет ли?
- Сказали: не цветет, но расцветет вот-вот.
- Не упустить ее пред-первое движенье —
- туда, где спуск к Оке становится полог.
- Она не расцвела! – ее предположенье
- наутро расцвести я забрала в полон.
- Вчера. Немного тьмы. И вот уже: сегодня.
- Слабеют узелки стесненных лепестков —
- и маленького рта желает знать зевота:
- где свеже-влажный корм, который им иском.
- Очнулась и дрожит. Над ней лицо и лампа.
- Ей стыдно расцветать во всю красу и стать.
- Цветок, как нагота разбуженного глаза,
- не может разглядеть: зачем не дали спать.
- Стих, мученик любви, прими ее немилость!
- Что раболепство ей твоих-моих чернил!
- О, эта не из тех, чья верная взаимность
- объятья отворит и скуку причинит.
- Так ночь, и день, и ночь склоняюсь перед нею.
- Но в чём далекий смысл той мартовской строки?
- Что с бедной головой? Что с головой моею?
- В ней, словно мотыльки, пестреют пустяки.
- Там, где рабочий пульс под выпуклое темя
- гнал надобную кровь и управлялся сам,
- там впадина теперь, чтоб не стеснять растенья,
- беспамятный овраг и обморочный сад.
- До утренней зари… не помню… до чего-то,
- к чему не перенесть влеченья и тоски,
- чей паутинный клей… чья липкая дремота
- висит между висков, где вязнут мотыльки…
- Забытая строка во времени повисла.
- Пал первый лепесток, и грустно, что – к теплу.
- Всегда мне скушен был выискиватель смысла,
- и угодить ему я не могу: я сплю.
Черемуха трехдневная
- Три дня тебе, красавица моя!
- Не оскудел твой благородный холод.
- С утра Ольга Ивановна приходит:
- – Ты угоришь! Ты выйдешь из ума!
- Вождь белокурый странных дум, три дня
- твои я исповедовала бредни.
- Пора очнуться. Уж звонят к обедне.
- Нефёдов нынче снова у меня.
- – Всё так и есть! Душепогубный цвет
- смешал тебя! Какой еще Нефёдов?
- – Почуевский ученый барин: с вёдром
- нас поздравлял как добрый наш сосед.
- – Что делает растенье-озорник!
- Тут чей-то глаз вмешался, чья-то зависть.
- – Мне всё, Ольга Ивановна, казалось, —
- к чему это? – что дом его сгорит.
- Так было жаль улыбчивых усов,
- и чесучи по-летнему, и трости.
- Как одуванчик – кружевные гостьи
- развеются, всё ветер унесет.
- – Уж чай готов. А это, что свело
- тебя с ума, я выкину, однако.
- И выгоню Нефёдова. – Не надо.
- Всё – мимолетно. Всё пройдет само.
- – Тогда вставай. – Встаю. Какая глушь
- в уме моём, какая лень и лунность.
- Я так, Ольга Ивановна, люблю вас,
- что поневоле слог мой неуклюж.
- Пьем чай. Ольга Ивановна такой
- выискивает позы, чтобы глазом
- заботливым в мой поврежденный разум
- удобней было заглянуть тайком.
- Как чай был свеж! Как чудно мёд горчил!
- Как я хитра! – ни чаем и ни мёдом
- не отвлеклась от знанья, что Нефёдов
- изящно-грузно с дрожек соскочил.
- С Нефёдовым мы долго говорим
- о просвещенье и, при встрече рюмок,
- о мрачных днях Отечества горюем
- и вялое правительство браним.
- Конечно, о Толстом. Мы, кстати, с ним
- весьма соседи: Серпухов и Тула.
- Затем, гнушаясь низменностью стула, —
- о будущем, чей свет неодолим.
- О, кто-нибудь, спроси меня о том… —
- нет никого! – мне всё равно! пусть спросит:
- – Про вас всё ясно. Но Нефёдов сродствен
- вам почему? Ведь он-то – здрав умом?
- – О, совершенно. Вся его родня
- известна здравомыслием, и сам он
- сдавал по электричеству экзамен.
- Но – и его черемухе три дня.
- Нет никого – так пусть молчат. Скорей!
- Нефёдов милый, это вы сказали,
- что прельщены зелеными глазами
- Цветаева двух юных дочерей?
- Да, зеленью под сильной кручей лба,
- как и сказал, он был прельщен. А как же
- не быть? Заметно: старшей, музыкантше,
- назначена счастливая судьба.
- – Я б их привел, но – зябкая весна
- и, кажется, они теперь на водах.
- – Они в Нерви. Да и нельзя, Нефёдов,
- не надобно: их матушка больна.
- Ушел. Ольга Ивановна вошла.
- Лишь глянула – и сразу укорила:
- – Да чем же ты Нефёдова кормила?
- Ей-ей, ты не в себе, моя душа.
- – Он вам знаком? – Еще бы не знаком!
- Предобрый, благотворный, только – нервный.
- Хвала моей черемухе трехдневной!
- Поздравьте нас с ее четвертым днем.
- Он начался. Как зелены леса!
- Зеленым светом воды полыхнули.
- Иль это созерцают полнолунье
- двух девочек зеленые глаза?
«Есть тайна у меня от чудного цветенья…»
- Есть тайна у меня от чудного цветенья,
- здесь было б: чуднАГО – уместней написать.
- Не зная новостей, на старый лад желтея,
- цветок себе всегда выпрашивает «ять».
- Где для него возьму услад правописанья,
- хоть первороден он, как речи приворот?
- Что – речь, краса полей и ты, краса лесная,
- как не ответный труд вобравших вас аорт?
- Лишь грамота и вы – других не видно родин.
- Коль вытоптан язык – и вам не устоять.
- Светает, садовод! Светает, огородник!
- Что ж, потянусь и я возделывать тетрадь.
- Я этою весной все встретила растенья.
- Из-под земли их ждал мой повивальный взор.
- Есть тайна у меня от чудного цветенья.
- И как же ей не быть? Всё, что не тайна, – вздор.
- Отраден первоцвет для зренья и для слуха.
- – Эй, ключики! – скажи – он будет тут как тут.
- Не взыщет, коль дразнить: баранчики! желтуха!
- А грамотеи – чтут и буквицей зовут.
- Ах, буквица моя, всё твой букварь читаю.
- Как азбука проста, которой невдомек,
- что даже от тебя я охраняю тайну,
- твой ключик золотой ее не отомкнет.
- Фиалки прожила и проводила в старость
- уменье медуниц изображать закат.
- Черемухе моей – и той не проболталась,
- под пыткой божества и под его диктант.
- Уж вишня расцвела, а яблоня на завтра
- оставила расцвесть… и тут же, вопреки
- пустым словам, в окне, так близко и внезапно
- прозрел ее цветок в конце моей строки.
- Стих падает пчелой на стебли и на ветви,
- чтобы цветочный мёд названий целовать.
- Уже не знаю я: где слово, где соцветье?
- Но весь цветник земной – не гуще, чем словарь.
- В отместку мне – пчела в мою строку влетела.
- В чужую страсть впилась ошибка жадных уст.
- Есть тайна у меня от чудного цветенья.
- Но ландыш расцветет – и я проговорюсь.
Черемуха предпоследняя
- Пока черемухи влиянье
- на ум – за ум я приняла,
- что сотворим – она ли, я ли —
- в сей месяц май, сего числа?
- Души просторную покорность
- я навязала ей взамен
- отчизн откосов и околиц,
- кладбищ и монастырских стен.
- Всё то, что целая окрестность
- вдыхает, – я берусь вдохнуть.
- Дай задохнуться, дай воскреснуть
- и умереть – дай что-нибудь.
- Владей – я не тесней округи,
- не бойся – я странней людей,
- возьми меня в рабы иль в други
- или в овраги – и владей.
- Какой мне вымысел надышишь?
- Свободная повелевать,
- что сочинишь и что напишешь
- моей рукой в мою тетрадь?
- К утру посмотрим – а покуда
- окуривай мои углы.
- В средине замкнутого круга —
- любовь или канун любви.
- Нет у тебя другого знанья:
- для вечных наущений двух,
- для упованья и терзанья
- цветет твой болетворный дух.
- Уже ты насылаешь птицу,
- чье имя в тайне сохраню,
- что не снисходит к очевидцу,
- чей голос не сплошной сравню
- с обрывом сердца, с ожиданьем
- соседней бездны на краю,
- для пробы, с любопытством дальним,
- на миг втянувшей жизнь мою
- и отпустившей, – ей не надо
- того, чему не вышел срок.
- Но вот ее привет из сада
- донесся, искусил и смолк.
- Во что, черемуха, играем —
- я помню, знаю, что творим.
- Уж я томлюсь недомоганьем
- всемирно-сущим – как своим.
- Твой запах – вкрадчивая сводня, —
- луна и птицы ведовство
- твердят, что именно сегодня,
- немедленно… но что? Да всё!
- Вся жизнь, всё разрыванье сердца —
- сейчас, не припасая впрок.
- Двух зорь сплоченное соседство
- теснит мой заповедный срок.
- Но пагубою приворота
- уста я напитаю чьи?
- Нет гостя, кроме самолета
- в необитаемой ночи.
- Продлится за моею шторой
- запинка быстрых двух огней,
- та доля вечности, которой
- довольно выдумке моей.
- Что Паршино ему, Пачёво,
- Ладыжино, Алекино?
- Но сердце летчика ночного
- уже любить обречено
- свет неразборчивый. Отныне
- он станет волен, странен, дик.
- Его отринут все родные.
- Он углубится в чтенье книг.
- Помолвку разорвет, в отставку
- подаст – нельзя! – тогда в Чечню,
- в конец недоуменья, в схватку,
- под пулю, неизвестно чью.
- Любым испытано, как властно
- влечет нас островерхий снег.
- Но сумрачный прищур Кавказа
- мирволит нам в наш скушный век.
- Его пошлют, но в санаторий.
- Печаль, печаль. Наверняка
- от лютой мирности снотворной
- он станет пить. Тоска, тоска.
- Нет, жаль мне летчика. Движеньем
- давай займем его другим.
- Спасем, повысим в чине, женим,
- но прежде – разминемся с ним.
- Черемуха, на эти шутки
- не жаль растраты бытия.
- Светает. Как за эти сутки
- осунулись и ты, и я.
- Слабеет дух твой чудотворный.
- Как трогательно лепестки
- в твой день предсмертный, в твой четвертый
- на эти падают стихи.
- Весной, в твоих оврагах отчих,
- не знаю: свидимся ль опять?
- Несется невредимый летчик
- ночного измышленья вспять.
- Пошли ему не ведать муки.
- А мне? Дыханья перебой
- привносит птица в грусть разлуки
- с тобой, и только ли с тобой?
- Дай что-нибудь! Дай обещанья!
- Дай не принять мой час ночной
- за репетицию прощанья
- со всем, что так любимо мной.
Ночь упаданья яблок
Семёну Липкину
- Уж август в половине. По откосам
- по вечерам гуляют полушалки.
- Пришла пора высокородным осам
- навязываться кухням в приживалки.
- Как женщины глядят в судьбу варенья:
- лениво-зорко, неусыпно-слепо —
- гляжу в окно, где обитает время
- под видом истекающего лета.
- Лишь этот образ осам для пирушки
- пожаловал – кто не варил повидла.
- Здесь закипает варево покруче:
- живьём съедает и глядит невинно.
- Со мной такого лета не бывало.
- – Да и не будет! – слышу уверенье.
- И вздрагиваю: яблоко упало,
- на «НЕ» – извне поставив ударенье.
- Жить припустилось вспугнутое сердце,
- жаль бедного: так бьется кропотливо.
- Неужто впрямь небытия соседство,
- словно соседка глупая, болтливо?
- Нет, это – август, упаданье яблок.
- Я просто не узнала то, что слышу.
- В сердцах, что собеседник непонятлив,
- неоспоримо грохнуло о крышу.
- Быть по сему. Чем кратче, тем дороже.
- Так я сижу в ночь упаданья яблок.
- Грызя и попирая плодородье,
- жизнь милая идет домой с гулянок.
Февральское полнолуние
- Пять дней назад, бесформенной луны
- завидев неопрятный треугольник,
- я усмехнулась: дерзок второгодник,
- сложивший эти ямы и углы.
- Сказала так – и оробела я.
- Возможно ли оспорить птицелова,
- загадочно изрекшего, что слово
- вернуть в силок трудней, чем воробья?
- Назад, на двор! Нет, я не солгала.
- В ней было меньше стати, чем изъяна.
- Она Того забыла иль не знала,
- чье имя – тайна. Глупая луна!
- При ней ютилась прихвостень-звезда.
- Был скушен вид их неприглядной связи.
- И вялое влиянье чьей-то власти
- во сне я отгоняла от виска.
- Я не возьму луны какой ни есть.
- Своей хочу! Я ей не раб подлунный.
- И ужаснулся птицелов: подумай
- пред тем, как словом вызвать гнев небес.
- И он был прав. Послышалось: – Иди!
- – Иду. – Быстрей! – Да уж куда быстрее.
- Где валенки мои? – На батарее.
- Оставь твой вздор, иди и жди беды.
- Эх, валенки! Ваш самотворный бег
- привадился к дороге на Пачёво.
- Беспечны будем. Гнев небес печется
- о нашем ходе через торный снег.
- Я глаз не открывала, повредить
- им опасаясь тем, что ум предвидел.
- Пойдем вслепую – и куда-то выйдем.
- Неведом путь. Всевидящ поводырь.
- – Теперь смотри. – Из чащи над Окой
- она восстала пламенем округлым.
- Ту грань ее, где я прозрела угол,
- натягивал и насыщал огонь.
- Навстречу ей вставал ответный блеск.
- Да, это лишь. Всё прочее не полно.
- Не снёс бы глаз блистающего поля,
- когда б за ним не скромно-черный лес.
- Но есть ли впрямь Пачёво? Есть ли я?
- Где обитает Тот, чье имя – тайна?
- Пусть мимолетность бытия случайна,
- есть вечный миг вблизи небытия.
- Мой – узнан мною и отпущен мной.
- Вот здесь, где шла я в сторону Пачёва,
- он без меня когда-нибудь очнется,
- в снегах равнин, под полною луной.
- Увы, поимщик воробьиных бегств.
- Зачем равнинам предвещать равнины?
- Но лишь когда слова непоправимы,
- устам отверстым оправданье есть.
- Мороз и снег выпрашивают слёз,
- и я не прочь, чтоб слёзы заблестели.
- Три дня не открывала я постели,
- и всяк мне дик, кто спросит: как спалось?
- Всю ночь вкруг окон за луной иду.
- Вот крайнее. Девятый час в начале.
- Сопроводив ее до светлой дали,
- вернусь к окну исходному – и жду.
Гусиный паркер
- Когда, под бездной многостройной,
- вспять поля белого иду,
- восход моей звезды настольной
- люблю я возыметь в виду.
- И кажется: ночной равниной,
- чья даль темна и грозен верх,
- идет, чужим окном хранимый,
- другой какой-то человек.
- Вблизи завидев бесконечность,
- не удержался б онв уме,
- когда б не чьей-то жизни встречность,
- одна в неисчислимой тьме.
- Кто тот, чьим горестным уделом
- терзаюсь? Вдруг не сыт ничем?
- Униженный, скитался где он?
- Озябший, сыщет ли ночлег?
- Пусть будет мной – и поскорее,
- вот здесь, в мой лучший час земной.
- В других местах, в другое время
- он прогадал бы, ставши мной.
- Оставив мне снегов раздолье,
- вот он свернул в мое тепло.
- Вот в руки взял мое родное
- злато-гусиное перо.
- Ему кофейник бодро служит.
- С пирушки шлют гонца к нему.
- Но глаз его раздумьем сужен
- и ум его брезглив к вину.
- А я? В ладыжинском овраге
- коли не сгину – огонек
- увижу и вздохну: навряд ли
- дверь продавщица отомкнет.
- Эх, тьма, куда не пишут письма!
- Что продавщица! – у ведра
- воды не выпросишь напиться:
- рука слаба, вода – тверда.
- До света нового, до жизни
- мне б на печи не дотянуть,
- но ненавистью к продавщице
- душа спасется как-нибудь.
- Зачем? В помине нет аванса.
- Где вы, моих рублей дружки?
- А продавщица – самовластна,
- как ни грози, как ни дрожи.
- Ну, ничего, я отскитаюсь.
- С получки я развею грусть:
- и с продавщицей расквитаюсь,
- и с тем солдатом разберусь.
- Ты спятил, Паркер, ты ошибся!
- Какой солдат? – Да тот, узбек.
- Волчицей стала продавщица
- в семь без пяти. А он – успел.
- Мой Паркер, что тебе в Ладыге?
- Очнись, ты родом не отсель.
- Зачем ты предпочел латыни
- докуку наших новостей?
- Светает во снегах отчизны.
- А расторопный мой герой
- еще гостит у продавщицы:
- и смех, и грех, и пир горой.
- Там пересуды у колодца.
- Там масленицы чад и пыл.
- Мой Паркер сбивчиво клянется,
- что он там был, мёд-пиво пил.
- Мой несравненный, мой гусиный,
- как я люблю, что ты смешлив,
- единственный и неусыпный
- сообщник тайных слёз моих.
Род занятий
- Упорствуешь. Не хочешь быть. Прощай,
- мое стихотворенье о десятом
- дне февраля. Пятнадцатый почат
- день февраля. Восхода недостаток
- мне возместил предутренний не-цвет,
- какой в любом я уличаю цвете.
- Но эту смесь составил фармацевт,
- нам возбранивший думать о рецепте.
- В сей день покаюсь пред прошедшим днем.
- Как ты велел, мой лютый исповедник,
- так и летит мой помысел о нём
- черемуховой осыпью под веник.
- Печально озираю лепестки —
- клочки моих писаний пятинощных.
- Я погубитель лун и солнц. Прости.
- Ты в этом неповинна, печь-сообщник.
- Пусть небеса прочтут бессвязный дым.
- Диктанта их занесшийся тупица,
- я им пишу, что Сириус – один
- у них, но рядом Орион толпится.
- Еще пишу: всё началось с луны.
- Когда-то, помню, я щекою льнула
- к чему-то, что не властно головы
- угомонить в условьях полнолунья.
- Как дальше, печь? Десятое. Темно.
- Тень птичьих крыл метнулась из оврага.
- Не зря мое главнейшее окно
- я в близости зари подозревала.
- Нет, Ванька-мокрый не возжег цветка.
- Жадней меня он до зари охотник.
- Что там с Окой? – Черным-бела Ока, —
- мне поклялись окно и подоконник.
- Я ринулась к обратному окну:
- – А где луна? – ослепнув от мороза,
- оно или не видело луну,
- или гнушалось глупостью вопроса.
- Оплошность дрёмы взору запретив,
- ушла, его бессонницей пресытясь!
- Где раболепных букв и запятых
- сокрылся самодержец и проситель?
- Где валенки? Где двери? Где Ока?
- Ум неусыпный – слаб, а любопытен.
- Луну сопровождали три огня.
- Один и не скрывал, что он – Юпитер.
- Чуть полнокружья ночь себе взяла,
- но яркости его не повредила.
- А час? Седьмой, должно быть, и весьма.
- Уж видно, что заря неотвратима.
- Я оглянулась, падая к Оке.
- Вон там мой Ванька, там мои чернила.
- Связь меж луной и лампою в окне
- так коротка была, так очевидна.
- А там внизу, над розовым едва
- (еще слабей… так будущего лета
- нам роза нерасцветшая видна
- отсутствием и обещаньем цвета…
- в какое слово мысль ни окунем,
- заря предстанет ясною строкою,
- в конце которой гаснет огонек
- в селе, я улыбнулась, за рекою…) —
- там блеск вставал и попирал зарю.
- Единственность, ты имени не просишь
- и только так тебя я назову.
- Лишь множества – не различить без прозвищ.
- Но раб, в моей ютящийся крови,
- чей горб мою вытягивает ношу,
- поднявший к небу черные круги,
- воздвигший то, что я порву и брошу,
- смотрел в глаза родному Божеству.
- Сильней и ниже остального неба
- сияло то, чего не назову.
- А он – молился и шептал: Венера…
- Что было дальше – от кого узнать?
- На этом и застопорились строки.
- Я постояла и пошла назад.
- Слепой зрачок не разбирал дороги.
- В луне осталось мало зримых свойств.
- Глаз напрягался, чтоб ее проведать,
- зато как будто прозревал насквозь
- прозрачно-беззащитную поверхность.
- В девять часов без четверти она
- за паршинское канула заснежье.
- Ей нет возврата. Рознь луне луна.
- И вечность дважды не встречалась с ней же.
- Когда зайдет – нет ничего взамен.
- Упустишь – плачь о мире запредельном.
- Или воспой, коль хочешь возыметь, —
- и плачь о полнолунье самодельном.
- В тот день через одиннадцать часов
- явилась пеклом выпуклым средь сосен
- и робкий круг, усопший средь лесов,
- ей не знаком был, мало – что не сродствен.
- К полуночи уменьшилась. Вдоль глаз
- промчалась вместе с мраком занебесным.
- Укрылась в мутных нетях. Предалась
- не Пушкинским, а беспризорным бесам.
- Безлунно и бесплодно дни текли.
- Раб огрызался, обратиться если
- с покорной просьбой. Где его стишки?
- Не им судить о безымянном блеске.
- О небе небу делают доклад.
- Дай бездны им! А сами – там, в трясине
- былого дня. Его луну догнать
- в огне им будет легче, чем в корзине.
- Вернусь туда, где и стою: в не-цвет.
- Он осторожен и боится сглазу.
- Что ты такое? – Сдержанный ответ
- не всякий может видеть и не сразу.
- Он – нелюдим, его не нарекли
- эпитетом. О, пылкость междометья,
- не восхваляй его и не груби
- пугливому мгновенью междуцветья.
- Вот-вот вспугнут. Расхожая лыжня
- простёрта пред зарядкою заядлой.
- В столь ранний час сюда тащусь лишь я.
- Но что за холод! Что за род занятий!
- Устала я. Мозг застлан синевой.
- В одну лишь можно истину вглядеться:
- тот ныне день, в который Симеон
- спас смерть свою, когда узрел Младенца.
- Приёмыш я иль вовсе сирота
- со всех сторон глядящего пространства?
- Склонись ко мне, о Ты, кто сорока
- дней от роду мог упокоить старца.
- Зов слышался… нет, просьба… нет, мольба…
- Пришла! Но где была? Что с нею сталось?
- Иль то усталость моего же лба,
- восплывши в небо, надо мной смеялась?
- Полулуна изнемогла без
- полулуны. Где раздобыть вторую?
- Молчи, я знаю, счетовод небес!
- Твоя – при ней, я по своей горюю.
- Но весело взбиралась я на холм.
- Испуг сорочий ударял в трещотки.
- И, пышущих здоровьем и грехом,
- румяных лыжниц проносились щёки.
- На понедельник Сретенье пришлось,
- и нас не упасло от встреч никчемных.
- Сосед спросил: «Как нынче вам спалось?»
- Что расскажу я о моих ночевьях?
- Со мной в соседях – старый господин.
- Претерпевая этих мест унынье,
- склоняет он матерьялизм седин
- и в кушанье, и в бесполезность книги.
- Я здесь давно. Я приняла уклад
- соседств, и дружб, и вспыльчивых объятий.
- Но странен всем мой одинокий взгляд
- и непонятен род моих занятий.
Прогулка
- Как вольно я брожу, как одиноко.
- Оступишься – затянет небосвод.
- В рассеянных угодьях Ориона
- не упастись от мысли обо всём.
- – О чём, к примеру? – Кто так опрометчив,
- чтоб спрашивать? Разъятой бездны средь
- нам приоткрыт лишь маленький примерчик
- великой тайны: собственная смерть.
- Привнесена подробность в бесконечность —
- роднее стал ее сторонний смысл.
- К вселенной недозволенная нежность
- дрожаньем спектров виснет меж ресниц.
- Еще спросить возможно: Пушкин милый,
- зачем непостижимость пустоты
- ужасною воображать могилой?
- Не лучше ль думать: это там, где Ты.
- Но что это чернеет на дороге
- злей, чем предмет, мертвей, чем существо?
- Так оторопь коню вступает в ноги
- и рвется прочь безумный глаз его.
- – Позор! Иди! Ни в чём не виноватый
- там столб стоит. Вы столько раз на дню
- встречаетесь, что поля завсегдатай
- давно тебя считает за родню.
- Чем он измучен? Почему так страшен?
- Что сторожит среди пустых равнин?
- И голосом докучливым и старшим
- какой со мной наставник говорит?
- – О чём это? – Вот самозванца наглость:
- моим надбровным взгорбьем излучен,
- со мною же, бубня и запинаясь,
- шептаться смел – и позабыл о чём!
- И раздается добрый смех небесный:
- вдоль пропасти, давно примечен ей,
- кто там идет вблизи всемирных бедствий
- окраиной своих последних дней?
- Над ним – планет плохое предсказанье.
- Весь скарб его – лишь нищета забот.
- А он, цветными упоен слезами,
- столба боится, Пушкина зовет.
- Есть что-то в нём, что высшему расчету
- не подлежит. Пусть продолжает путь.
- И нежно-нежно дышит вечность в щёку,
- и сладко мне к ее теплыни льнуть.
Лебедин мой
- Всё в лес хожу. Заел меня репей.
- Не разберусь с влюбленною колючкой:
- она ли мой, иль я ее трофей?
- Так и живу в губернии Калужской.
- Рыбак и я вдвоем в ночи сидим.
- Меж нами – рощи соловьев всенощных.
- И где-то: Лебедин мой, Лебедин —
- заводит наш невидимый сообщник.
- Костер внизу и свет в моём окне —
- в союзе тайном, в сговоре иль в споре.
- Что думает об этом вот огне
- тот простодушный, что погаснет вскоре?
- Живем себе, не ищем новостей.
- Но иногда и в нашем курослепе
- гостит язык пророчеств и страстей
- и льется кровь, как в Датском королевстве.
- В ту пятницу, какого-то числа —
- еще моя черемуха не смерклась —
- соотносили ласточек крыла
- глушь наших мест и странствий кругосветность.
- Но птичий вздор души не бередил
- мечтаньем о теплынях тридесятых.
- Возлюбим, Лебедин мой, Лебедин,
- прокорма убыль и снегов достаток.
- Да, в пятницу, чей приоткрытый вход
- в субботу – всё ж обидная препона
- перед субботой, весь честной народ
- с полдня искал веселья и приволья.
- Ладыжинский задиристый мужик,
- истопником служивший по соседству,
- еще не знал, как он непрочно жив
- вблизи субботы, подступившей к сердцу.
- Но как-то он скучал и тосковал.
- Ему не полегчало от аванса.
- Запасся камнем. Поманил: – Байкал! —
- Но не таков Байкал, чтоб отозваться.
- Уж он-то знает, как судьбы бежать.
- Всяк брат его – здесь мёртв или калека.
- И цел лишь тот, рожденный обожать,
- кто за версту обходит человека.
- Развитие событий торопя,
- во двор вошли знакомых два солдата,
- желая наточить два топора
- для плотницких намерений стройбата.
- К точильщику помчались. Мотоцикл —
- истопника, чей обречен затылок.
- Дождь моросил. А вот и магазин.
- Купили водки: дюжину бутылок.
- – Куда вам столько, черти? – говорю, —
- показывала утром продавщица.
- Ответили: – Чтоб матушку твою
- нам помянуть, а после похмелиться.
- Как воля весела и велика!
- Хоть и не всё меж ними ладно было.
- Истопнику любезная Ока
- для двух других – насильная чужбина.
- Он вдвое старше и умнее их —
- не потому, чтоб школа их учила
- по-разному, а просто истопник
- усмешливый и едкий был мужчина.
- Они – моложе вдвое и пьяней.
- Где видано, чтоб юность лебезила?
- Нелепое для пришлых их ушей,
- их раздражало имя Лебедина.
- В удушливом насупленном уме
- был заперт гнев и требовал исхода.
- О том, что оставалось на холме,
- два беглеца не думали нисколько.
- Как страшно им уберегать в лесах
- родимой жизни бедную непрочность.
- Что было в ней, чтоб так ее спасать
- в березовых, опасно-светлых рощах?
- Когда субботу к нам послал восток,
- с того холма, словно дымок ленивый,
- восплыл души невзрачный завиток
- и повисел недолго над Ладыгой.
- За сорок вёрст сыскался мотоцикл.
- Бег загнанный будет изловлен в среду.
- Хоть был нетрезв, кто топоры точил,
- возмездие шло по прямому следу.
- Мой свет горит. Костер внизу погас.
- Пусть скрип чернил над непросохшим словом,
- как хочет, так распутывает связь
- сюжета с непричастным рыболовом.
- Отпустим спать чужую жизнь. Один
- рассудок лампы бодрствует в тумане.
- Ответствуй, Лебедин мой, Лебедин,
- что нужно смерти в нашей глухомани?
- Печальный от любви и от вина,
- уж спрашивает кто-то у рассвета:
- – Где, Лебедин, лебёдушка твоя?
- Идут века. Даль за Окой светла.
- И никакого не слыхать ответа.
Палец на губах
- По улице крадусь. Кто бедный был Алферов,
- чьим именем она наречена? Молчи!
- Он не чета другим, замешанным в аферах,
- к владениям чужим крадущимся в ночи.
- Весь этот косогор был некогда кладбищем.
- Здесь Та хотела спать… ненадобно! Не то —
- опять возьмутся мстить местам, ее любившим.
- Тсс: палец на губах! – забылось, пронесло.
- Я летом здесь жила. К своей же тени в гости
- зачем мне не пойти? Колодец, здравствуй, брат.
- Алферов, будь он жив, не жил бы на погосте.
- Ах, не ему теперь гнушаться тем, что прах.
- А вот и дом чужой: дом-схимник, дом-изгнанник.
- Чердачный тусклый круг – его зрачок и взгляд.
- Дом заточен в себя, как выйти – он не знает.
- Но, как душа его, вокруг свободен сад.
- Сад падает в Оку обрывисто и узко.
- Но оглянулся сад и прянул вспять холма.
- Дом ринулся ко мне, из цепких стен рванулся —
- и мне к нму нельзя: забор, замок, зима.
- Дом, сад и я – втроём причастны тайне важной.
- Был тих и одинок наш общий летний труд.
- Я – в доме, дом – в саду, сад – в сырости овражной,
- вдыхала сырость я – и замыкался круг.
- Футляр, и медальон, и тайна в медальоне,
- и в тайне – тайна тайн, запретная для уст.
- Лишь смеркнется – всегда слетала к нам Тальони:
- то флоксов повисал прозрачно-пышный куст.
- Террасу на восход – оранжевым каким-то
- затмили полотном, усилившим зарю.
- У нас была игра: где потемней накидка? —
- смеялась я, – пойду калитку отворю.
- Пугались дом и сад. Я шла и отворяла
- калитку в нижний мир, где обитает тень, —
- чтоб видеть дом и сад из глубины оврага
- и больше ничего не видеть, не хотеть.
- Оранжевый, большой, по прозвищу: мещанский —
- волшебный абажур сиял что было сил.
- Чтобы террасы цвет был совершенно счастлив,
- оранжевый цветок ей сад преподносил.
- У нас – всегда игра, у яблони – работа.
- Знал беспризорный сад и знал бездомный дом,
- что дом – не для житья, что сад – не для оброка,
- что дом и сад – для слёз, для праведных трудов.
- Не ждали мы гостей, а наезжали если —
- дом лгал, что он – простак, сад начинал грустить
- и делал вид, что он печется о семействе
- и надобно ему идти плодоносить.
- Съезжали! – и тогда, как принято: от печки —
- пускались в пляс все мы и тени на стене.
- И были в эту ночь прилежны и беспечны
- мой закадычный стол и лампа на столе.
- Еще там был чердак. Пока не вовсе смерклось,
- дом, сад и я – на нём летали в даль, в поля.
- И белый парус плыл: то Бёховская церковь,
- чтоб нас перекрестить, через Оку плыла.
- Вот яблони труды завершены. Для зренья
- прелестны их плоды, но грустен тот язык,
- которым нам велят глухие ударенья
- с мгновеньем изжитым прощаться каждый миг.
- Тальони, дождь идет, как вам снести понурость?
- Пока овраг погряз в заботах о грибах,
- я книгу попрошу, чтоб Та сюда вернулась,
- чьи эти дом и сад… тсс: палец на губах.
- К делам других садов был сад не любопытен.
- Он в золото облек тот дом внутри со мной
- так прочно, как в предмет вцепляется эпитет.
- (В саду расцвел пример: вот шар, он – золотой.)
- К исходу сентября приехал наш хозяин,
- вернее, только их. Два ужаса дрожат,
- склоняясь перед тем, кто так и не узнает,
- какие дом и сад ему принадлежат.
- На дом и сад моя слеза не оглянулась.
- Давно пора домой. Но что это: домой?
- Вот почему средь всех на свете сущих улиц
- мне Ваша так мила, Алферов милый мой.
- Косится домосед: что здесь прохожим надо?
- Кто низко так глядит, как будто он горбат?
- То – я. Я ухожу от дома и от сада.
- Навряд ли я вернусь. Тсс: палец на губах…
Сиреневое блюдце
- Мозг занемог: весна. О воду капли бьются.
- У слабоумья есть застенчивый секрет:
- оно влюбилось в чушь раскрашенного блюдца,
- в юродивый узор, в уродицу сирень.
- Куст-увалень, холма одышливый вельможа,
- какой тебя вписал невежа садовод
- в глухую ночь мою и в тот, из Велегожа
- идущий, грубый свет над льдами окских вод?
- Нет, дальше, нет, темней. Сирень не о сирени
- со мною говорит. Бесхитростный фарфор
- про детский цвет полей, про лакомство сурепки
- навязывает мне насильно-кроткий вздор.
- В закрытые глаза – уездного музея
- вдруг смотрит натюрморт, чьи ожили цветы,
- и бабушки моей клубится бумазея,
- иль как зовут крыла старинной нищеты?
- О, если б лишь сирень! – я б вспомнила окраин
- сады, где посреди изгоев и кутил
- жил сбивчивый поэт, книгочий и архаик,
- себя нарекший в честь прославленных куртин.
- Где бедный мальчик спит над чудною могилой,
- не помня: навсегда или на миг уснул, —
- поэт Сиренев жил, цветущий и унылый,
- не принятый в журнал для письменных услуг.
- Он сразу мне сказал, что с этими и с теми
- людьми он крайне сух, что дни его придут:
- он станет знаменит, как крестное растенье.
- И улыбалась я: да будет так, мой друг.
- Он мне дарил сирень и множества сонетов,
- белели здесь и там их пышные венки.
- По вечерам – живей и проще жил Сиренев:
- красавицы садов его к Оке влекли.
- Но всё ж он был гордец и в споре неуступчив.
- Без славы – не желал он продолженья дней.
- Так жизнь моя текла, и с мальчиком уснувшим
- являлось сходство в ней всё ярче и грустней.
- Я съехала в снега, в те, что сейчас сгорели.
- Где терпит мой поэт влияния весны?
- Фарфоровый портрет веснушчатой сирени
- хочу я откупить иль выкрасть у казны.
- В моём окне висит планет тройное пламя.
- На блюдце роковом усталый чай остыл.
- Мне жаль твоих трудов, доверчивая лампа.
- Но, может, чем умней, тем бесполезней стих.
День-Рафаэль
Чабуа Амирэджиби
- Пришелец День, не стой на розовом холме!
- Не дай, чтобы заря твоим чертам грубила.
- Зачем ты снизошел к оврагам и ко мне?
- Я узнаю тебя. Ты родом из Урбино.
- День-Божество, ступай в Италию свою.
- У нас еще зима. У нас народ балует.
- Завистник и горбун, я на тебя смотрю,
- и край твоих одежд мой тайный гнев целует.
- Ах, мало оспы щёк и гнилости в груди,
- еще и кисть глупа и краски непослушны.
- День-Совершенство, сгинь! Прочь от греха уйди!
- Здесь за корсаж ножи всегда кладут пастушки.
- Но ласково глядел Богоподобный День.
- И брату брат сказал: «Брат досточтимый, здравствуй!»
- Престольный праздник трёх окрестных деревень
- впервые за века не завершился дракой.
- Неузнанным ушел День-Свет, День-Рафаэль.
- Но мертвый дуб расцвел средь ровныя долины.
- И благостный закат над нами розовел.
- И странники всю ночь крестились на руины.
Сад-всадник
За этот ад,
за этот бред
пошли мне сад
на старость лет.
Марина Цветаева
- Сад-всадник летит по отвесному склону.
- Какое сверканье и буря какая!
- В плаще его черном лицо мое скрою,
- к защите его старшинства приникая.
- Я помню, я знаю, что дело нечисто.
- Вовек не бывало столь позднего часа,
- в котором сквозь бурю он скачет и мчится,
- в котором сквозь бурю один уже мчался.
- Но что происходит? Кто мчится, кто скачет?
- Где конь отыскался для всадника сада?
- И нет никого, но приходится с каждым
- о том толковать, чего знать им не надо.
- Сад-всадник свои покидает угодья,
- и гриву коня в него ветер бросает.
- Одною рукою он держит поводья,
- другою мой страх на груди упасает.
- О сад-охранитель! Невиданно львиный
- чей хвост так разгневан? Чья блещет корона?
- – Не бойся! То – длинный туман над равниной,
- то – желтый заглавный огонь Ориона.
- Но слышу я голос насмешки всевластной:
- – Презренный младенец за пазухой отчей!
- Короткая гибель под царскою лаской —
- навечнее пагубы денной и нощной.
- О всадник родитель, дай тьмы и теплыни!
- Вернемся в отчизну обрыва-отшиба!
- С хвостом и в короне смеется: – Толпы ли,
- твои ли то речи, избранник-ошибка?
- Другим не бывает столь позднего часа.
- Он впору тебе. Уж не будет так поздно.
- Гнушаюсь тобою! Со мной не прощайся!
- Сад-всадник мне шепчет: – Не слушай, не бойся.
- Живую меня он приносит в обитель
- на тихой вершине отвесного склона.
- О сад мой, заботливый мой погубитель!
- Зачем от Царя мы бежали Лесного?
- Сад делает вид, что он – сад, а не всадник,
- что слово Лесного Царя отвратимо.
- И нет никого, но склоняюсь пред всяким:
- всё было дано, а судьбы не хватило.
- Сад дважды играет с обрывом родимым:
- с откоса в Оку, как пристало изгою,
- летит он ныряльщиком необратимым
- и увальнем вымокшим тащится в гору.
- Мы оба притворщики. Полночью черной,
- в завременье позднем, сад-всадник несется.
- Ребенок, Лесному Царю обреченный,
- да не убоится, да не упасется.
Смерть совы
- Кривая Нинка: нет зубов, нет глаза.
- При этом – зла. При этом… Боже мой,
- кем и за что наведена проказа
- на этот лик, на этот край глухой?
- С получки загуляют Нинка с братом —
- подробности я удержу в уме.
- Брат Нинку бьет. Он не рожден горбатым:
- отец был строг, век вековал в тюрьме.
- Теперь он, слышно, старичок степенный —
- да не пускают дети на порог.
- И то сказать: наш километр – сто первый.
- Злодеи мы. Нас не жалеет Бог.
- Вот не с получки было. В сени к Нинке
- сова внеслась. – Ты не коси, а вдарь!
- Ведром ее! Ей – смерть, а нам – поминки.
- На чучело художник купит тварь.
- И он купил. Я относила книгу
- художнику и у его дверей
- посторонилась, пропуская Нинку,
- и, как всегда, потупилась при ней.
- Не потому, что уродились розно, —
- наоборот, у нас судьба одна.
- Мне в жалостных чертах ее уродства
- видна моя погибель и вина.
- Вошла. Безумье вспомнило: когда-то
- мне этих глаз являлась нагота.
- В два нежных, в два безвыходных агата
- смерть Божества смотрела – но куда?
- Умеет так, без направленья взгляда,
- звезда смотреть, иль то, что ей сродни
- то, старшее, чему уже не надо
- гадать: в чём смысл? – отверстых тайн среди.
- Какой ценою ни искупим – вряд ли
- простит нас Тот, кто нарядил сову
- в дрожь карих радуг, в позолоту ряби,
- в беспомощную белизну свою.
- Очнулась я. Чтобы столиц приветы
- достигли нас, транзистор поднял крик.
- Зловещих лиц пригожие портреты
- повсюду улыбались вкось и вкривь.
- Успела я сказать пред расставаньем
- художнику: – Прощайте, милый мэтр.
- Но как вы здесь? Вам, с вашим рисованьем, —
- поблажка наш сто первый километр.
- Взамен зари – незнаемого цвета
- знак розовый помедлил и погас,
- словно вопрос, который ждал ответа,
- но не дождался и покинул нас.
- Жива ль звезда, я думала, что длится
- передо мною и вокруг меня?
- Или она, как доблестная птица,
- умеет быть прекрасна и мертва?
- Смерть: сени, двух уродов перебранка —
- но невредимы и горды черты.
- Брезгливости посмертная осанка —
- последний труд и подвиг красоты.
- В ночи трудился сотворитель чучел.
- К нему с усмешкой придвигался ад.
- Вопль возносился: то крушил и мучил
- сестру кривую синегорбый брат.
- То мыслью занимаюсь я, то ленью.
- Не время ль съехать в прежний неуют?
- Всё медлю я. Всё этот край жалею.
- Всё кажется, что здесь меня убьют.
Гребенников здесь жил…
Евгению Попову
- Гребенников здесь жил. Он был богач и плут,
- и километр ему не повредил сто первый.
- Два дома он имел, а пил, как люди пьют,
- хоть людям говорил, что оснащен «торпедой».
- Конечно, это он бахвалился, пугал.
- В беспамятстве он был холодным, дальновидным.
- Лафитник старый свой он называл: бокал —
- и свой же самогон именовал лафитом.
- Два дома, говорю, два сада он имел,
- два пчельника больших, два сильных огорода
- и всё – после тюрьмы. Болтают, что расстрел
- сперва ему светил, а отсидел три года.
- Он жил всегда один. Сберкнижки – тоже две.
- А главное – скопил характер знаменитый.
- Спал дома, а с утра ходил к одной вдове.
- И враждовал всю жизнь с сестрою Зинаидой.
- Месткомом звал ее и членом ДОСААФ.
- Она жила вдали, в юдоли оскуденья.
- Всё б ничего, но он, своих годков достав,
- боялся, что сестре пойдут его владенья.
- Пивная есть у нас. Ее зовут: метро,
- понятно, не за шик, за то – что подземелье.
- Гребенников туда захаживал. – «Ты кто?» —
- спросил он мужика, терпящего похмелье.
- Тот вспомнил: «Я – Петров». – «Ну, – говорит, – Петров,
- хоть в майке ты пришел, в рубашке ты родился.
- Ты тракторист?» – «А то!» – «Двудесять тракторов
- тебе преподношу». Петров не рассердился.
- «Ты лучше мне поставь». – «Придется потерпеть.
- Помру – тогда твои всемирные бокалы.
- Уж ты, брат, погудишь – в грядущем. А теперь
- подробно изложи твои инициалы».
- Петров иль не Петров – не в этом смысл и риск.
- Гребенников – в райцентр. Там выпил перед щами.
- «Где, – говорит, – юрист?» – «Вот, – говорят, – юрист». —
- «Юрист, могу ли я составить завещанье?» —
- «Извольте, если вы – в отчетливом уме.
- Нам нужен документ». – Гребенников всё понял.
- За паспортом пошел. Наведался к вдове.
- В одном из двух домов он быстротечно помер.
- И в двух его садах, и в двух его домах,
- в сберкнижках двух его – мы видим Зинаиду.
- Ведь даже в двух больших отчетливых умах
- такую не вместить ошибку и обиду.
- Гребенников с тех пор является на холм
- и смотрит на сады, где царствует сестрёнка.
- Уходит он всегда пред третьим петухом.
- Из смерти отпуск есть, не то, что из острога.
- Так люди говорят. Что было делать мне?
- Пошла я в те места. Туманностью особой
- Гребенников мерцал и брезжил на холме.
- Не скажешь, что он был столь видною персоной.
- «Зачем пришла?» – «Я к Вам имею интерес». —
- «Пошла бы ты отсель домой, литература.
- Вы обещали нам, что справедливость – есть?
- Тогда зачем вам – всё, а нам – прокуратура?
- Приехал к нам один писать про край отцов.
- Все дети их ему хоромы возводили.
- Я каторгой учён. Я видел подлецов.
- Но их в сырой земле ничем не наградили.
- Я слышал, как он врёт про лондонский туман.
- Потом привез комбайн. Ребятам, при начальстве,
- заметил: эта вещь вам всем не по умам.
- Но он опять соврал: распалась вещь на части». —
- «Гребенников, но я здесь вовсе ни при чём». —
- «Я знаю. Это ты гноила летом угол
- меж двух моих домов. Хотел я кирпичом
- собачку постращать, да после передумал». —
- Я летом здесь жила, но он уже был мёртв.
- «Вот то-то и оно, вот в том-то и досада, —
- ответил телепат. – Зачем брала ты мёд
- у Зинки, у врага, у члена ДОСААФа?
- Слышь, искупи вину. Там у меня в мешках
- хранится порошок. Он припасен для Зинки.
- Ты к ней на чай ходи и сыпь ей в чай мышьяк.
- Побольше дозу дай, а начинай – с дозинки». —
- «Гребенников, Вы что? Ведь Вы и так в аду?» —
- «Ну, и какая мне опасна перемена?
- Пойми, не деньги я всю жизнь имел в виду.
- Идея мне важна. Всё остальное – бренно».
- Он всё еще искал занятий и грехов.
- Наверно, скучно там, особенно сначала.
- Разрозненной в ночи ораве петухов
- единственным своим Пачёво отвечало.
- Хоть исподволь, спроста наш тихий край живет,
- событья есть у нас, привыкли мы к утратам.
- Сейчас волнует нас движенье полых вод,
- и тракторист Петров в них устремил свой трактор.
- Он агрегат любил за то, что – жгуче-синь.
- Раз он меня катал. Спаслись мы Высшей силой.
- Петров был неимущ. Мне жаль расстаться с ним.
- Пусть в Серпухов плывет его кораблик синий.
- Смерть пристально следит за нашей стороной.
- Закрыли вдруг «метро». Тоскует люд смиренный.
- То мыслит не как все, то держит за спиной
- придирчивый кастет наш километр сто первый.
- Читатель мой, прости. И где ты, милый друг?
- Что наших мест тебе печали и потехи?
- Но утешенье в том, что волен твой досуг.
- Ты детектив другой возьмешь в библиотеке.
Печали и шуточки: комната
- В ту комнату, где прошлою зимой
- я приютила первый день весенний,
- где мой царевич, оборотень мой,
- цвёл Ванька-мокрый, мокрый и воспетый…
- Он и теперь стоит передо мной,
- мой конфидент и пристальный ревнивец.
- Опять полузимой-полувесной
- над ним слова моей любви роились.
- Ах, Ванька мой, ты – все мои сады.
- Пусть мне простит твой добродушный гений,
- что есть другой друг сердца и судьбы:
- совсем другой, совсем не из растений.
- Его любовь одна пеклась о том,
- чтоб мне дожить до правильного срока,
- чтоб из Худфонда позвонили в дом,
- где снова я добра и одинока.
- Фамилии причудливой моей
- Наталия Ивановна не знала.
- Решила: из начальственных детей,
- должно быть, кто-то – не того ли зама,
- он, помнится, башкир, как, бишь, его?
- И то сказать: так башковит, так въедлив.
- Ах, дока зам! Не знал он ничего
- и ведомством своим давно не ведал.
- Так я втеснилась в стены и ковёр,
- которые мне были не по чину.
- В коротком отступлении кривом
- воздам хвалу опальному башкиру.
- Меня и ныне всякий здесь зовет
- лишь Белочкой иль Белкой не случайно.
- Кто я? Зато здесь знаменит зверёк,
- созвучье с ним дороже величанья.
- …В ту комнату, о коей разговор
- я начала по вольному влеченью,
- со временем вселился ревизор,
- уже по праву и по назначенью.
- Его приезда цель – важна весьма:
- беспечный медик пропил изолятор.
- Но комната уже была умна,
- и ум ее смешался и заплакал.
- Зачем ей медицинские весы
- и мысль о них? Не жаль ей аспирина.
- Она привыкла, чтобы в честь звезды
- я растворила кофе иль сварила.
- Я думала: несчастный человек!
- Он пропадет: решился он на что же?
- Ведь в то окно, что двух других левей,
- привнесено мое лицо ночное.
- А главное, восходное, окно!
- Покуда в нём главенствует Юпитер,
- что будет с бедным, посягает кто
- всего, что бренно, исчислять убыток?
- Не говорю про алый абажур
- настольной лампы! По слепому полю
- тащусь к нему, бывало, и бешусь:
- так и следит, так и зовет в неволю.
- Любая вещь – задиристый сосед
- и сладит с постояльцем оробелым.
- Шкаф с домовым – и тот не домосед
- и рвется прочь со скрипом корабельным.
- Но ревизор наружу выходил
- не часто и держался суверенно.
- Ключ повернув, он пил всегда один,
- что остальные знали достоверно.
- Не ведаю, он помышлял о чём,
- подверженный влиянью роковому.
- Но срок истёк. И вот какой отчёт
- районному он подал прокурору:
- «Похищены: весы, медикаменты
- и крыша зданья, но стропила целы.
- Вблизи комет несущихся – как мелки
- комедьи нищей ценности и цены.
- Итог растраты: восемь тысяч. Впрочем,
- нулю он равен при надземном свете.
- Весь уцелевший инвентарь испорчен,
- но смысл его преувеличен в смете.
- Числа не помню и не знаю часа.
- Налью цветку любезному водицы.
- Еще в окно мой дятел не стучался
- и не смеялся я в ответ: войдите!
- Но Сириус уже в заочность канул.
- Я возлюбил его огня осанку.
- Кто без греха – пусть в грех бросает камень.
- А я – прощаюсь. Подаю в отставку».
- Той комнаты ковёр и небосвод
- жильцов склоняют к бреду и восторгу.
- В ней с той поры начальство не живет.
- Я заняла соседнюю светёлку.
- А ревизор на самом деле пил
- один. Хищенья скромному герою
- суд не простил задумчивых стропил,
- таинственно не подпиравших кровлю.
- В ту комнату я больше не хожу.
- Но комната ко мне в ночи крадется.
- По ветхому второму этажу
- гуляет дрожь, пол бедствует и гнется.
- Люблю я дома маленькую жизнь,
- через овраг бредущую с кошёлкой.
- Вот наш пейзаж: пейзаж и пейзажист
- и солнце бьет в его этюдник желтый.
- Здесь нет других прохожих – всяк готов
- хоть как-нибудь изобразить округу.
- Махну рукой: счастливых вам трудов! —
- и улыбнемся ласково друг другу.
- Мы – ровня, и меж нами распри нет.
- Спаслись бы эти бедные равнины,
- когда бы лишь художник и поэт
- судьбу их беззащитную хранили.
- Отъезд мой скорый мне внушает грусть.
- Страдает заколдованный царевич.
- Мой ненаглядный, я еще вернусь.
- Ты под опекой солнца уцелеешь.
- Последней ласки просят у пера
- большие дни и вещи-попрошайки.
- Наталия Ивановна, пора!
- Душа моя, сердечный друг, прощайте.
«Воздух августа: плавность услад и услуг…»
- Воздух августа: плавность услад и услуг.
- Положенье души в убывающем лете
- схоже с каменным мальчиком, тем, что уснул
- грациозней, чем камни, и крепче, чем дети.
- Так ли спит, как сказала? Пойду и взгляну.
- Это близко. Но трудно колени и локти
- провести сквозь дрожащую в листьях луну,
- сквозь густые, как пруд, сквозь холодные флоксы.
- Имя слабо, но воля цветка такова,
- что навяжет мотив и нанижет подробность.
- Не забыть бы, куда я иду и когда,
- вперив нюх в самовластно взрослеющий образ.
- Сквозь растенья, сквозь хлёсткую чащу воды,
- принимая их в жабры, трудясь плавниками,
- продираюсь. Следы мои возле звезды
- на поверхности ночи взошли пузырьками.
Забытый мяч
- Забыли мяч (он досаждал мне летом).
- Оранжевый забыли мяч в саду.
- Он сразу стал сообщником календул
- и без труда втесался в их среду.
- Но как сошлись, как стройно потянулись
- друг к другу. День свой учредил зенит
- в календулах. Возможно, потому лишь,
- что мяч в саду оранжевый забыт.
- Вот осени причина, вот зацепка,
- чтоб на костре учить от тьмы до тьмы
- ослушников, отступников от цвета,
- чей абсолют забыт в саду детьми.
- Но этот сад! Чей пересуд зеленым
- его назвал? Он – поджигатель дач.
- Все хороши. Но первенство – за клёном,
- уж он-то ждал: когда забудут мяч.
- Попался на нехитрую приманку
- весь огнь земной. И, судя по всему,
- он обыграет скромную ремарку
- о том, что мяч был позабыт в саду.
- Давно со мной забытый мяч играет
- в то, что одна хожу среди осин,
- смотрю на мяч и нахожу огарок
- календулы. А вот еще один.
- Минувший полдень был на диво ясен
- и упростил неисчислимый быт
- до созерцанья важных обстоятельств:
- снег пал на сад и мяч в саду забыт.
«Я лишь объём, где обитает что-то…»
- Я лишь объём, где обитает что-то,
- чему малы земные имена.
- Сооруженье из костей и пота —
- его угодья, а не плоть моя.
- Его не знаю я: смысл-незнакомец,
- вселившийся в чужую конуру —
- хозяев выжить, прянуть в заоконность,
- не оглянуться, если я умру.
- О слово, о несказанное слово!
- Оно во мне качается смелей,
- чем я, в светопролитье небосклона,
- качаюсь дрожью листьев и ветвей.
- Каков окликнуть безымянность способ?
- Не выговорю и не говорю…
- Как слово звать – у словаря не спросишь,
- покуда сам не скажешь словарю.
- Мой притеснитель тайный и нетленный,
- ему в тисках известного – тесно.
- Я растекаюсь, становлюсь вселенной,
- мы с нею заодно, мы с ней – одно.
- Есть что-то. Слова нет. Но грозно кроткий
- исток его уже любовь исторг.
- Уж видно, как его грядущий контур
- вступается за братьев и сестёр.
- Как это всё темно, как бестолково.
- Кто брат кому и кто кому сестра?
- Всяк всякому. Когда приходит слово,
- оно не знает дальнего родства.
- Оно в уста целует бездыханность
- И вдох ответа – явен и велик.
- Лишь слово попирает бред и хаос
- и смертным о бессмертье говорит.
Звук указующий
- Звук указующий, десятый день
- я жду тебя на паршинской дороге.
- И снова жду под полною луной.
- Звук указующий, ты где-то здесь.
- Пади в отверстой раны плодородье.
- Зачем таишься и следишь за мной?
- Звук указующий, пусть велика
- моя вина, но велика и мука.
- И чей, как мой, тобою слух любим?
- Меня прощает полная луна.
- Но нет мне указующего звука.
- Нет звука мне. Зачем он прежде был?
- Ни с кем моей луной не поделюсь,
- да и она другого не полюбит.
- Жизнь замечает вдруг, что – пред-мертва.
- Звук указующий, я предаюсь
- игре с твоим отсутствием подлунным.
- Звук указующий, прости меня.
Ночь на тридцатое марта
- В ночь на тридцатый марта день я шла
- в пустых полях, при ветреной погоде.
- Свой дальний звук к себе звала душа,
- луну раздобывая в небосводе.
- В ночь полнолунья не было луны.
- Но где все мы и что случилось с нами
- в ночи, не обитаемой людьми,
- домишками, окошками, огнями?
- Зиянья неба, сумрачно обняв
- друг друга, ту являли безымянность,
- которая при людях и огнях
- условно мирозданьем называлась.
- Сквозило. Это ль спугивало звук?
- Четыре воли в поле, как известно.
- И жаворонки всплакивали вдруг
- в прозрачном сне – так нежно, так прелестно.
- Пошла назад, в ту сторону, в какой
- в кулисах тьмы событье созревало.
- Я занавес, повисший над Окой,
- в сокрытии луны подозревала.
- И, маленький, меня окликнул звук —
- живого неба воля и взаимность.
- И прыгнула, как из веков разлук,
- луна из туч и на меня воззрилась.
- Внизу, вдали, под полною луной
- алел огонь бесхитростного счастья:
- приманка лампы, возожженной мной,
- чтоб веселее было возвращаться.
«Зачем он ходит? Я люблю одна…»
- Зачем он ходит? Я люблю одна
- быть у луны на службе обожанья.
- Одною мной растрачена луна.
- Три дня назад она была большая.
- Ее размер не мною был взращен.
- Мы свиделись – она была огромна.
- Я неусыпным выпила зрачком
- треть совершенно полного объема.
- Я извела луну на пустяки.
- Беспечен ум, когда безумны ноги.
- Шесть километров вдоль одной строки:
- бег-бред ночной по паршинской дороге.
- Вчера бочком вошла в мое окно.
- Где часть ее – вдруг лучшая? Неужто
- всё это я? Не жёг другой никто
- ее всю ночь, не дожигал наутро.
- Боюсь узнать в апреля первый день,
- что станется с ее недавней статью.
- Так изнуряет издали злодей
- невинность черт к ним обращенной страстью.
- Он только смотрит – в церкви, на балу.
- Молитвенник иль веер упадает
- из дрожи рук. Не дав им на полу
- и миг побыть, ее жених страдает.
- Он смотрит, смотрит – сквозь отверстость стен,
- в кисейный мир, за возбраненный полог.
- В лик непорочный многознанья тень
- привнесена. Что с ней – она не помнит.
- Он смотрит. Как осунулось лицо.
- И как худа. В нём – холодок свободы.
- Вот жениху возвращено кольцо.
- Всё кончено. Ее везут на воды.
- Оплачу вкратце косвенный сюжет,
- наскучив им. Он к делу не пригоден.
- Я жду луну и завожу брегет.
- Зачем ко мне он все-таки приходит?
- – Кто к Вам приходит? И брегет при чём?
- – А Вы-то кто? Вас нет, и не пристало
- Вам задавать вопросы. Кто прочел
- заране то, чего не написала?
- Придуман мной лишь этот оппонент.
- Нет у меня загадок без разгадок.
- Живой и часто плачущий предмет —
- брегет – мне добрый подарил Рязанов.
- Приходит же… не бил ли он собак?
- Он пустомелит, я храню молчанье.
- Но пёс во мне, хоть принужден солгать,
- загривок дыбит и таит рычанье.
- О нет, не преступаю я границ
- приличья, но разросшийся вкруг сердца
- ветвистый самовластный организм
- не переносит этого соседства.
- Идет! Часов непрочный голосок
- берет он в руки. Бедный мой брегетик!
- Я надвигаю тучу на восток,
- чтоб он луны хотя бы не приметил.
- И падает, и гибнет мой брегет!
- Луны моей сообщник и помощник,
- он распевал всегда под лунный свет,
- он был – как я, такой же полуночник.
- Виновник так подавлен и смущен,
- что я ему прощаю незадачу.
- Удостоверясь, что сосед ушел,
- смеюсь над тем, как безутешно плачу.
- В запасе есть не певчие часы.
- Двенадцать ровно – и нисколько пенья.
- И нет луны, хоть небеса ясны.
- Как грубо шутит первый день апреля!
- Пускаюсь в путь обычный. Ход планет
- весь помещен над паршинской дорогой.
- В час пополуночи иду по ней,
- строки вот этой спутник одинокий.
- Вот здесь, при мне, живет мое «всегда».
- В нём погостить при жизни – редкий случай.
- Смотрю извне, как из небес звезда,
- на сей свой миг, еще живой и сущий.
- Так странен и торжествен этот путь,
- как будто он принадлжит чему-то
- запретному: дозволено взглянуть,
- но велено не разгласить под утро.
- Иду домой. Нимало нет луны.
- А что ж герой бессвязного рассказа?
- Здесь взгорбье есть. С него глаза длинны.
- Гость с комнатой моею не расстался.
- Вон мой огонь. Под ним – мои стихи.
- Вон силуэт читателя ночного.
- Он, значит, до какой дошел строки?
- Двенадцать было. Стало полвторого.
- Ау! Но Вы обидеться могли
- на мой ответ придвинутым планетам.
- Вас занимают выдумки мои?
- Но как смешно, что дело только в этом.
- Простите мне! Стихи всегда приврут.
- До тайн каких Вы ищете дознаться?
- Расстанемся, мой простодушный друг,
- в стихах – навек, а наяву – до завтра.
- Семь грустных дней безлунью моему.
- Брегет молчит. В природе – дождь и холод.
- И так темно, так боязно уму.
- А где сосед? Зачем он не приходит?
«Я встала в шесть часов. Виднелась тьма во тьме…»
- Я встала в шесть часов. Виднелась тьма во тьме:
- то темный день густел в редеющих темнотах.
- Проснулась я в слезах с Державиным в уме,
- в запутанных его и заспанных тенётах.
- То ль это мысль была невидимых светил
- и я поймала сон, ниспосланный кому-то?
- То ль Пушкин нас сводил, то ль сам он так шутил,
- то ль вспомнила о нём недальняя Калуга?
- Любовь к нему и грусть влекли меня с холма.
- Спешили петухи сообщничать иль спорить.
- Вставала в небесах Державину хвала,
- и целый день о нём мне предстояло помнить.
Луне от ревнивца
- Явилась, да не вся. Где пол твоей красы?
- Но ломаной твоей полушки полулунной
- ты мне не возвращай. Я – вор твоей казны,
- сокрывшийся в лесах меж Тулой и Калугой.
- Бессонницей моей тебя обобрала,
- всё золото твое в сусеках схоронившей,
- и месяца ждала, чтоб клянчить серебра:
- всегда он подавал моей ладони нищей.
- Всё так. Но внове мне твой нынешний ущерб.
- Как потрепал тебя соперник мой подлунный!
- В апреля третий день за Паршино ушед,
- чьей далее была вселенскою подругой?
- У нас – село, у вас – селение свое.
- Поселена везде, ты выбирать свободна.
- Что вечности твоей ничтожность дня сего?
- Наскучив быть всегда, пришла побыть сегодня?
- Где шла твоя гульба в семнадцати ночах?
- Не вздумай отвечать, что – в мирозданье где-то.
- Я тоже в нём. Но в нём мой драгоценен час:
- нет времени вникать в расплывчатость ответа.
- Без помощи моей кто свёл тебя на нет?
- Не лги про тень земли, иль как там по науке.
- Я не учёна лгать и округлю твой свет,
- чтоб стала ты полней, чем знает полнолунье.
- Коль скоро у тебя другой какой-то есть
- влюбленный ротозей и воздыхатель пылкий, —
- всё возверну тебе! Мне щедрости не счесть.
- Разгула моего будь скаредной копилкой.
- Коль жаждешь – пей до дна черничный сок зрачка
- и приторность чернил, к тебе подобострастных.
- Покуда я за край растраты не зашла,
- востребуй бытия пленительный остаток.
- Не поскупись – бери питанье от ума,
- пославшего тебе свой животворный лучик.
- Исчадие мое, тебя, моя луна,
- какой наследный взор в дар от меня получит?
- Кто в небо поглядит и примет за луну
- измыслие мое, в нём не поняв нимало?
- Осыплет простака мгновенное «люблю!»,
- которое в тебя всей жизнью врифмовала.
- Заранее смешно, что смертному зрачку
- дано через века разиню огорошить.
- Не для того ль тебя я рыщу и – ращу,
- как непомерный плод тщеславный огородник?
- Когда найду, что ты невиданно кругла, —
- за Паршино сошлю, в небесный свод заочный,
- и ввысь не посмотрю из моего угла.
- Прощай, моя луна! Будь вечной и всеобщей.
- И веки притворю, чтобы никто не знал
- о силе глаз, луну, словно слезу, исторгших.
- Мой бесконечный взгляд всё будет течь назад,
- на землю, где давно иссяк его источник.
Пашка
- Пять лет. Изнежен. Столько же запуган.
- Конфетами отравлен. Одинок.
- То зацелуют, то задвинут в угол.
- Побьют. Потом всплакнут: прости, сынок.
- Учён вину. Пьют: мамка, мамкин Дядя
- и бабкин Дядя – Жоржик-истопник.
- – А это что? – спросил, на книгу глядя.
- Был очарован: он не видел книг.
- Впадает бабка то в болезнь, то в лихость.
- Она, пожалуй, крепче прочих пьет.
- В Калуге мы, но вскрикивает Липецк
- из недр ее, коль песню запоет.
- Играть здесь не с кем. Разве лишь со мною.
- Кромешность пряток. Лампа ждет меня.
- Но что мне делать? Слушай: «Буря мглою…»
- Теперь садись. Пиши: эМ – А – эМ – А.
- Зачем всё это? Правильно ли? Надо ль?
- И так над Пашкой – небо, буря, мгла.
- Но как доверчив Пашка, как понятлив.
- Как грустно пишет он: эМ – А – эМ – А.
- Так мы сидим вдвоём на белом свете.
- Я – с черной тайной сердца и ума.
- О, для стихов покинутые дети!
- Нет мочи прочитать: эМ – А – эМ – А.
- Так утекают дни, с небес роняя
- разнообразье еженощных лун.
- Диковинная речь, ему родная,
- пленяет и меняет Пашкин ум.
- Меня повсюду Пашка ждет и рыщет.
- И кличет Белкой, хоть ни разу он
- не виделся с моею тёзкой рыжей:
- здесь род ее прилежно истреблен.
- Как, впрочем, все собаки. Добрый Пашка
- не раз оплакал лютую их смерть.
- Вообще, наш люд настроен рукопашно,
- хоть и живет смиренных далей средь.
- Вчера: писала. Лишь заслышав: Белка! —
- я резво, как одноименный зверь,
- своей проворной подлости робея,
- со стула – прыг и спряталась за дверь.
- Значенье пряток сразу же постигший,
- я этот взгляд воспомню в крайний час.
- В щель поместился старший и простивший,
- скорбь всех детей вобравший, Пашкин глаз.
- Пустился Пашка в горький путь обратный.
- Вослед ему всё воинство ушло.
- Шли: ямб, хорей, анапест, амфибрахий
- и с ними дактиль. Что там есть еще?
Пачёвский мой
- – Скучаете в своей глуши? – Возможно ль
- занятьем скушным называть апрель?
- Всё сущее, свой вид и род возмножив,
- с утра в трудах, как дружная артель.
- Изменник-ум твердит: «Весной я болен», —
- а сам здоров, и всё ему смешно,
- когда иду подглядывать за полем:
- что за ночь в нём произошло-взошло.
- Во всякий день – новёхонький, почетный
- гость маленький выходит из земли.
- И, как всегда, мой верный, мой Пачёвский,
- лишь рассветет – появится из мглы.
- – Он, что же, граф? Должно быть, из поляков?
- – Нет, здешний он, и мной за то любим,
- что до ничтожных титулов не лаком,
- хотя уж он-то – не простолюдин.
- – Из столбовых дворян? – Вот это ближе. —
- Так весел мой и непомерен смех:
- не нагляжусь сквозь брызнувшие блики
- на белый мой, на семицветный свет.
- – Он, видите ли… не могу! – Да полно
- смеяться Вам. Пачёвский – кто такой?
- – Изгой и вместе седержитель поля,
- он вхож и в небо. Он – Пачёвский мой.
- – Но кто же он? Ваши слова окольны.
- Не так уж здрав Ваш бедный ум весной.
- – Да Вы-то кто? Зачем так бестолковы?
- А вот и сам он – столб Пачёвский мой.
- Так много раз, что сбились мы со счёта,
- мой промельк в поле он имел в виду.
- Коль повелит – я поверну в Пачёво.
- Пропустит если – в Паршино иду.
- Особенно зимою, при метели,
- люблю его заполучить привет,
- иль в час, когда две наших сирых тени
- в союз печальный сводит лунный свет.
- Чтоб вдруг не смыл меня прибой вселенной
- (здесь крут обрыв, с которого легко
- упасть в созвездья), мой Пачёвский верный
- ниспослан мне, и время продлено.
- Строки моей потатчик и попутчик,
- к нему приникших пауз властелин,
- он ждет меня, и бездна не получит
- меня, покуда мы вдвоём стоим.
«Мне Звёздкин говорил, что он в меня влюблен…»
- Мне Звёздкин говорил, что он в меня влюблен.
- Он так и полагал, поскольку люто-свежий
- к нам вечер шел с Оки. А всё же это он
- мне веточку принес черемухи расцветшей.
- В Ладыжине, куда он по вино ходил,
- чтобы ослабить мысль любви неразделенной,
- черемухи цветок, пока еще один,
- очнулся и глядел на белый свет зеленый.
- За то и сорван был, что прежде всех расцвел,
- с кем словно не в родстве, а в сдержанном соседстве.
- Зачем чужой любви сторонний произвол
- летает мимо нас, но уязвляет сердце?
- Уехал Звёздкин вдруг, единственный этюд
- не дописав. В сердцах порвал его – и ладно.
- Он, говорят, – талант, а таковые – пьют.
- Лишь гений здрав и трезв, хоть и не чужд таланта.
- Со Звёздкиным едва ль мы свидимся в Москве.
- Как робкая душа погибшего этюда —
- таинственный цветок белеет в темноте
- и Звёздкину вослед еще глядит отсюда.
- Власть веточки моей в ночи так велика,
- так зрим печальный чад. И на исходе суток
- содеян воздух весь энергией цветка,
- и что мои слова, как не его поступок?
Ночь на 30-е апреля
- Брат-комната, где я была – не спрашивай.
- Ведь лунный свет – уже не этот свет.
- Не в Паршино хожу дорогой паршинской,
- а в те места, каким названья нет.
- Там у земли всё небесами отнято.
- Допущенного в их разъятый свод
- охватывает дрожь чужого опыта:
- он – робкий гость своих посмертных снов.
- Вблизи звезда сияет неотступная,
- и нет значений мельче, чем звезда.
- Смущенный зритель своего отсутствия
- боится быть не нынче, а всегда.
- Не хочет плоть живучая, лукавая
- про вечность знать и просится домой.
- Беда моя, любовь моя, луна моя,
- дай дотянуть до бренности дневной.
- Мне хочется простейшего какого-то
- нравоученья вещи и числа:
- вот это, дескать, лампа, это – комната.
- Тридцатый день апреля: два часа.
- Но ничему не верит ум испуганный
- и малых величин не узнаёт.
- Луна моя, зачем втесняешь в угол мой
- свои пожитки: ночь и небосвод?
Суббота в Тарусе
- Так дружно весна начиналась: все други
- дружины вступили в сады-огороды.
- Но, им для острастки и нам для науки,
- сдружились суровые силы природы.
- Апрель, благодетельный к сирым и нищим,
- явился южанином и инородцем.
- Но мы попривыкли к зиме и не ищем
- потачки его. Обойдемся норд-остом.
- Снега, отступив, нам прибавили славы.
- Вот – землечерпалка со дна половодья
- взошла, чтоб возглавить величие свалки,
- насущной, поскольку субботник сегодня.
- Но сколько же ярко цветущих коррозий,
- диковинной, миром не знаемой, гнили
- смогли мы содеять за век наш короткий,
- чтоб наши наследники нас не забыли.
- Субботник шатается, песню поющий.
- Приёмник нас хвалит за наши свершенья.
- При лютой погоде нам будет сподручней
- приветить друг в друге черты вырожденья.
- А вдруг нам откликнутся силы взаимны
- пространства, что смотрит на нас обреченно?
- Субботник окончен. Суббота – в зените.
- В Тарусу я следую через Пачёво.
- Но всё же какие-то русские печи
- радеют о пище, исходят дымами.
- Еще из юдоли не выпрягли плечи
- пачёвские бабки: две Нюры, две Мани.
- За бабок пачёвских, за эти избушки,
- за кладни, за желто-прозрачную иву
- кто просит невидимый: о, не забудь же! —
- неужто отымут и это, что иму?
- Деревня – в соседях с нагрянувшей дурью
- захватчиков неприкасаемой выси.
- Что им-то неймется? В субботу худую
- напрасно они из укрытия вышли.
- Буксуют в грязи попиратели неба.
- Мои сапоги достигают Тарусы.
- С Оки задувает угрозою снега.
- Грозу предрекают пивной златоусты.
- Сбывается та и другая растрата
- небесного гнева. Знать, так нам и надо.
- При снеге, под блеск грозового разряда,
- в «Оке», в заведенье второго разряда,
- гуляет электрик шестого разряда.
- И нет меж событьями сими разлада.
- Всем путникам плохо, и плохо рессорам.
- А нам – хорошо перекинуться словом
- в «Оке», где камин на стене нарисован,
- в камин же – огонь возожженный врисован.
- В огне дожигает последок зарплаты
- Василий, шестого разряда электрик.
- Сокроюсь, коллеги и лауреаты,
- в содружество с ним, в просторечье элегий.
- Подале от вас! Но становится гулок
- субботы разгул. Поищу-ка спасенья.
- Вот этот овраг назывался: Игумнов.
- Руины над ним – это храм Воскресенья.
- Где мальчик заснул знаменитый и бедный
- нежнее, чем камни, и крепче, чем дети,
- пошли мне, о Ты, на кресте убиенный,
- надежду на близость Пасхальной недели.
- В Алексин иль в Серпухов двинется если
- какой-нибудь странник и после вернется,
- к нам тайная весть донесется: Воскресе!
- – Воистину! – скажем. Так всё обойдется.
Друг столб
Георгию Владимову
- В апреля неделю худую, вторую,
- такою тоскою с Оки задувает.
- Пойду-ка я через Пачёво в Тарусу.
- Там нынче субботу народ затевает.
- Вот столб, возглавляющий путь на Пачёво.
- Балетным двуножьем упершийся в поле,
- он стройно стоит, помышляя о чём-то,
- что выше столбам уготованной роли.
- Воспет не однажды избранник мой давний,
- хождений моих соглядатай заядлый.
- Моих со столбом мимолетных свиданий
- довольно для денных и нощных занятий.
- Все вёрсты мои сосчитал он и звёзды
- вдоль этой дороги, то вьюжной, то пыльной.
- Друг столб, половина изъята из вёрстки
- метелей моих при тебе и теплыней.
- О том не кручинюсь. Я просто кручинюсь.
- И коль не в Тарусу – куда себя дену?
- Какой-то я новой тоске научилась
- в худую вторую апреля неделю.
- И что это – вёрстка? В печальной округе
- нелепа обмолвка заумных угодий.
- Друг столб, погляди, мои прочие други —
- вон в той стороне, куда солнце уходит.
- Последнего вскоре, при аэродроме,
- в объятье на миг у судьбы уворую.
- Все силы устали, все жилы продрогли.
- Под клики субботы вступаю в Тарусу.
- Всё это, что жадно воспомню я после,
- заране известно столбу-конфиденту.
- Сквозь слёзы смотрю на пачёвское поле,
- на жизнь, что продлилась еще на неделю.
- Уж Сириус возголубел над долиной.
- Друг столб о моём возвращенье печется.
- Я, в радости тайной и неодолимой,
- иду из Тарусы, миную Пачёво.
«Как много у маленькой музыки этой…»
- Как много у маленькой музыки этой
- завистников: все так и ждут, чтоб ушла.
- Теснит ее сборища гомон несметный
- и поедом ест приживалка нужда.
- С ней в тяжбе о детях сокрытая мука —
- виновной души неусыпная тень.
- Ревнивая воля пугливого звука
- дичится обобранных ею детей.
- Звук хочет, чтоб вовсе был узок и скуден
- сообщников круг: только стол и огонь
- настольный. При нём и собака тоскует,
- мешает, затылок суёт под ладонь.
- Гнев маленькой музыки, загнанной в нети,
- отлучки ее бытию не простит.
- Опасен свободно гуляющий в небе
- упущенный и неприкаянный стих.
- Но где все обидчики музыки этой,
- поправшей величье житейских музык?
- Наивный соперник ее безответный,
- укройся в укрытье, в изгои изыдь.
- Для музыки этой возможных нашествий
- возлюбленный путник пускается в путь.
- Спроважен и малый ребенок, нашедший
- цветок, на который не смею взглянуть.
- О путнике милом заплакать попробуй,
- попробуй цветка у себя не отнять —
- изведаешь маленькой музыки робкой
- острастку, и некому будет пенять.
- Чтоб музыке было являться удобней,
- в чужом я себя заточила дому.
- Я так одинока средь сирых угодий,
- как будто не есмь, а мерещусь уму.
- Черемухе быстротекущей внимая,
- особенно знаю, как жизнь непрочна.
- Но маленькой музыке этого мало:
- всех прочь прогнала, а сама не пришла.
Смерть Французова
- Вот было что со мной, что было не со мною:
- черемуха всю ночь в горячке и бреду.
- Сказала я стихам, что я от них сокрою
- больной ее язык, пророчащий беду.
- Красавице моей, терзаемой ознобом,
- неможется давно, округа ей тесна.
- Весь воздух небольшой удушливо настоян
- на доводе, что жизнь – канун небытия.
- Черемухи к утру стал разговор безумен.
- Вдруг слышу: голоса судачат у окна.
- – Эй, – говорю, – вы что? – Да вот, Французов умер.
- Веселый вроде был, а не допил вина.
- Французов был маляр. Но он, определенно,
- воспроизвел в себе бравурные черты
- заблудшего в снегах пришельца жантильома,
- побывшего в плену калужской простоты.
- Товарищей его дразнило, что Французов
- плодовому вину предпочитал коньяк.
- Остаток коньяка плеснув себе в рассудок,
- послали за вином: поминки как-никак.
- Никто не горевал. Лишь паршинская Маша
- сказала мне потом: – Жалкую я о нём.
- Всё Пасхи, бедный, ждал. Твердил, что участь наша
- продлится в небесах, – и сжёг себя вином.
- Французов был всегда настроен супротивно.
- Чужак и острослов, он вытеснен отсель.
- Летит его душа вдоль слабого пунктира
- поверх калужских рощ куда-нибудь в Марсель.
- Увозят нищий гроб. Жена не захотела
- приехать и простить покойнику грехи.
- Черемуха моя еще не облетела.
- Иду в ее овраг, не дописав стихи.
Цветений очерёдность
- Я помню, как с небес день тридцать первый марта,
- весь розовый, сошел. Но, чтобы не соврать,
- добавлю: в нём была глубокая помарка —
- то мраком исходил ладыжинский овраг.
- Вдруг синий-синий цвет, как если бы поэта
- счастливые слова оврагу удались,
- явился и сказал, что медуница эта
- пришла в обгон не столь проворных медуниц.
- Я долго на нее смотрела с обожаньем.
- Кто милому цветку хвалы не воздавал
- за то, что синий цвет им трижды обнажаем:
- он совершенно синь, но он лилов и ал.
- Что медунице люб соблазн зари ненастной
- над Паршином, когда в нём завтра ждут дождя,
- заметил и словарь, назвав ее «неясной»:
- окрест, а не на нас глядит ее душа.
- Конечно, прежде всех мать-мачеха явилась.
- И вот уже прострел, забрав себе права
- глагола своего, не промахнулся – вырос
- для цели забытья, ведь это – сон-трава.
- А далее пошло: пролесники, пролески,
- и ветреницы хлад, и поцелуйный яд —
- всех ветрениц земных за то, что так прелестны,
- отравленные ей, уста благословят.
- Так провожала я цветений очерёдность,
- но знала: главный хмель покуда не почат.
- Два года я ждала Ладыжинских черемух.
- Ужель опять вдохну их сумасходный чад?
- На этот раз весна испытывать терпенья
- не стала – все долги с разбегу раздала,
- и раньше, чем всегда: тридцатого апреля —
- черемуха по всей округе расцвела.
- То с нею в дом бегу, то к ней бегу из дома —
- и разум поврежден движеньем круговым.
- Уже неделя ей. Но – дрёма, но – истома,
- и я не объяснюсь с растеньем роковым.
- Зачем мне так грустны черемухи наитья?
- Дыхание ее под утро я приму
- за вкрадчивый привет от важного событья,
- с чьим именем играть возбранено перу.
Скончание черемухи – 1
- Тринадцатый с тобой я встретила восход.
- В затылке тяжела твоих внушений залежь.
- Но что тебе во мне, влиятельный цветок,
- и не ошибся ль ты, что так меня терзаешь?
- В твой задушевный яд – хлад зауми моей
- влюбился и впился, и этому-то делу
- покорно предаюсь подряд тринадцать дней
- и мысль не укорю, что растеклась по древу.
- Пришелец дверь мою не смог бы отворить,
- принявши надых твой за супротивный бицепс.
- И незачем входить! Здесь – круча и обрыв.
- Пришелец, отступись! Обрыв и сердце, сблизьтесь!
- Черемуха, твою тринадцатую ночь
- навряд ли я снесу. Мой ум тобою занят.
- Былой приспешник мой, он мог бы мне помочь,
- но весь ушел к тебе и грамоте не знает.
- Чем прихожусь тебе, растенье-нелюдим?
- Округой округлясь, мои простёрты руки.
- Кто раболепным был урочищем твоим,
- как я или овраг, – тот сведущ в этой муке.
- Ты причиняешь боль, но не умеет боль
- в овраге обитать, и вот она уходит.
- Беспамятный объем, наполненный тобой,
- я надобна тебе, как часть твоих угодий.
- Благодарю тебя за странный мой удел —
- быть контуром твоим, облекшим неизвестность,
- подробность опустить, что – родом из людей,
- и обитать в ночи, как местность и окрестность.
«Быть по сему: оставьте мне…»
- Быть по сему: оставьте мне
- закат вот этот за-калужский,
- и этот лютик золотушный,
- и этот город захолустный
- пучины схлынувшей на дне.
- Нам преподносит известняк,
- придавший местности осанки,
- стихии внятные останки,
- и как бы у ее изнанки
- мы все нечаянно в гостях.
- В блеск перламутровых корост
- тысячелетия рядились,
- и жабры жадные трудились,
- и обитала нелюдимость
- вот здесь, где площадь и киоск.
- Не потому ли на Оке
- иные бытия расценки,
- что все мы сведущи в рецепте:
- как, коротая век в райцентре,
- быть с вечностью накоротке.
- Мы одиноки меж людьми.
- Надменно наше захуданье.
- Вы – в этом времени, мы – дале.
- Мы утонули в мирозданье
- давно, до Ноевой ладьи.
Скончание черемухи – 2
- Еще и обещанья не давала,
- что расцветет, была дотла черна,
- еще стояла у ее оврага
- разлившейся Оки величина.
- А я уже о будущем скучала
- как о былом и говорила так:
- на этот раз черемухи скончанья
- я не снесу, ладыжинский овраг.
- Я не снесу, я боле не умею
- сносить разлуку и глядеть вослед,
- ссылая в бесконечную аллею
- всего, что есть, любимый силуэт.
- Она пришла – и сразу затворилось
- объятье обоюдной западни.
- Перемешалась выдохов взаимность,
- их общий чад перенасытил дни.
- Пятнадцать дней черемухову игу.
- Мешает лбу расширенный зрачок.
- И, если вдруг из комнаты я выйду,
- потупится, кто этот взор прочтет.
- Дремотою круженья и качанья
- не усыпить докучливой строки:
- я не снесу черемухи скончанья —
- и довода: тогда свое стерпи.
- Я и терплю. Черемухи настоем
- питаем пульс отверстого виска.
- Она – мой бред. Но мы друг друга стоим:
- и я – бредовый вымысел цветка.
- Само решит творительное зелье,
- какую волю навязать уму.
- Но если он – безвольное изделье
- насильных чар, – так больно почему?
- Я не снесу черемухи скончанья, —
- еще твержу, но и его снесла.
- Сколь многих я пережила случайно.
- Нет, знаю я: так говорить нельзя.
«Отселева за тридевять земель…»
Андрею Битову
- Отселева за тридевять земель
- кто окольцует вольное скитанье
- ночного сна? Наш деревенский хмель
- всегда грустит о море-окияне.
- Немудрено. Не так уж мы бедны:
- когда весны событья утрясутся,
- вокруг Тарусы явственно видны
- отметины Нептунова трезубца.
- Наш опыт старше младости земной.
- Из чуд морских содеяны каменья.
- Глаз голубой над кружкою пивной
- из дальних бездн глядит высокомерно.
- Вселенная – не где-нибудь, вся – тут.
- Что достается прочим зреньям, если
- ночь напролёт Юпитер и Сатурн
- пекутся о занесшемся уезде.
- Что им до нас? Они пришли не к нам.
- Им недосуг разглядывать подробность.
- Они всесущий видят океан
- и волн всепоглощающих огромность.
- Несметные проносятся валы.
- Плавник одолевает время оно,
- и голову подъемлет из воды
- всё то, что вскоре станет земноводно.
- Лишь рассветет – приокской простоте
- тритон заблудший попадется в сети.
- След раковины в гробовой плите
- уводит мысль куда-то дальше смерти.
- Хоть здесь растет – нездешнею тоской
- клонима многознающая ива.
- Но этих мест владычицы морской
- на этот раз не назову я имя.
29-й день февраля
- Тот лишний день, который нам дается,
- как полагают люди, не к добру, —
- но люди спят, – еще до дня, до солнца,
- к добру иль нет, я этот день – беру.
- Не сообщает сведений надземность,
- но день – уж дан, и шесть часов ему.
- Расклада високосного чрезмерность
- я за продленье бытия приму.
- Иду в тайник и средоточье мрака,
- где в крайний час, когда рассвет незрим,
- я дале всех от завтрашнего марта
- и от всего, что следует за ним.
- Я мешкаю в ладыжинском овраге
- и в домысле: расход моих чернил,
- к нему пристрастных, не строку бумаге,
- а вклад в рельеф округе причинил.
- К метафорам усмешлив мой избранник.
- Играть со мною недосуг ему.
- Округлый склон оврагом – рвано ранен.
- Он придан месту, словно мысль уму.
- Замечу: не из-за моих писаний
- он знаменит. Всеопытный народ
- насквозь торил путь простодушный самый
- отсель в Ладыгу и наоборот.
- Сердешный мой, неутолимый гений!
- В своей тоске, но по твоим следам,
- влекусь тропою вековых хождений,
- и нет другой, чтоб разминуться нам.
- От вас, овраг осиливших с котомкой,
- услышала, при быстрой влаге глаз:
- – Мы все читали твой стишок. – Который? —
- – Да твой стишок, там про овраг, про нас.
- Чем и горжусь. Но не в самом овраге.
- Паденья миг меня доставит вниз.
- Эй, эй! Помене гордости и влаги.
- Посуше будь, всё то, что меж ресниц.
- Люблю оврага образ и устройство.
- Сорвемся с кручи, вольная строка!
- Внизу – помедлим. Восходить – не просто.
- Подумаем на темном дне стиха.
- Нам повезло, что не был лоб расшиблен
- о дерево. Он пригодится нам.
- Зрачок – приметлив, хладен, не расширен.
- Вверху – светает. Точка – тоже там.
- Я шла в овраг. Давно ли это было?
- До этих слов, до солнца и до дня.
- Я выбираюсь. На краю обрыва
- готовый день стоит и ждёт меня.
- Успею ль до полуночного часа
- узнать: чем заплачу календарю
- за лишний день? за непомерность счастья?
- Я всё это беру? иль отдаю?
«Дорога на Паршино, дале – к Тарусе…»
- Дорога на Паршино, дале – к Тарусе,
- но я возвращаюсь вспять ветра и звёзд.
- Движенье мое прижилось в этом русле
- длиною – туда и обратно – в шесть вёрст.
- Шесть множим на столько, что ровно несметность
- получим. И этот туманный итог
- вернём очертаньям, составившим местность
- в канун ее паводков и поволок.
- Мой ход непрерывен, я – словно теченье,
- чей долг – подневольно влачиться вперед.
- Небес близлежащих ночное значенье
- мою протяженность питает и пьет.
- Я – свойство дороги, черта и подробность.
- Зачем сочинитель ее жития
- всё гонит и гонит мой робкий прообраз
- в сюжет, что прочней и пространней, чем я?
- Близ Паршина и поворота к Тарусе
- откуда мне знать, сколько минуло лет?
- Текущее вверх, в изначальное устье,
- всё странствие длится, а странника – нет.
Шум тишины
- Преодолима с Паршином разлука
- мечтой ума и соучастьем ног.
- Для ловли необщительного звука
- искомого – я там держу силок.
- Мне следовало в комнате остаться —
- и в ней есть для добычи западня.
- Но рознь была занятием пространства,
- и мысль об этом увлекла меня.
- Я шла туда, где разворот простора
- наивелик. И вот он был каков:
- замкнув меня, как сжатие острога, сцепились интересы сквозняков.
- Заокский воин поднял меч весенний.
- Ответный норд призвал на помощь ост.
- Вдобавок задувало из вселенной.
- (Ужасней прочих этот ветер звёзд.)
- Не пропадать же в схватке исполинов!
- Я – из людей, и отпустите прочь.
- Но мелкий сброд незримых, неповинных
- в делах ее – не занимает ночь.
- С избытком мне хватало недознанья.
- Я просто шла, чтобы услышать звук,
- я не бросалась в прорубь мирозданья,
- да зданье ли – весь этот бред вокруг?
- Ни шевельнуться, ни дохнуть – нет мочи,
- Кто рядом был? Чьи мне слова слышны?
- – Шум тишины – вот содержанье ночи…
- Шум тишины… – и вновь: шум тишины…
- И только-то? За этим ли трофеем
- я шла в разлад и разнобой весны,
- в разъятый ад, проведанный Орфеем?
- Как нежно он сказал: шум тишины…
- Шум тишины стоял в открытом поле.
- На воздух – воздух шел, и тьма на тьму.
- Четыре сильных кругосветных воли
- делили ночь по праву своему.
- Я в дом вернулась. Ахнули соседи:
- – Где были вы? Что там, где были вы?
- – Шум тишины главенствует на свете.
- Близ Паршина была. Там спать легли.
- Бессмыслица, нескладица, мне – долго
- любить тебя. Но веки тяжелы.
- Шум тишины… сон подступает… только
- шум тишины… шум только тишины…
«Люблю ночные промедленья…»
- Люблю ночные промедленья
- за озорство и благодать:
- совсем не знать стихотворенья,
- какое утром буду знать.
- Где сиро обитают строки,
- которым завтра улыбнусь,
- когда на паршинской дороге
- себе прочту их наизусть?
- Лишь рассветет – опять забрезжу
- в пустых полях зимы-весны.
- К тому, как я бубню и брежу,
- привыкли дважды три версты.
- Внутри, на полпути мотива,
- я встречу, как заведено,
- мой столб, воспетый столь ретиво,
- что и ему, и мне смешно.
- В Пачёво ль милое задвинусь
- иль столб миную напрямик,
- мне сладостно ловить взаимность
- всего, что вижу в этот миг.
- Коль похвалю себя – дорога
- довольна тоже, ей видней,
- в чём смысл, еще до слов, до срока:
- ведь всё это на ней, о ней.
- Коль вдруг запинкою терзаюсь,
- ее подарок мне готов:
- всё сбудется! Незримый заяц
- всё ж есть в конце своих следов.
- Дорога пролегла в природе
- мудрей, чем проложили вы:
- всё то, при чьем была восходе,
- заходит вдоль ее канвы.
- Небес запретною загадкой
- сопровождаем этот путь.
- И Сириус быстрозакатный
- не может никуда свернуть.
- Я в ней – строка, она – страница.
- И мой, и надо мною ход —
- всё это к Паршину стремится,
- потом за Паршино зайдет.
- И даже если оплошаю,
- она простит, в ней гнева нет.
- В ночи хожу и вопрошаю,
- а утром приношу ответ.
- Рассудит алое-иссиня,
- зачем я озирала тьму:
- то ль плохо небо я спросила,
- то ль мне ответ не по уму.
- Быть может, выпадет мне милость:
- равнины прояснится вид
- и всё, чему в ночи молилась,
- усталый лоб благословит.
Посвящение
- Всё этот голос, этот голос странный.
- Сама не знаю: праведен ли трюк —
- так управлять трудолюбивой раной
- (она не любит втайне этот труд),
- и видеть бледность девочки румяной,
- и брать из рук цветы и трепет рук,
- и разбирать их в старомодной ванной, —
- на этот раз ты сетовал, мой друг,
- что, завладев всей данной нам водою,
- плыла сирень купальщицей младою.
- Взойти на сцену – выйти из тетради.
- Но я сирень без памяти люблю,
- тем более – в Санкт-белонощном граде
- и Невского проспекта на углу
- с той улицей, чье утаю названье:
- в которой я гостинице жила —
- зачем вам знать? Я говорю не с вами,
- а с тем, кого я на углу ждала.
- Ждать на углу? Возможно ли? О, доле
- ждала бы я, но он приходит в срок —
- иначе б линий, важных для ладони,
- истерся смысл и срок давно истек.
- Не любит он туманных посвящений,
- и я уступку сделаю молве,
- чтоб следопыту не ходить с ищейкой
- вдоль этих строк, что приведут к Неве.
- Речь – о любви. Какое же герою
- мне имя дать? Вот наименьший риск:
- чем нарекать, я попросту не скрою
- (не от него ж скрывать), что он – Борис.
- О, поводырь моей повадки робкой!
- Как больно, что раздвоены мосты.
- В ночи – пусть самой белой и короткой —
- вот я, и вот Нева, а где же ты?
- Глаз, захворав, дичится и боится
- заплакать. Мост – раз – ъ – единен. Прощай.
- На острове Васильевском больница
- сто лет стоит. Ее сосед – причал.
- Скажу заране: в байковом наряде
- я приживусь к больничному двору
- и никуда не выйду из тетради,
- которую тебе, мой друг, дарю.
- Взойти на сцену? Что это за вздор?
- В окно смотрю я на больничный двор.
«Ровно полночь, а ночь пребывает в изгоях…»
Олегу Грушникову
- Ровно полночь, а ночь пребывает в изгоях.
- Тот пробел, где была, всё собой обволок.
- Этот бледный, как обморок, выдумка-город —
- не изделье Петрово, а бредни болот.
- Да и есть ли он впрямь? Иль для тайного дела
- ускользнул из гранитной своей чешуи?
- Это – бегство души из обузного тела
- вдоль воздетых мостов, вдоль колонн тишины.
- Если нет его рядом – мне ведомо, где он.
- Он тайком на свидание с теми спешит,
- чьим дыханием весь его воздух содеян,
- чей удел многоскорбен, а гений смешлив.
- Он без них – убиенного рыцаря латы.
- Просто благовоспитан, не то бы давно
- бросил оземь всё то, что подъемлют атланты,
- и зарю заодно, чтобы стало темно.
- Так и сделал бы, если б надежды и вести
- не имел, что, когда разбредется наш сброд,
- все они соберутся в условленном месте.
- Город знает про сговор и тоже придет.
- Он всегда только их оставался владеньем,
- к нам был каменно замкнут иль вовсе не знал.
- Раболепно музейные туфли наденем,
- но учтивый хозяин нас в гости не звал.
- Ну, а те, кто званы и желанны, лишь ныне
- отзовутся. Отверстая арка их ждет.
- Вот уж в сборе они и в тревоге: меж ними
- нет кого-то. Он позже придет, но придет.
- Если ж нет – это белые ночи всего лишь,
- штучки близкого севера, блажь выпускниц.
- Ты, чьей крестною мукою славен Воронеж,
- где ни спишь – из отлучки своей отпросись.
- Как он юн! И вернули ему телефоны
- обожанья, признанья и дружбы свои.
- Столь беспечному – свидеться будет легко ли
- с той, посмевшей проведать его хрустали?
- Что проведать? Предчувствие медлит с ответом.
- Пусть стоят на мосту бесконечного дня,
- где не вовсе потупилась пред человеком,
- хоть четырежды сломлена воля коня.
- Все сошлись. Совпаденье счастливое длится:
- каждый молод, наряден, любим, знаменит.
- Но зачем так печальны их чудные лица?
- Миновало давно то, что им предстоит.
- Всяк из них бесподобен. Но кто ак подробно
- черной оспой извёл в наших скудных чертах
- робкий знак подражанья, попытку подобья,
- чтоб остаток лица было страшно читать?
- Всё же стоит вчитаться в безбуквие книги.
- Ее тайнопись кто-то не дочиста стёр.
- И дрожат над умом обездоленным нимбы,
- и не вырван из глаз человеческий взор.
- Это – те, чтобы нас упасти от безумья,
- не обмолвились словом, не подняли глаз.
- Одинокие их силуэты связуя,
- то ли страсть, то ли мысль, то ли чайка неслась.
- Вот один, вот другой размыкается скрежет.
- Им пора уходить. Мы останемся здесь.
- Кто так смел, что мосты эти надвое режет —
- для удобства судов, для разрыва сердец?
- Этот город, к высокой допущенный встрече,
- не сумел ее снесть и помешан вполне,
- словно тот, чьи больные и дерзкие речи
- снизошел покарать властелин на коне.
- Что же городу делать? Очнулся – и строен,
- сострадания просит, а делает вид,
- что спокоен и лишь восхищенья достоин.
- Но с такою осанкою – он устоит.
- Чужестранец, ревнитель пера и блокнота,
- записал о дворце, что прекрасен дворец.
- Утаим от него, что заботливый кто-то
- драгоценность унёс и оставил ларец.
- Жизнь – живей и понятней, чем вечная слава.
- Огибая величье, туда побреду,
- где в пруду, на окраине Летнего сада,
- рыба важно живет у детей на виду.
- Милый город, какая огромная рыба!
- Подплыла и глядит, а зеваки ушли.
- Не грусти! Не отсутствует то, что незримо.
- Ты и есть достоверность бессмертья души.
- Но как странно взглянул на меня незнакомец!
- Несомненно: он видел, что было в ночи,
- наглядеться не мог, ненаглядность запомнил —
- и усвоил… Но город мне шепчет: молчи!
«Когда жалела я Бориса…»
Борису Мессереру
- Когда жалела я Бориса,
- а он меня в больницу вёз,
- стихотворение «Больница»
- в глазах стояло вместо слёз.
- И думалось: уж коль поэта
- мы сами отпустили в смерть
- и как-то вытерпели это, —
- всё остальное можно снесть.
- И от минуты многотрудной
- как бы рассудок ни устал, —
- ему одной достанет чудной
- строки про перстень и футляр.
- Так ею любовалась память,
- как будто это мой алмаз,
- готовый в черный бархат прянуть,
- с меня востребуют сейчас.
- Не тут-то было! Лишь от улиц
- меня отъединил забор,
- жизнь удивленная очнулась,
- воззрилась на больничный двор.
- Двор ей понравился. Не меньше
- ей нравились кровать, и суп,
- столь вкусный, и больных насмешки
- над тем, как бледен он и скуп.
- Опробовав свою сохранность,
- жизнь стала складывать слова
- о том, что во дворе – о радость! —
- два возлежат чугунных льва.
- Львы одичавшие – привыкли,
- что кто-то к ним щекою льнёт.
- Податливые их загривки
- клялись в ответном чувстве львов.
- За все черты, чуть-чуть иные,
- чем принято, за не вполне
- разумный вид – врачи, больные —
- все были ласковы ко мне.
- Профессор, коей все боялись,
- войдет со свитой, скажет: «Ну-с,
- как ваши львы?» – и все смеялись,
- что я боюсь и не смеюсь.
- Все люди мне казались правы,
- я вникла в судьбы, в имена,
- и стук ужасной их забавы
- в саду – не раздражал меня.
- Я видела упадок плоти
- и грубо поврежденный дух,
- но помышляла о субботе,
- когда родные к ним придут.
- Пакеты с вредоносно-сильной
- едой, объятья на скамье —
- весь этот праздник некрасивый
- был близок и понятен мне.
- Как будто ничего вселенной
- не обещала, не должна —
- в алмазик бытия бесценный
- вцепилась жадная душа.
- Всё ярче над небесным краем
- двух зорь единый пламень рос.
- – Неужто всё еще играет
- со львами? – слышался вопрос.
- Как напоследок жизнь играла,
- смотрел суровый окуляр.
- Но это не опровергало
- строки про перстень и футляр.
«Был вход возбранён. Я не знала о том и вошла…»
- Был вход возбранён. Я не знала о том и вошла.
- Я дверью ошиблась. Я шла не сюда, не за этим.
- Хоть эта ошибка была велика и важна,
- никчемности лишней за дверью никто не заметил.
- Для бездны не внове, что вхожи в нее пустяки:
- без них был бы мелок ее умозрительный омут.
- Но бездн охранитель мне вход возбраняет в стихи:
- снедают меня и никак написаться не могут.
- Но смилуйся! Знаю: там воля свершалась Твоя.
- А я заблудилась в сплошной белизне коридора.
- Тому человеку послала я пульс бытия,
- отвергнутый им как помеха докучного вздора.
- Он словно очнулся от жизни, случившейся с ним
- для скромных невзгод, для страданий привычно-родимых.
- Ему в этот миг был объявлен пронзительный смысл
- недавних бессмыслиц – о, сколь драгоценных, сколь дивных!
- Зеницу предсмертья спасали и длили врачи,
- насильную жизнь в безучастное тело вонзая.
- В обмен на сознание – знанье вступало в зрачки.
- Я видела знанье, его содержанья не зная.
- Какая-то дача, дремотный гамак, и трава,
- и голос влюбленный: «Сыночек, вот это – ромашка»,
- и далее – свет. Но мутилась моя голова
- от вида цветка и от мощи его аромата.
- Чужое мгновенье себе я взяла и снесла.
- Кто жив – тот не опытен. Тёмен мой взор виноватый.
- Увидевший то, что до времени видеть нельзя,
- страшись и молчи, о, хотя бы молчи, соглядатай.
«Воскресенье настало. Мне не было грустно ничуть…»
- Воскресенье настало. Мне не было грустно ничуть.
- Это только снаружи больница скушна, непреклонна.
- А внутри – очень много событий, занятий и чувств.
- И больные гуляют, держась за перила балкона.
- Одиночество боли и общее шарканье ног
- вынуждают людей к (вдруг слово забыла) контакту.
- Лишь покойник внизу оставался совсем одинок:
- санитар побежал за напарником, бросив каталку.
- Столь один – он, пожалуй, еще никогда не бывал.
- Сочиняй, починяй – все сбиваемся в робкую стаю.
- Даже хладный подвал, где он в этой ночи ночевал,
- кое-как опекаем: я доброго сторожа знаю.
- Но зато, может быть, никогда он так не был любим.
- Все, кто был на балконе, его озирали не вчуже.
- Соучастье любви на мгновенье сгустилось над ним.
- Это ластились к тайне живых боязливые души.
- Все свидетели скрытным себя осенили крестом.
- За оградой – не знаю, а здесь нездоровый упадок
- атеизма заметен. Всем хочется над потолком
- вдруг увидеть утешный и здравоопрятный порядок.
- Две не равных вершины вздымали покров простыни.
- Вдосталь, мил-человек, ты небось походил по Расее.
- Натрудила она две воздетые к небу ступни.
- Что же делать, прощай. Не твое это, брат, воскресенье.
- Впрочем, кто тебя знает. Вдруг матушка в церковь вела:
- «Дево, радуйся!» Я – не умею припомнить акафист.
- Санитары пришли. Да и сам ты не жил без вина.
- Где душе твоей быть? Пусть побудет со мною покамест.
Ночь на 6-е июня
- Перечит дрёме въедливая дрель:
- то ль блещет шпиль, то ль бредит голос птицы.
- Ах, это ты, всенощный белый день,
- оспоривший снотворный шприц больницы.
- Простёртая для здравой простоты
- пологость, упокоенная на ночь,
- разорвана, как невские мосты, —
- как я люблю их с фонарями навзничь.
- Меж вздыбленных разъятых половин
- сознания – что уплывет в далёкость?
- Какой смотритель утром повелит
- с виском сложить висок и с локтем локоть?
- Вдруг позабудут заново свести
- в простую схему рознь примет никчемных,
- что под щекой и локоном сестры
- уснувшей – знает назубок учебник?
- Раздвоен мозг: былой и новый свет,
- совпав, его расторгли полушарья.
- Чтоб возлежать, у лежебоки нет
- ни знания: как спать, ни прилежанья.
- И вдруг смеюсь: как повод прост, как мал —
- не спать, пенять струне неумолимой:
- зачем поёт! А это пел комар
- иль незнакомец в маске комариной.
- Я вспомню, вспомню… вот сейчас, сейчас…
- Как это было? Судно вдаль ведомо
- попутным ветром… в точку уменьшась,
- забившись в щель, достичь родного дома…
- Несчастная! Каких лекарств, мещанств
- наелась я, чтоб не узнать Гвидона?
- Мой князь, то белена и курослеп,
- подслеповатость и безумье бденья.
- Пожалуй в рознь соседних королевств!
- Там – общий пир, там чей-то день рожденья.
- Скажи: что конь? что тот, кто на коне?
- На месте ли, пока держу их в книге?
- Я сплю. Но гений розы на окне
- грустит о том, чей день рожденья ныне.
- У всех – июнь. У розы – май и жар.
- И посылает мстительность метафор
- в окно мое неутолимость жал:
- пусть вволю пьют из кровеносных амфор.
«Какому ни предамся краю…»
- Какому ни предамся краю
- для ловли дум, для траты дней, —
- всегда в одну игру играю
- и много мне веселья в ней.
- Я знаю: скрыта шаловливость
- в природе и в уме вещей.
- Лишь недогадливый ленивец
- не зван соотноситься с ней.
- Люблю я всякого предмета
- притворно-благонравный вид.
- Как он ведёт себя примерно,
- как упоительно хитрит!
- Так быстрый взор смолянки нежной
- из-под опущенных ресниц
- сверкнет – и старец многогрешный
- грудь в орденах перекрестит.
- Как всё ребячливо на свете!
- Все вещества и существа,
- как в угол вдвинутые дети,
- понуро жаждут озорства.
- Заметят, что на них воззрилась
- любовь, – восторгов и щедрот
- не счесть! И бытия взаимность —
- сродни щенку иль сам щенок.
- Совсем я сбилась с панталыку!
- Рука моя иль чья-нибудь
- пускай потреплет по затылку
- меня, чтоб мысль ему вернуть.
- Не образумив мой загривок,
- вид из окна – вошел в окно,
- и тварей утвари игривой
- его вторженье развлекло.
- Того оспорю неужели,
- чье имя губы утаят?
- От мысли станет стих тяжеле,
- пусть остается глуповат.
- Пусть будет вовсе глуп и волен.
- Ко мне утратив интерес,
- рассудок белой ночью болен.
- Что делать? Обойдемся без.
- Начнем: мне том в больницу прислан.
- Поскольку принято капризам
- возлегших на ее кровать
- подобострастно потакать,
- по усмотренью доброты
- ему сопутствуют цветы.
- Один в палате обыватель:
- сам сочинит и сам прочтет.
- От сочинителя читатель
- спешит узнать: разгадка в чём?
- Скажу ему, во что играю.
- Я том заветный открываю,
- смеюсь и подношу цветок
- стихотворению «Цветок».
- О, сколько раз всё это было:
- и там, где в милый мне овраг
- я за черемухой ходила
- или ходила просто так,
- и в робкой роще подмосковной,
- и на холмах вблизи Оки —
- насильный, мною не искомый,
- накрапывал пунктир строки.
- То мой, то данный мне читальней,
- то снятый с полки у друзей,
- брала я том для страсти тайной,
- для прочной прихоти моей.
- Подснежники и медуницы
- и всё, что им вослед растет,
- привыкли съединять страницы
- с произрастаньем милых строк.
- В материальности материй
- не сведущий – один цветок
- мертворожденность иммортелей
- непринужденно превозмог.
- Мы знаем, что в лесу иль в поле,
- когда – не знаем, он возрос.
- Но сколько выросших в неволе
- ему я посвятила роз.
- Я разоряла их багряность,
- жалеючи, рукой своей.
- Когда мороз – какая радость
- сказать: «Возьми ее скорей».
- Так в этом мире беззащитном,
- на трагедийных берегах,
- моим обмолвкам и ошибкам
- я предаюсь с цветком в руках.
- И рада я, что в стольких книгах
- останутся мои цветы,
- что я повинна только в играх,
- что не черны мои черты,
- что розу не отдавший вазе,
- еще не сущий аноним
- продлит неутолимость связи
- того цветка с цветком иным.
- За это – столько упоений,
- и две зари в одном окне,
- и весел Тот, чей бодрый гений
- всегда был милостив ко мне.
«Бессмертьем душу обольщая…»
Александру Блоку
- Бессмертьем душу обольщая,
- всё остальное отстранив,
- какая белая, большая
- в окне больничном ночь стоит.
- Все в сборе: муть окраин, гавань,
- вздохнувшая морская близь,
- и грезит о герое главном
- собранье действующих лиц.
- Поймем ли то, что разыграют,
- покуда будет ночь свежеть?
- Из умолчаний и загадок
- составлен роковой сюжет.
- Тревожить имени не стану,
- чей первый и последний слог
- непроницаемую тайну
- безукоризненно облёк.
- Всё сказано – и всё сокрыто.
- Совсем прозрачно – и темно.
- Чем больше имя знаменито,
- тем неразгаданней оно.
- А это, от чьего наитья
- туманно в сердце молодом, —
- тайник, запретный для открытья,
- замкнувший створки медальон.
- Когда смотрел в окно вагона
- на вспышки засух торфяных,
- он знал, как грозно и огромно
- предвестье бед, и жаждал их.
- Зачем? Непостижимость таинств,
- которые он взял с собой,
- пусть называет чужестранец
- Россией, фатумом, судьбой.
- Что видел он за мглой, за гарью?
- Каким был светом упоён?
- Быть может, бытия за гранью
- мы в этом что-нибудь поймем.
- Всё прозорливее, чем гений.
- Не сведущ в здравомыслье зла,
- провидит он лишь высь трагедий.
- Мы видим, как их суть низка.
- Чего он ожидал от века,
- где всё – надрыв и всё – навзрыд?
- Не снесший пошлости ответа,
- так бледен, что уже незрим.
- Искавший мук, одну лишь муку:
- не петь – поющий не учел.
- Вослед замученному звуку
- он целомудренно ушел.
- Приняв брезгливые проклятья
- былых сподвижников своих,
- пал кротко в лютые объятья,
- своих убийц благословив.
- Поступок этой тихой смерти
- так совершенен и глубок.
- Всё приживается на свете,
- и лишь поэт уходит в срок.
- Одно такое у природы
- смотреть, как белой ночи розы
- всё падают к его ногам.
Стена
Юрию Ковалю
- Вид из окна: кирпичная стена.
- Строки или палаты посетитель
- стены моей пугается сперва.
- – Стена и взор, проснитесь и сойдитесь! —
- я говорю, хоть мало я спала,
- под утро неусыпностью пресытясь.
- Двух розных зорь неутолима страсть,
- и ночь ее обходит стороною.
- Пусть вам смешно, но такова же связь
- меж мною и кирпичною стеною.
- Больничною диковинкою став,
- я не остерегаюсь быть смешною.
- Стена моя, всё трудишься, корпишь
- для цели хоть полезной, но не новой.
- Скажи, какою ныне окропишь
- мою бумагу мыслью пустяковой?
- Как я люблю твой молодой кирпич
- за тайный смысл его средневековый.
- Стене присущ былых времён акцент.
- Пред-родствен ей высокородный замок.
- Вот я сижу: вельможа и аскет,
- стены моей заносчивый хозяин.
- Хочу об этом поболтать – но с кем?
- Входил доцент, но он суров и занят.
- Еще и тем любезна мне стена,
- что четко окорачивает зренье.
- Иначе мысль пространна, не стройна,
- как пуха тополиного паренье.
- А так – в ее вперяюсь письмена
- и списываю с них стихотворенье.
- Но если встать с кровати, сесть левей,
- сидеть всю ночь и усидеть подоле,
- я вижу, как усердье тополей
- мне шлет моих же помыслов подобье,
- я слышу близкий голос кораблей,
- проведавший больничное подворье.
- Стена – ревнива: ни щедрот, ни льгот.
- Мгновенье – и ощерятся бойницы.
- Она мне не показывает львов,
- сто лет лежащих около больницы.
- Чтоб мне не видеть их курчавых лбов,
- встает меж нами с выраженьем львицы.
- Тут наш разлад. Я этих львов люблю.
- Всех, кто не лев, пускай берут завидки.
- Иду ко львам, верней – ко льву и льву,
- и глажу их чугунные загривки.
- Потом стене подобострастно лгу,
- что к ним ходила только из-за рифмы.
- В том главное значение стены,
- что скрыт за нею город сумасходный.
- Он близко – только руку протяни.
- Но есть препона совладать с охотой
- иметь. Не возымей, а сотвори
- всё надобное, властелин свободный.
- Всё то, что взять могу и не беру:
- дворцы разъединивший мост Дворцовый
- (и Меншиков опять не ко двору),
- и Летний сад, и, с нежностью особой,
- всех львов моих – я отдаю Петру.
- Пусть наведет порядок образцовый.
- Потусторонний (не совсем иной —
- застенный) мир меня ввергает в ужас.
- Сегодня я прощаюсь со стеной,
- перехожу из вымысла в насущность.
- Стена твердит, что это бред ночной, —
- не ей бы говорить, не мне бы слушать.
- Здесь измышленья, книги и цветы
- со мной следили дня и ночи смену
- (с трудом – за неименьем темноты).
- Стена, прощай. Поднять глаза не смею.
- Преемник мой, как равнодушно ты,
- как слепо будешь видеть эту стену.
«Чудовищный и призрачный курорт…»
- Чудовищный и призрачный курорт —
- услада для заезжих чужестранцев.
- Их привечает пристальный урод
- (знать, больше нет благообразных старцев)
- и так порочен этот вождь ворот,
- что страшно за рассеянных скитальцев.
- Простят ли мне Кирилл и Ферапонт,
- что числилась я в списке постояльцев?
- Я – не виновна. Произволен блат:
- стихолюбивы дивы «Интуриста».
- Одни лишь финны, гости финских блат,
- не ощущают никакого риска,
- когда красотка поднимает взгляд,
- в котором хлад стоит и ад творится.
- Но я не вхожа в этот хладный ад:
- всегда моя потуплена зеница.
- Вид из окна: сосна и «мерседес».
- Пир под сосной мои пресытил уши.
- Официант, рожденный для злодейств,
- погрязнуть должен в мелочи и в чуши.
- Отечество, ты приютилось здесь
- подобострастно и как будто вчуже.
- Но разнобой моих ночных сердец
- всегда тебя подозревает в чуде.
- Ни разу я не выходила прочь
- из комнаты. И предается думе
- прислуга (вся в накрапе зримых порч):
- от бедности моей или от дури?
- Пейзаж усилен тем, что вдвинут «порш»
- в невидимые мне залив и дюны.
- И, кроме мысли, никаких нет почт,
- чтоб грусть моя достигла тети Дюни.
- Чтоб городок Кириллов позабыть,
- отправлюсь-ка проведать жизнь иную.
- Дежурной взгляд не зряч, но остро-быстр.
- О, я в снэк-бар всего лишь, не в пивную.
- Ликуют финны. Рада я за них.
- Как славно пьют, как весело одеты.
- Пускай себе! Ведь это – их залив.
- А я – подкидыш, сдуру взятый в дети.
- С улыбкой благодетели следят:
- смотри, коль слово лишнее проронишь.
- Но не сидеть же при гостях в слезах?
- Так осмелел, что пьет коньяк приёмыш.
- Финн вопросил: «Where are you from, madame?»
- Приятно поболтать с негоциантом.
- – Оттеда я, где черт нас догадал
- произрасти с умом, да и с талантом.
- Он поражен: – С талантом и умом?
- И этих свойств моя не ценит фирма?
- Не перейти ль мне в их торговый дом?
- – Спасибо, нет, – благодарю я финна.
- Мне повезло: никто не внял словам
- того, чья слава множится и крепнет:
- ни финн, ни бармен – гордый внук славян,
- ну, а тунгусов не пускают в кемпинг.
- Спасибо, нет, мне хорошо лишь здесь,
- где зарасту бессмертной лебедою.
- Кириллов же и ближний Белозерск
- сокроются под вечною водою.
- Что ж, тете Дюне – девяностый год, —
- финн речь заводит об архитектуре, —
- а правнуков ее большой народ
- мечтает лишь о финском гарнитуре.
- Тут я смеюсь. Мой собеседник рад.
- Он говорит, что поставляет мебель
- в столь знаменитый близлежащий град,
- где прежде он за недосугом не был.
- Когда б не он – кто бы наладил связь
- бессвязных дум? Уж если жить в мотеле
- причудливом – то лучше жить смеясь,
- не то рехнуться можно в самом деле.
- В снэк-баре – смех, толкучка, красота,
- и я любуюсь финкой молодою:
- уж так свежа (хоть несколько толста).
- Я выхожу, иду к чужому дому,
- и молвят Ферапонтовы уста
- над бывшей и грядущею юдолью:
- «Земля была безвидна и пуста,
- и Божий Дух носился над водою».
«Такая пала на душу метель…»
- Такая пала на душу метель:
- ослепли в ней и заплутали кони.
- Я в элегантный въехала мотель,
- где и сижу в шезлонге на балконе.
- Вот так-то, брат ладыжинский овраг.
- Я знаю силу твоего week-end’а,
- но здесь такой у барменов аврал, —
- прости, что говорю интеллигентно.
- Въезжает в зренье новый лимузин.
- Всяк флаг охоч до нашего простора.
- Отечество юлит и лебезит:
- Алёшки – ладно, но и Льва Толстого.
- О бедное отечество, прости!
- Не всё ж гордиться и грозить чумою.
- Ты приворотным зельем обольсти
- гостей желанных – пусть тряхнут мошною.
- С чего я начала? Шезлонг? Лонгшез?
- Как ни скажи – а всё сидеть тоскливо.
- Но сколько финнов! Уж не все ли здесь,
- где нет иль мало Финского залива?
- Не то, что он отсутствуетсовсем,
- но обитает за глухой оградой.
- Мне нравится таинственный сосед,
- невидимый, но свежий и отрадный.
- Его привет щекою и плечом
- приму – и вновь затворничаем оба.
- Но – Финский он. Я – вовсе ни при чём,
- хоть почитатель финского народа.
- Не мне судить: повсюду и всегда
- иль только здесь, где кемпинг и суббота,
- присуща людям яркая черта
- той красоты, когда душа свободна.
- Да и не так уж скрытен их язык.
- Коль придан Вакху некий бог обратный,
- они весь день кричат ему: «Изыдь!»,
- не размыкая рюмок и объятий.
- Но и моя вдруг засверкала жизнь.
- Содержат трёх медведиц при мотеле.
- Невольно стала с ними я дружить,
- на что туристы с радостью глядели.
- Поэт. Медведь. Все-детское «Ура!».
- Мы шествуем с медведицей моею.
- Не обессудь, великая страна,
- тебя я прославляю, как умею.
- Какой успех! Какая благодать!
- Аттракционом и смешным, и редким
- могли бы мы валюту добывать
- столь нужную – да возбранил директор.
- Что делать дале? Я живу легко.
- Событий – нет. Занятия – невинны.
- Но в баре, глянув на мое лицо,
- вдруг на мгновенье умолкают финны.
«Взамен элегий – шуточки, сарказмы…»
- Взамен элегий – шуточки, сарказмы.
- Слог не по мне, и всё здесь не по мне.
- Душа и местность не живут в согласье.
- Что делаю я в этой стороне?
- Как что? Очнись! Ты родом не из финнов,
- не из дельфинов. О, язык-болтун!
- Зачем дельфинов помянул безвинных,
- в чей ум при мне вникал глупец Батум?
- Прости, прости, упасший Ариона,
- да и меня – летящую во сне
- во мгле Красногвардейского района
- в первопрестольном городе Москве.
- Вот, объясняю, родом я откуда.
- Но сброд мотеля смотрит на меня
- так, словно упомянутое чудо —
- и впрямь моя недальняя родня.
- Немудрено: туристы да прислуга,
- и развлеченья их невелики.
- А тут – волною о скалу плеснуло:
- в диковинку на суше плавники.
- Запретный блеск чужого ширпотреба
- приелся пресным лицам россиян.
- – Забудь всё это! – кроткого привета
- раздался всплеск, и образ просиял.
- Отбор довел до совершенства лица:
- лишь рознь пороков оживляет их.
- – Забудь! Оставь! – упрашивал и длился
- печальный звук, но изнемог и стих.
- Я шла на зов – бар по пути проведав.
- Вдруг как-то мой возвысился удел.
- Зрачком Петра я глянула на шведов.
- За стойкой плут – и тот похолодел.
- Он – сложно-скрытен, в меру раболепен,
- причастен тайне, неизвестной нам.
- – Оставь! Иди! – опять забрезжил лепет. —
- Иду. Но как прозрачно-скучен хам.
- Как беззащитно уязвлен обидой.
- – Иди! – неслось. – Скорей иди сюда!
- Вот этих, с тем, что в них, автомобилей
- напрасно жаждать – лютая судьба.
- Мне белоснежных шведов стало жалко:
- смущен, повержен, ранен в ногу Карл.
- Вдруг – тишина. Но я уже бежала:
- окликни вновь, коль прежде окликал!
- Вчера писала я, что на запоре
- к заливу дверь. Слух этот справедлив,
- но лишь отчасти: есть дыра в заборе.
- – Не стой, как пень, – мне указал залив.
- Я засмеялась: к своему именью
- финн не пролез. А я прошла. Вдали,
- за длительной серебряною мелью,
- стояло небо, плыли корабли.
- Я шла водой и слышала взаимность
- воды, судьбы, туманных берегов.
- И, как Петрова вспыльчивая милость,
- явился и сокрылся Петергоф.
- С тех пор меня не видывала суша.
- Воспетый плут вернуться завлекал.
- В мотеле всем народам стало скушно,
- но полегчало мокрым плавникам.
Постой
- Не полюбить бы этот дом чужой,
- где звук чужой пеняет без утайки
- пришельцу, что еще он не ушел:
- де, странник должен странствовать, не так ли?
- Иль полюбить чужие дом и звук:
- уменьшиться, привадиться, втесаться,
- стать приживалой сущего вокруг,
- свое – прогнать и при чужом остаться?
- Вокруг – весны разор и красота,
- сырой песок, ведущий в Териоки.
- Жилец корпит и пишет: та-та-та, —
- диктант насильный заточая в строки.
- Всю ночь он слышит сильный звук чужой:
- то измышленья прежних постояльцев,
- пока в окне неистощим ожог,
- снуют, отбившись от умов и пальцев.
- Но кто здесь жил, чей сбивчивый мотив
- забыт иль за ненадобностью брошен?
- Непосвященный слушатель молчит.
- Он дик, смешон, давно ль он ел – не спрошен.
- Длиннее звук, чем маленькая тьма.
- Затворник болен, но ему не внове
- входить в чужие звуки и дома
- для исполненья их капризной воли.
- Он раболепен и душой кривит.
- Составленный вчерне из многоточья,
- к утру готов бесформенный клавир
- и в стройные преобразован клочья.
- Покинет гость чужие дом и звук,
- чтоб никогда сюда не возвращаться
- и тосковать о распре музык двух.
- Где – он не скажет. Где-то возле счастья.
«Всех обожаний бедствие огромно…»
- Всех обожаний бедствие огромно.
- И не совпасть, и связи не прервать.
- Так навсегда, что даже у надгробья, —
- потупившись, не смея быть при Вас, —
- изъявленную внятно, но не грозно
- надземную приемлю неприязнь.
- При веяньях залива, при закате
- стою, как нищий, согнанный с крыльца.
- Но это лишь усмешка, не проклятье.
- Крест благородней, чем чугун креста.
- Ирония – избранников занятье.
- Туманна окончательность конца.
Дом с башней
- Луны еще не вдосталь, а заря ведь
- уже сошла – откуда взялся свет?
- Сеть гамака ужасная зияет.
- Ах, это май: о тьме и речи нет.
- Дом выспренний на берегу залива.
- В саду – гамак. Всё упустила сеть,
- но не пуста: игриво и лениво
- в ней дней былых полёживает смерть.
- Бывало, в ней покачивалась дрёма
- и упадал том Стриндберга из рук.
- Но я о доме. Описанье дома
- нельзя построить наобум и вдруг.
- Проект: осанку вычурного замка
- венчают башни шпиль и витражи.
- Красавица была его хозяйка.
- – Мой ангел, пожелай и прикажи.
- Поверх кустов сирени и малины —
- балкон с пространным видом на залив.
- Всё гости, фейерверки, именины.
- В тот майский день молился ль кто за них?
- Сооруженье: вместе дом и остров
- для мыслящих гребцов средь моря зла.
- Здесь именитый возвещал философ
- (он и поэт): – Так больше жить нельзя!
- Какие ночи были здесь! Однако
- хозяев нет. Быть дома ночью – вздор.
- Пора бы знать: «Бродячая собака»
- лишь поздним утром их отпустит в дом.
- Замечу: знаменитого подвала
- таинственная гостья лишь одна
- навряд ли здесь хотя бы раз бывала,
- иль раз была – но боле никогда.
- Покой и прелесть утреннего часа.
- Красотка-финка самовар внесла.
- И гимназист, отрекшийся от чая,
- всех пристыдил: – Так больше жить нельзя.
- В устройстве дома – вольного абсурда
- черты отрадны. Запределен бред
- предположенья: вдруг уйти отсюда.
- Зачем? А дом? А башня? А крокет?
- Балы, спектакли, чаепитья, пренья.
- Коса, румянец, хрупкость, кисея —
- и голосок, отвлекшийся от пенья,
- расплакался: – Так больше жить нельзя!
- Влюблялись, всё смеялись, и стрелялись
- нередко, страстно ждали новостей.
- Дом с башней ныне – робкий постоялец,
- чудак-изгой на родине своей.
- Нет никого. Ужель и тот покойник —
- незнаемый, тот, чей гамак дыряв,
- к сосне прибивший ржавый рукомойник,
- заткнувший щели в окнах и дверях?
- Хоть не темнеет, а светает рано.
- Лет дому сколько? Менее, чем сто.
- Какая жизнь в нём сильная играла!
- Где это всё? Да было ль это всё?
- Я полюбила дом, и водостока
- резной узор, и, более всего,
- со шпилем башню и цветные стёкла.
- Каков мой цвет сквозь каждое стекло?
- Мне кажется, и дом меня приметил.
- Войду в залив, на камне постою.
- Дом снова жив, одушевлен и светел.
- Я вижу дом, гостей, детей, семью.
- Из кухни в погреб золотистой финки
- так весел промельк! Как она мила!
- И нет беды печальней детской свинки,
- всех ужаснувшей, – да и та прошла.
- Так я играю с домом и заливом.
- Я занята лишь этим пустяком.
- Над их ко мне пристрастием взаимным
- смеется кто-то за цветным стеклом.
- Как всё сошлось! Та самая погода,
- и тот же тост: – Так больше жить нельзя!
- Всего лишь май двенадцатого года:
- ждут Сапунова к ужину не зря.
«Темнеет в полночь и светает вскоре…»
- Темнеет в полночь и светает вскоре.
- Есть напряженье в столь условной тьме.
- Пред-свет и свет, словно залив и море,
- слились и перепутались в уме.
- Как разгляжу незримость их соитья?
- Грань меж воды я видеть не могу.
- Канун всегда таинственней событья —
- так мнится мне на этом берегу.
- Так зорко, что уже подслеповато,
- так чутко, что в заумии звенит,
- я стерегу окно, и непонятно:
- чем сам себя мог осветить залив?
- Что предпочесть: бессонницу ли? сны ли?
- Во сне видней что видеть не дано.
- Вслепую – книжки Блока записные
- я открываю. Пятый час. Темно.
- Но не совсем. Иначе как я эти
- слова прочла и поняла мотив:
- «Какая безысходность на рассвете».
- И отворилось зренье глаз моих.
- Я вышла. Бодрый север по загривку
- трепал меня, отверстый нюх солил.
- Рассвету вспять я двинулась к заливу
- и далее, по валунам, в залив.
- Он морем был. Я там остановилась,
- где обрывался мощный край гряды.
- Не знала я: принять за гнев иль милость
- валы непроницаемой воды.
- Да, уж про них не скажешь, что лизнули
- резиновое облаченье ног.
- И никакой поблажки и лазури:
- горбы судьбы с поклажей вечных нош.
- Был камень сведущ в мысли моря тайной.
- Но он привык. А мне, за все века,
- повиснуть в них подробностью случайной
- впервой пришлось. Простите новичка.
- «Какая безысходность на рассвете».
- Но рассвело. Свет боле не иском.
- Неужто прыткий получатель вести
- ее обманет и найдет исход?
- Вдруг возгорелась вкрапина гранита:
- смотрел на солнце великанский лоб.
- Моей руке шершаво и ранимо
- отозвалась незыблемая плоть.
- «Какая безысходность на рассвете».
- Как весел мне мой ход поверх камней.
- За главный смысл лишь музыка в ответе.
- А здравый смысл всегда перечит ей.
«Завидев дом, в испуге безъязыком…»
- Завидев дом, в испуге безъязыком,
- я полюбила дома синий цвет.
- Но как залива нынче цвет изыскан:
- сам как бы есть, а цвета вовсе нет.
- Вода вольна быть призрачна, но слово
- о ней такое ж – не со-цветно ей.
- Об имени для цвета никакого
- ты, синий дом, не думай, а синей!
- А занавески желтые на окнах!
- Утешно сине-желтое пятно.
- И дома-балаганчика невольник
- не веселей, должно быть, чем Пьеро.
- Я слышала, и обвели чернила,
- след музыки, что прежде здесь жила.
- Так яблоко, хоть полно, но червиво.
- Так этих стен ущербна тишина.
- То ль слуху примерещилась больному
- двоюродная мука грёз и слёз,
- то ль не спалось подкидышу-бемолю.
- Потом прошло, затихло, улеглось.
- Увы тебе, грядущий мой преемник,
- таинственный слагатель партитур.
- Не преуспеть тебе в твоих пареньях:
- в них чуждые созвучья прорастут.
- Прости меня за то, что озарили
- тебя затменья моего ума.
- Всегда ты будешь думать о заливе.
- Тебя возьмется припекать луна.
- Потом пройдет. Исчезнет звук насильный,
- но он твою не оскорбил струну.
- Прошу тебя: люби мой домик синий
- и занавесок яд и желтизну.
- Они причастны тайне безобидной.
- Я не смогу покинуть их вполне,
- как близко сущий, но сейчас не видный
- залив в моём распахнутом окне.
- И что залив, загадка, поволока?
- Спросила – и ответа заждалась.
- Пожалуй, имя молодого Блока
- подходит цвету, скрытому от глаз.
Побережье
Льву Копелеву
- Не грех ли на залив сменять
- дом колченогий, пусторукий,
- о том, что есть, не вспоминать,
- иль вспоминать с тоской и мукой.
- Руинам предпочесть родным
- чужого бытия обломки
- и городских окраин дым
- вдали – принять за весть о Блоке.
- Мысль непрестанная о нём
- больному Блоку не поможет,
- и тот обещанный лимон
- здоровье чье-то в чай положит.
- Но был так сильно, будто есть
- день упоенья, день надежды.
- День притаился где-то здесь,
- на этом берегу, – но где же?
- Не тяжек грех – тот день искать
- в каменьях и песках рассвета.
- Но не бесчувственна ли мать,
- избравшая занятье это?
- Упрочить сердце, и детей
- подкинуть обветшалой детской,
- и ослабеть для слёз о тех,
- чье детство – крайность благоденствий.
- Услышат все и не поймут
- намёк судьбы, беды предвестье.
- Ум, возведенный в абсолют,
- не грамотен в аз, буки, веди.
- Но дом так чудно островерх!
- Канун каникул и варенья,
- день Ангела и фейерверк,
- том золоченый Жюля Верна.
- Всё потерять, страдать, стареть —
- всё ж меньше, чем пролёт дороги
- из Петербурга в Сестрорецк,
- Куоккалу и Териоки.
- Недаром протяжён уют
- блаженных этих остановок:
- ведь дальше – если не убьют —
- Ростов, Батум, Константинополь.
- И дальше – осенит крестом
- скупым Святая Женевьева.
- Пусть так. Но будет лишь потом
- всё то, что долго, что мгновенно.
- Сначала – дама, господин,
- приникли кружева к фланели.
- Всё в мире бренно – но не сын,
- вверх-вниз гоняющий качели.
- Не всякий под крестом, кто юн
- иль молод, мёртв и опозорен.
- Но обруч так летит вдоль дюн,
- июнь, и небосвод двузорен.
- И гоподин и дама – тот
- имеют облик, чье решенье —
- труды истории, итог,
- триумф ее и завершенье.
- А как же сын? Не надо знать.
- Вверх-вниз летят его качели,
- и юная бледнеет мать,
- и никнут кружева к фланели.
- В Крыму, похожий на него,
- как горд, как мёртв герой поручик.
- Нет, он – дитя. Под Рождество
- какие он дары получит!
- А чудно островерхий дом?
- Ведь в нём как будто учрежденье?
- Да нет! Там ёлка под замком.
- О Ты, чье празднуют рожденье,
- Ты милосерд, открой же дверь!
- К серьгам, браслетам и оковам
- привыкла ли турчанка-ель?
- И где это – под Перекопом?
- Забудь! Своих детей жалей
- за то, что этот век так долог,
- за вырубленность их аллей,
- за бедность их безбожных ёлок,
- за не-язык, за не-латынь,
- за то, что сирый ум – бледнее
- без книг с обрезом золотым,
- за то, что Блок тебе больнее.
- Я и жалею. Лишь затем
- стою на берегу залива,
- взирая на чужих детей
- так неотрывно и тоскливо.
- Что пользы днём с огнём искать
- снег прошлогодний, ветер в поле?
- Но кто-то должен так стоять
- всю жизнь возможную – и доле.
Поступок розы
Памяти Н. Н. Сапунова
- «Как хороши, как свежи…» О, как свежи,
- как хороши! Пять было разных роз.
- Всему есть подражатели на свете
- иль двойники. Но роза розе – рознь.
- Четыре сразу сгинули. Но главной
- был так глубок и жадно-дышащ зев:
- когда б гортань стать захотела гласной, —
- рык издала бы роза – царь и лев.
- Нет, всё ж не так. Я слышала когда-то,
- мне слышалось, иль выдумано мной
- безвыходное низкое контральто:
- вулканный выдох глубины земной.
- Речей и пенья на высоких нотах
- не слышу: как-то мелко и мало.
- Труд розы – вдох. Ей не положен отдых.
- Трудись, молчи, сокровище моё.
- Но что же запах, как не голос розы?
- Смолкает он, когда она мертва.
- Прости мои развязные вопросы.
- Поговорим, о госпожа моя.
- Куда там! Норов розы не покладист.
- Вдруг аромат – отлёт ее души?
- Восьмой ей день. Она свежа покамест.
- Как свежи, Боже мой, как хороши
- слова совсем бессмысленной и нежной,
- прелестной и докучливой строки.
- И роза, вместо смерти неизбежной,
- здорова – здравомыслью вопреки.
- Светает. И на синеве, как рана,
- отверсто горло розы на окне
- и скорбно черно-алое контральто.
- Сама ль я слышу? Слышится ли мне?
- Не с повеленьем, а с монаршей просьбой
- не спорить же. К заливу я иду.
- – О, не шути с моей великой розой! —
- прошу и розу отдаю ему.
- Плыви, о роза, бездну украшая.
- Ты выбрала. Плыви светло, легко.
- От Териок водою до Кронштадта,
- хоть это смерть, не так уж далеко.
- Волнам предайся, как художник милый
- в ночь гибели, для века роковой.
- До берега, что стал его могилой,
- и ты навряд ли доплывешь живой.
- Но лучше так – в разгар судьбы и славы,
- предчувствуя, но знанья избежав.
- Как он спешил! Как нервы были правы!
- На свете так один лишь раз спешат.
- Не просто тело мёртвое качалось
- в бесформенном удушии воды —
- эпоха упования кончалась
- и занимался крах его среды.
- Вы встретитесь! Вы стоите друг друга:
- одна осанка и один акцент,
- как принято средь избранного круга,
- куда не вхож богатый фармацевт.
- Я в дом вошла. Стоял стакан коряво.
- Его настой другой цветок лакал.
- Но слышалось бездонное контральто,
- и выдох уст еще благоухал.
- Вот истеченье поминальных суток
- по розе. Синева и пустота.
- То – гордой розы собственный поступок.
- Я ни при чём. Я розе – не чета.
Гряда камней
- Как я люблю гряду моих камней,
- моих, моих! – и камни это знают,
- и череду пустых и светлых дней,
- из коих каждый лишь заливом занят.
- Дарован день – и сразу же прощен.
- Его изгиб – к заливу приниканье.
- Привадились прыжок, прыжок, прыжок
- на крайнем останавливаться камне.
- Мой этот путь проторен столько крат,
- так пристально то медлил, то парил он,
- что в опыт камня свой принёс карат
- моих стояний и прыжков период.
- Гряда моя вчера была черна,
- свергал меня валун краеугольный.
- Потопная воды величина
- вал насылала, сумрачный и вольный.
- Чуть с ног не сбил и до лица достал
- взрыв бурных брызг. Лишь я и многоводность.
- Коль смоет море лишнюю деталь,
- не будет ничего здесь, никого здесь.
- В какую даль гряду не протянуть —
- пунктир тысячелетий до Кронштадта.
- Кто это – Петр? Что значит – Петербург?
- Века проходят, волны в пыль крошатся.
- Я не умею помышлять о том.
- Не до того мне. Как недавней рыбе
- не занестись? Она – уже тритон,
- впервой вздохнувший на гранитной глыбе.
- Как хорошо, что жабрам и хвосту
- осознавать не надо бесконечность.
- Не боязлив мой панцирь, я расту,
- и мне уютна отчая кромешность.
- Еще ничьи не молвили уста
- над непробудной бездной молодою:
- «Земля была безвидна и пуста,
- и Божий Дух носился над водою».
- Вдруг новое явилось существо.
- Но явно: то – другая разновидность,
- движенье двух конечностей его
- приблизилось ко мне, остановилось.
- Спугнувший горб и перепонки лап,
- пришелец сам подавлен и растерян.
- Непостижимый первобытный взгляд
- страшит его среди сырых расщелин.
- Пришлось гасить сверканье чешуи,
- сменить обличье, утаить породу,
- и тьмы времён прожить для чепухи —
- раскланяться и побранить погоду.
- Ознобно ждать, чтобы чужак ушел,
- в беседе задыхаться подневольной,
- вернуться в дом: прыжок, прыжок, прыжок —
- и вновь предаться думе земноводной.
- Как я люблю гряду моих камней,
- простёртую в даль моего залива, —
- прочь от строки, влачащейся за ней.
- Как быть? Строка гряды не разлюбила.
- Я тут как тут в едва шестом часу.
- Сон – краткий труд, зато пространен роздых.
- Кронштадт – вдали, поверх и навесу,
- словно Карсавина, прозрачно розов.
- Андреевский собор, опять пришел
- к тебе мой взор – твой нежный прихожанин.
- Гряда: шаг, шаг, стою, прыжок, прыжок,
- стою. Вдох лёгких ненасытно жаден.
- Целую воду. Можно ли воды
- чуть-чуть испить? – Пей вдоволь! – Смех залива
- пью и целую. Я люблю гряды
- все камни – безутешно, но взаимно.
- Я слышу ласку сдержанных камней,
- ладонью взгорбья их умов читая,
- и различаю ощупью моей
- обличий и осанок очертанья.
- Их формой сжата формула времён,
- вся длительность и вместе краткий вывод.
- Смысл заточен в гранит и утаен —
- укрытье смысла наблюдатель видит.
- Но осязает чуткая рука
- ответный пульс слежавшихся энергий,
- и стиснутые, спёртые века
- теплы и внятны коже многонервной.
- Как пусто это сказано: века.
- Непостижимость силясь опровергнуь,
- в глубь тайны прянет вглядчивость зрачка —
- и слепо расшибется о поверхность.
- Миг бытия вмещается в зазор
- меж камнем и ладонью. Ты теряешь
- его в честь камня. Твой недвижен взор,
- и голос чайки душераздирающ.
- Воздвигнув на заглавном валуне
- свой штрих непрочный над пустыней бледной,
- я думаю: на память обо мне
- останется мой камень заповедный.
- Но – то ль Кронштадт меня в залив сманил,
- то ль сам слизнул беспечный смех залива —
- я в нём. Над унижением моим
- белеет чайка стройно и брезгливо.
- Бывает день, когда смешливость уст —
- занятье дня, забывшего про вечность.
- Я отрясаю мокрость и смеюсь.
- Родную бренность не пора ль проведать?
- Оскальзываюсь, вспять гряды иду,
- оглядываюсь на воды далёкость.
- И в камне, замыкающем гряду,
- оттиснута мгновенья мимолётность.
- Как я люблю – гряду или строку,
- камней иль слов – не разберу спросонок.
- Цвет ночи, подступающей к окну,
- пустой страницей на столе срисован.
- Глаз дня прикрыт – мгновенье ока: тьма —
- и снова зряч. Жизнь лакомств сокрушая,
- гром дятла грянул в честь житья-бытья.
- Ночь возвращает зренью долг Кронштадта.
- Его объем над плосководьем волн —
- как белый профиль дымчатой камеи.
- Из ряда прочих видимостей вон
- он выступил, приемля поклоненье.
- Как я люблю гряду… – но я смеюсь:
- тону в строке, как в мелкости прибрежной.
- Пытается последней мглы моллюск
- спастись в затворе раковины нежной.
- Но сумрак вскрыт, разъят, преодолён
- сверканьем, – словно, к ужасу владельца,
- заветный отворили медальон,
- чтоб в хрупкое сокровище вглядеться.
- И я из тех, кто пожелал глядеть.
- Сон был моей случайною ошибкой.
- Всё утро, весь пред-белонощный день
- залив я озираю беззащитный.
- Он – содержанье мысли и окна.
- Но в полночь просит: – Не смотри, не надо!
- Так – нагота лица утомлена,
- зачитана сторонней волей взгляда.
- Пока залив беспомощно простёр
- все прихоти свои, все поведенья,
- я знаю, как гнетет его присмотр:
- сама – зевак законные владенья.
- Что – я! Как нам залив не расплескать?
- Паломники его рассветной рани
- стекаются с припасами пластмасс
- и беспородной рукотворной дряни.
- День выходной: день – выход на разбой.
- Поруганы застенчивые дюны,
- и побирушкой роется прибой
- в останках жалкой и отравной дури.
- Печальный звук воздымлен на устах
- залива: – Всё тревожишь, всё неволишь.
- Что мне они! Хоть ты меня оставь.
- Мое уединение – мое лишь.
- Оно – твое лишь. Изнутри запри
- покрепче перламутровые створки.
- Есть время от зари и до зари.
- Ночь сплющена в его ужайшем сроке.
- Я задвигаю занавес. Бледны
- залив и я в до-утренних кулисах —
- в его, в моих. Но сбивчивой волны
- бег неусыпен в наших схожих лицах.
- Меня ночным прохожим выдает,
- сквозь штор неплотность, лампы процветанье.
- Разоблаченный рампой водоём
- забыл о ней и предается тайне.
- Прощай, гряда, прощай, строка о ней.
- Залив, зачем всё больно, что родимо?
- Как далеко ведет гряда камней,
- не знала я, когда по ней бродила.
«Этот брег – только бред двух схватившихся зорь…»
- Этот брег – только бред двух схватившихся зорь,
- двух эпох, что не равно померялись мощью,
- двух ладоней, прихлопнувших маленький вздор —
- надоевшую невозродимую мошку.
- Пролетал-докучал светлячок-изумруд.
- Усмехнулся историк, заплакал ботаник,
- и философ решал, как потом назовут
- спор фатальных предчувствий и действий батальных.
- Меньше века пройдет, и окажется прав
- не борец-удалец, а добряк энтомолог,
- пожалевший пыльцу, обращенную в прах:
- не летит и не светится – страшно, темно ведь.
- Новых крыл не успели содеять крыла,
- хоть любили, и ждали, и звали кого-то.
- И – походка корява и рожа крива
- у хмельного и злого урода-курорта.
- Но в отдельности – бедствен и жалостен лик.
- Всё покупки, посылки, котомки, баулы.
- Неужель я из них – из писателей книг?
- Нет, мне родственней те, чьи черты слабоумны.
- Как и выжить уму при большом, молодом
- ветре моря и мая, вскрывающем почки,
- под загробный, безвыходный стук молотков,
- в продуктовые ящики бьющий на почте?
- Я на почту пришла говорить в телефон,
- что жива, что люблю. Я люблю и мертвею.
- В провода, съединившие день деловой,
- плач влетает подобно воздушному змею.
- То ль весна сквозь слезу зелена, то ль зрачок
- робкой девочки море увидел и зелен,
- то ль двужилен и жив изумруд-светлячок,
- просто скрытен – теперь его опыт надземен.
- Он следит! Он жалеет! Ему не претит
- приласкать безобразия горб многотрудный.
- Он – слетит и глухому лицу причинит
- изумляющий отсвет звезды изумрудной.
«Ночь: белый сонм колонн надводных. Никого нет…»
- Ночь: белый сонм колонн надводных. Никого нет,
- но воздуха и вод удвоен гласный звук,
- как если б кто-то был и вымолвил: Коонен…
- О ком он? Сонм колонн меж белых твердей двух.
- Я помню голос тот, неродственный канонам
- всех горл: он одинок единогласья средь,
- он плоской высоте приходится каньоном,
- и зренью приоткрыт многопородный срез.
- Я слышала его на поминанье Блока.
- (Как грубо молода в ту пору я была.)
- Из перьев синих птиц, чья вотчина – эпоха
- былая, в дне чужом нахохлилось боа.
- Ни перьев синих птиц, ни поминанья Блока
- уныньем горловым – понять я не могла.
- Но сколько лет прошло! Когда боа поблёкло,
- рок маленький ко мне послал его крыла.
- Оо, какой простор! Но кто сказал: Коонен?
- Акцент долгот присущ волнам и валунам.
- Аа – таков ответ незримых колоколен.
- То – эхо возвратил недальний Валаам.
«Мне дан июнь холодный и пространный…»
- Мне дан июнь холодный и пространный
- и два окна: на запад и восток,
- чтобы в эпитет ночи постоянный
- вникал один, потом другой висок.
- Лишь в полночь меркнет полдень бесконечный,
- оставив блик для рыбы и блесны.
- Преобладанье призелени нежной
- главенствует в составе белизны.
- Уже второго часа половина,
- и белой ночи сложное пятно
- в ее края невхожего павлина
- в залив роняет зрячее перо.
- На любованье маленьким оттенком
- уходит час. Светло, но не рассвет.
- Сверяю свет и слово – так аптекарь
- то на весы глядит, то на рецепт.
- Кирьява-Лахти – имя вод окольных,
- пред-ладожских. Вид из окна – ушел
- в расплывчатость. На белый подоконник
- будильник белый грубо водружен.
- И не бела цветная ночь за ними.
- Фиалки проступают на скале.
- Мерцает накипь серебра в заливе.
- Синеет плащ, забытый на скамье.
- Четвертый час. Усилен блеск фиорда.
- Метнулась птицы взбалмошная тень.
- Распахнуты прозрачные ворота.
- есь розовый, в них входит новый день.
- Еще ночные бабочки роятся.
- В одном окне – фиалки и скала.
- В другом – огонь, и прибылью румянца
- позлащена одна моя скула.
Шестой день июня
- Словно лев, охраняющий важность ворот
- от пролаза воров, от досужего сглаза,
- стерегу моих белых ночей приворот:
- хоть ненадобна лампа, а всё же не гасла.
- Глаз недрёмано-львиный и нынче глядел,
- как темнеть не умело, зато рассветало.
- Вдруг я вспомнила – Чей занимается день,
- и не знала: как быть, так мне весело стало.
- Растревожила печку для пущей красы,
- посылая заре измышление дыма.
- Уу, как стал расточитель червонной казны
- хохотать, и стращать, и гудеть нелюдимо.
- Спал ребенок, сокрыто и стройно летя.
- И опять обожгла безоплошность решенья:
- Он сегодня рожден и покуда дитя,
- как всё это недавно и как совершенно.
- Хватит львом чугунеть! Не пора ль пировать,
- кофеином ошпарив зевок недосыпа?
- Есть гора у меня, и крыльца перевал
- меж теплом и горою, его я достигла.
- О, как люто, как северно блещет вода.
- Упасенье черемух и крах комариный.
- Мало севера мху – он воззрился туда,
- где магнитный кумир обитает незримый.
- Есть гора у меня – из гранита и мха,
- из лишайных диковин и диких расщелин.
- В изначалье ее укрывается мгла
- и стенает какой-то пернатый отшельник.
- Восхожу по крутым и отвесным камням
- и стыжусь, что моя простодушна утеха:
- всё мемории милые прячу в карман —
- то перо, то клочок золотистого меха.
- Наверху возлежит триумфальный валун.
- Без оглядки взошла, но меня волновало,
- что на трудность подъема уходит весь ум,
- оглянулась: сиял Белый скит Валаама.
- В нижнем мраке еще не умолк соловей.
- На возглыбии выпуклом – пекло и стужа.
- Чей прозрачный и полый вон тот силуэт —
- неподвижный зигзаг ускользанья отсюда?
- Этот контур пустой – облаченье змеи,
- «выползина». (О, как Он расспрашивал Даля
- о словечке!) Добычливы руки мои,
- прытки ноги, с горы напрямик упадая.
- Мне казалось, что смотрит нагая змея,
- как себе я беру ее кружев обноски,
- и смеется. Ребенок заждется меня,
- но подарком змеи как упьется он после!
- Но препона была продвижению вниз:
- на скале, под которою зелен мой домик, —
- дрожь остуды, сверканье хрустальных ресниц,
- это – ландыши, мытарство губ и ладоней.
- Дале – книгу открыть и отдать ей цветок,
- в ней и в небе о том перечитывать повесть,
- что румяной зарёю покрылся восток,
- и обдумывать эту чудесную новость.
Черемуха белонощная
- Черемухи вдыхатель, воздыхатель,
- опять я пью настой ее души.
- Пристрастьем этим утомлен читатель,
- но мысль о нём не водится в глуши.
- Май подмосковный жизнь ее рассеял
- и сестрорецкий позабыл июнь.
- Я снегирем преследовала север,
- чтобы врасплох застать ее канун.
- Фиалки собирала Сортавала,
- но главная владычица камней
- еще свои намеренья скрывала,
- еще и слуху не было о ней.
- И кто она? Хоть родом из черемух —
- не ищет и чурается родства.
- Вдоль строгих вод серебряно-чернёных
- из холода она произросла.
- Я – вчуже ей, южна и чужестранна.
- Она не сообщительна в цвету:
- нисколько задушевничать не стала,
- в неволю не пошла на поводу.
- Рубаха-куст, что встрёпан и распахнут,
- ей жалок. У нее другая стать.
- Как замкнуто она, как гордо пахнет —
- ей не пристало ноздри развлекать.
- Когда бы поэтических намёков
- был ведом слог красавице моей, —
- ей был бы предпочтителен Набоков.
- А с челядью – зачем якшаться ей?
- Что делать мне? К вниманию маньяка
- черемуха брезглива и слепа.
- Не ровня ей навязчивый меняла
- запретных тайн на мелкие слова.
- Она – бельмо в моих глазах усталых
- и кисея завесы за окном:
- в ее черте, в урочище русалок
- был возведен бледно-зеленый дом.
- Дом и растенье призрачны на склоне
- горы, бледно-зеленом, как они.
- Все здесь бледны, все зелены, но вскоре
- порозовеет с правой стороны.
- Ночного света маленькая убыль.
- Внутри огня, помоста на краю,
- с какой тоской: – Она меня не любит! —
- я голосом Сальвини говорю.
- Соцветья суверенные повисли,
- но бодрствуют. Кому она верна?
- Зачем не любит? Как ее по-фински
- зовут? С утра спрошу у словаря.
- …Нет надобного словаря в читальне.
- Не утерпевшей на виду не быть,
- пусть имя маски остается в тайне —
- не Блоку же перечить и грубить.
- Записку мне послала Сортавала.
- Чья милая, чья добрая рука
- для блажи чужака приоткрывала
- родную одинокость языка?
- Всё нежность, нежность. И не оттого ли
- растенье потупляет наготу
- пред грубым взором? Ведь она – туоми.
- И кукива туоми, коль в цвету.
- Туоми пуу – дерево. Не легче
- от этого. Вблизи небытия
- ответствует черемухи наречье:
- – Ступай себе. Я не люблю тебя.
- Еще свежа и голову туманит.
- Ужель вся эта хрупкость к сентябрю
- на ягоды пойдет? (Туоменмарьят —
- я с тайным раздраженьем говорю.)
- И снова ночь. Как удалась мгновенью
- такая закись света и темна?
- Туоми, так ли? Я тебе не верю.
- Прощай, Туоми. Я люблю тебя.
«Не то, чтоб я забыла что-нибудь…»
- Не то, чтоб я забыла что-нибудь, —
- я из людей, и больно мне людское, —
- но одинокий мной проторен путь:
- взойти на высший камень и вздохнуть,
- и всё смотреть на озеро морское.
- Туда иду, куда меня ведут
- обочья скал, лиловых от фиалок.
- Возглавие окольных мхов – валун.
- Я вглядываюсь в север и в июнь,
- их распластав внизу, как авиатор.
- Меня не опасается змея:
- взгляд из камней недвижен и разумен.
- Трезубец воли, скрытой от меня,
- связует воды, глыбы, времена
- со мною и пространство образует.
- Поднебно вздыбье каменных стропил.
- Кто я? Возьму державинское слово:
- я – некакий. Я – некий нетопырь,
- не тороплив мой лёт и не строптив
- чуть выше обитания земного.
- Я думаю: вернуться ль в род людей,
- остаться ль здесь, где я не виновата
- иль прощена? Мне виден ход ладей
- пред-ладожский и – дальше и левей —
- нет, в этот миг не видно Валаама.
«Здесь никогда пространство не игриво…»
- Здесь никогда пространство не игриво,
- но осторожный анонимный цвет —
- уловка пряток, ночи мимикрия:
- в среде черемух зримой ночи нет.
- Но есть же! – это мненье циферблата,
- два острия возведшего в зенит.
- Благоуханье не идет во благо
- уму часов: он невпопад звенит.
- Бескровны формы неба и фиорда.
- Их полых впадин кем-то выпит цвет.
- Диковиной японского фарфора
- черемухи подрагивает ветвь.
- Всславив полночь дребезгами бреда,
- часы впадают в бледность забытья.
- Взор занят обреченно и победно
- черемуховой гроздью бытия.
«Под горой – дом-горюн, дом-горыныч живет…»
- Под горой – дом-горюн, дом-горыныч живет,
- от соседства-родства упасенный отшибом.
- Лишь увидела дом – я подумала: вот
- обиталище надобных снов и ошибок.
- В его главном окне обитает вода,
- назовем ее Ладогой с малой натяжкой.
- Не видна, но Полярная светит звезда
- в потайное окно, притесненное чащей.
- В эти створки гляжу, как в чужой амулет
- иль в укрытие слизня, что сглазу не сносит.
- Склон горы, опрокинувшись и обомлев,
- дышит жабрами щелей и бронхами сосен.
- Дом причастен воде и присвоен горой.
- Помыкают им в очередь волны и камни.
- Понукаемы сдвоенной белой зарей
- преклоненье хребта и хвоста пресмыканье.
- Я люблю, что его чешуя зелена.
- И ночному прохожему видно с дороги,
- как черемухи призрак стоит у окна
- и окна выражение потусторонне.
- Дому придан будильник. Когда горизонт
- расплывется и марля от крыльев злотворных
- добавляет туману, – пугающий звон
- издает заточенный в пластмассу затворник.
- Дребезжит самовольный перпетуум-плач.
- Ветвь черемухи – большего выпуклый образ.
- Второгодник, устав от земных неудач,
- так же тупо и пристально смотрит на глобус.
- Полночь – вот вопросительной ветви триумф.
- И незримый наставник следит с порицаньем.
- О решенье задачи сносился мой ум.
- Вид пособья наглядного непроницаем.
- Скудость темени – свалка пустот и чернот.
- Необщительность тайны меня одолеет.
- О, узреть бы под утро прозрачный чертог
- вместо зыбкого хаоса, как Менделеев.
- Я измучилась на белонощном посту,
- и черемуха перенасыщена мною.
- Я, под панцирем дома, во мхи уползу
- и лицо оплесну неразгаданной мглою.
- Покосившись на странность занятий моих,
- на работу идет непроснувшийся малый.
- Он не знает, что грустно любим в этот миг
- изнуренным окном, перевязанным марлей.
- Кто прощает висок, не познавший основ?
- Кто смешливый и ласковый смотрит из близи?
- И колышется сон… убаюканный сон…
- сон-аргентум в отчетливой отчей таблице.
«Я – лишь горы моей подножье…»
- Я – лишь горы моей подножье,
- и бытия величина
- в жемчужной раковине ночи
- на весь июнь заточена.
- Внутри немеркнущего нимба
- души прижился завиток.
- Иль Ибсена закрыта книга,
- а я – засохший в ней цветок.
- Всё кличет кто-то: Сольвейг! Сольвейг! —
- в чащобах шхер и словарей.
- И, как на исповеди совесть,
- блаженно страждет соловей.
- В жемчужной раковине ночи,
- в ее прозрачной свето-тьме
- не знаю я сторонней нови,
- ее гонец не вхож ко мне.
- Мгновенье сомкнутого ока
- мою зеницу бережет.
- Не сбережет: меня жестоко
- всеобщий призовет рожок.
- Когда в июль слепящий выйду
- и вспомню местность и людей,
- привыкну ль я к чужому виду
- наружных черт судьбы моей?
- Дни станут жарче и короче,
- и чайка выклюет чуть свет
- в жемчужной раковине ночи
- невзрачный водянистый след.
«Где Питкяранта? Житель питкярантский…»
- Где Питкяранта? Житель питкярантский
- собрался в путь. Автобус дребезжит.
- Мой тайный глаз, живущий под корягой,
- автобуса оглядывает жизнь.
- Пока стоим. Не поспешает к цели
- сквозной приют скитальцев и сирот.
- И силуэт старинной финской церкви
- в проёме арки скорбно предстает.
- Грейпфрут – добыча многих. Продавала
- торговли придурь неуместный плод.
- Эх, Сердоболь, эх, город Сортавала!
- Нюх отворён и пришлый запах пьет.
- Всех обликов так скудно выраженье,
- так загнан взгляд и неказиста стать,
- словно они эпоху Возрожденья
- должны опровергать и попирать.
- В дверь, впопыхах, три девушки скакнули.
- Две первые пригожи, хоть грубы.
- Содеяли уроки физкультуры
- их наливные руки, плечи, лбы.
- Но простодушна их живая юность,
- добротна плоть, и дело лишь за тем
- (он, кстати, рядом), кто зрачков угрюмость
- примерит к зову их дремотных тел.
- Но я о той, о третьей их подруге.
- Она бледна, расплывчато полна,
- пьяна, но четко обнимают руки
- припасы бедной снеди и вина.
- Совсем пьяна, и сонно и безгрешно
- пустует глаз, безвольно голубой,
- бесцветье прядей Ладоге прибрежно,
- бесправье черт простёрто пред судьбой.
- Поехали! И свалки мимолётность
- пронзает вдруг единством и родством:
- котомки, тетки, дети, чей-то локоть —
- спасемся ль, коль друг в друга прорастём?
- Гремим и едем. Хвойными грядами
- обведено сверкание воды.
- На всех балконах – рыбьих душ гирлянды.
- Фиалки скал издалека видны.
- Проносится роскошный дух грейпфрута,
- словно гуляка, что тряхнул мошной.
- Я озираю, мучась и ревнуя,
- сокровища черемухи сплошной.
- Но что мне в этой, бледно-белой, блёклой,
- с кульками и бутылками в руках?
- Взор, слабоумно-чистый и далекий,
- оставит грамотея в дураках.
- Ее толкают: – Танька! – дремлет Танька,
- но сумку держит цепкостью зверька.
- Блаженной, древней исподволи тайна
- расширила бессмыслицу зрачка.
- Должно быть, снимок есть на этажерке:
- в огромной кофте Танька лет пяти.
- Готовность к жалкой и неясной жертве
- в чертах приметна и сбылась почти.
- Да, этажерка с розаном, каморка.
- В таких стенах роль сумки велика.
- Брезгливого и жуткого кого-то
- в свой час хмельной и Танька завлекла.
- Подружек ждет обнимка танцплощадки,
- особый смех, прищуриванье глаз.
- Они уйдут. А Таньке нет пощады.
- Пусть мается – знать, в мае родилась.
- С утра не сыщет маковой росинки.
- Окурки, стужа, лютая кровать.
- Как размыкать ей белые ресницы?
- Как миг снести и век провековать?
- Мне – выходить. Навек я Таньку брошу.
- Но всё она стоит передо мной.
- С особенной тоской я вижу брошку:
- юродивый цветочек жестяной.
Ночное
- Ночные измышленья, кто вы, что вы?
- Мне жалко вашей робкой наготы.
- Жаль, что нельзя, нет сил надвинуть шторы
- на дождь в окне, на мокрые цветы.
- Всё отгоняю крылья херувима
- от маленького ада ночника.
- Черемуха – слепая балерина —
- последний акт печально начала.
- В чём наша связь, писания ночные?
- Вы – белой ночи собственная речь.
- Она пройдет – и вот уже ничьи вы.
- О ней на память надо ль вас беречь?
- И белый день туманен, белонощен.
- Вниз поглядеть с обрыва – всё равно
- что выхватить кинжал из мягких ножен:
- так вод холодных остро серебро.
- Дневная жизнь – уловка, ухищренье
- приблизить ночь. Опаска всё сильней:
- а вдруг вчера в над-ладожском ущелье
- дотла испепелился соловей?
- Нет, Феникс мой целёхонек и свищет:
- слог, слог – тире, слог, слог – тире, тире.
- Пунктира ощупь темной цели ищет,
- и слаще слова стопор слов в строке.
- Округла полночь. Всё свежо, всё внове.
- Я из чужбины общей ухожу
- и возвращаюсь в отчее, в ночное.
- В ночное – что? В ночное – что хочу.
«Вся тьма – в отсутствии, в опале…»
- Вся тьма – в отсутствии, в опале,
- да несподручно без огня.
- Пишу, читаю – но лампады
- нет у людей, нет у меня.
- Электрик запил, для элегий
- тем больше у меня причин,
- но выпросить простых энергий
- не удалось мне у лучин.
- Верней, лучинушки-лучины
- не добыла, в сарай вошед:
- те, кто мотиву научили,
- сокрыли, как светец возжечь.
- Немногого недоставало,
- чтоб стала жизнь моя красна,
- веретено мое сновало,
- свисала до полу коса.
- А там, в рубахе кумачовой,
- а там, у белого куста…
- Ни-ни! Брусникою мочёной
- прилежно заняты уста.
- И о свече – вотще мечтанье:
- где нынче взять свечу в глуши?
- Не то бы предавалась тайне
- душа вблизи ее души.
- Я б села с кротким рукодельем…
- ах, нет, оно несносно мне.
- Спросила б я: – О, Дельвиг, Дельвиг,
- бела ли ночь в твоем окне?
- Мне б керосинового света
- зеленый конус, белый круг —
- в канун столетия и лета,
- где сад глубок и берег крут.
- Меня б студента-златоуста
- пленял мундир, пугал апломб.
- «Так говори, как Заратустра!» —
- он написал бы в мой альбом.
- Но всё это пустая грёза.
- Фонарик есть, да нет в нём сил.
- Ночь и электрик правы розно:
- в ночь у него родился сын.
- Спасибо вечному обмену:
- и ночи цвет не поврежден,
- и посрамленному Амперу
- соперник новый нарожден.
- После полуночи темнеет —
- не вовсе, не дотла, едва.
- Все спать улягутся, но мне ведь
- привычней складывать слова.
- Я авторучек в автолавке
- больной букет приобрела:
- темны их тайные таланты,
- но масть пластмассы так бела.
- Вот пальцы зоркие поймали
- бег анемичного пера.
- А дальше просто: лист бумаги
- чуть ярче общего пятна.
- Несупротивна ночи белой
- неразличимая строка.
- Но есть светильник неумелый —
- сообщник моего окна.
- Хранит меня во тьме короткой,
- хранит во дне, хранит всегда
- черемухи простонародной
- высокородная звезда.
- Вдруг кто-то сыщется и спросит:
- зачем при ней всю ночь сижу?
- Что я отвечу? Хрупкий отсвет,
- как я должна, так обвожу.
- Прости, за то прости, читатель,
- что я не смыслов поставщик,
- а вымыслов приобретатель
- черемуховых и своих.
- Электрик, загулявший на ночь,
- сурово смотрит на зарю
- и говорит: «Всё сочиняешь?» —
- «Всё починяешь?» – говорю.
- Всяк о своем печётся свете
- и возгорается, смеясь,
- залатанной электросети
- с вот этими стихами связь.
«Лапландских летних льдов недальняя граница…»
- Лапландских летних льдов недальняя граница.
- Хлад Ладоги глубок, и плавен ход ладьи.
- Ладони ландыш дан и в ладанке хранится.
- И ладен строй души, отверстой для любви.
- Есть разве где-то юг с его латунным пеклом?
- Брезгливо серебро к затратам золотым.
- Ночь-римлянка влачит свой белоснежный пеплум.
- (Латуни не нашлось, так сыщется латынь.)
- Приладились слова к приладожскому ладу.
- (Вкруг лада – всё мое, Брокгауз и Ефрон.)
- Ум – гения черта, но он вредит таланту:
- стих, сочиненный им, всегда чуть-чуть соврёт.
- В околицах ума, в рассеянных чернотах,
- ютится бедный дар и пробует сказать,
- что он не позабыл Ладыжинских черемух
- в пред-ладожской стране, в над-ладожских скалах.
- Лещинный мой овраг, разлатанный, ледащий,
- мной обольщен и мной приважен к похвалам.
- Валунный водолей, над Ладогой летящий,
- благослови его, владыко Валаам.
- Черемух розных двух пересеченьем тайным
- мой помысел ночной добыт и растворен
- в гордыне бледных сфер, куда не вхож ботаник, —
- он, впрочем, не вступал в безумный разговор.
- Фотограф знать не мог, что выступит на снимке
- присутствие судьбы и дерева в окне.
- Средь схемы световой – такая сила схимы
- в зрачке, что сил других не остается мне.
- Лицо и речь – души неодолимый подвиг.
- В окладе хладных вод сияет день младой.
- Меж утомленных век смешались полночь, полдень,
- лад, Ладога, ладонь и сладкий сон благой.
«Всё шхеры, фиорды, ущельных существ…»
- Всё шхеры, фиорды, ущельных существ
- оттуда пригляд, куда вживе не ходят.
- Скитания омутно-леший сюжет,
- остуда и оторопь, хвоя и холод.
- Зажжён и не гаснет светильник сырой.
- То – Гамсуна пагуба и поволока.
- С налёту и смолоду прянешь в силок —
- не вырвешь души из его приворота.
- Болотный огонь одолел, опалил.
- Что – белая ночь? Это имя обманно.
- Так назван условно маньяк-аноним,
- чьим бредням моя приглянулась бумага.
- Он рыщет и свищет, и виснут усы,
- и девушке с кухни понятны едва ли
- его бормотанья: – Столь грешные сны
- страшны или сладостны фрёкен Эдварде?
- О, фрёкен Эдварда, какая тоска —
- над вечно кипящей геенной отвара
- помешивать волны, клубить облака —
- какая отвага, о фрёкен Эдварда!
- И девушка с кухни страшится и ждет.
- Он сгинул в чащобе – туда и дорога.
- Но огненной порчей смущает и жжет
- наитье прохладного глаза дурного.
- Я знаю! Сама я гоняюсь в лесах
- за лаем собаки, за гильзой пустою,
- за смехом презренья в отравных устах,
- за гибелью сердца, за странной мечтою.
- И слышится в сырости мха и хвоща:
- – Как скушно! Ничто не однажды, всё – дважды
- иль многажды. Ждет не хлыста, а хлыща
- звериная душенька фрёкен Эдварды.
- Все фрёкен Эдварды во веки веков
- бледны от белил захолустной гордыни.
- Подале от них и от их муженьков!
- Обнимемся, пёс, мы свободны отныне.
- И – хлыст оставляет рубец на руке.
- Пёс уши уставил в мой шаг осторожный.
- – Смотри, – говорю, – я хожу налегке:
- лишь посох, да плащ, да сапог остроносый.
- И мне, и тебе, белонощный собрат,
- двоюродны люди и ровня – наяды.
- Как мы – так никто не глядит на собак.
- Мы встретились – и разминёмся навряд ли.
- Так дивные дива в лесу завелись.
- Народ собирался и медлил с облавой —
- до разрешенья ответственных лиц
- покончить хотя бы с бездомной собакой.
- С утра начинает судачить табльдот
- о призраках трёх, о кострах их наскальных.
- И девушка с кухни кофейник прольет
- и слепо и тупо взирает на скатерть.
- Двоится мой след на росистом крыльце.
- Гость-почерк плетет письмена предо мною.
- И в новой, чужой, за-озерной красе
- лицо провинилось пред явью дневною.
- Всё чушь, чешуя, серебристая чудь.
- И девушке с кухни до страсти охота
- и страшно – крысиного яства чуть-чуть
- добавить в унылое зелье компота.
«Так бел, что опаляет веки…»
- Так бел, что опаляет веки,
- кратчайшей ночи долгий день,
- и белоручкам белошвейки
- прощают молодую лень.
- Оборок, складок, кружев, рюшей
- сегодня праздник выпускной
- и расставанья срок горючий
- моей черемухи со мной.
- В ночи девичьей, хороводной
- есть болетворная тоска.
- Ее, заботой хлороформной,
- туманят действия цветка.
- Воскликнет кто-то: знаем, знаем!
- Приелся этот ритуал!
- Но всех поэтов всех избранниц
- кто не хулил, не ревновал?
- Нет никого для восклицаний:
- такую я сыскала глушь,
- что слышно, как, гонимый цаплей,
- в расщелину уходит уж.
- Как плавно выступала пава,
- пока была ее пора! —
- опалом пагубным всплывала
- и Анной Павловой плыла.
- Еще ей рукоплещут ложи,
- еще влюблен в нее бинокль —
- есть время вымолвить: о Боже! —
- нет черт в ее лице больном.
- Осталась крайность славы: тризна.
- Растенье свой триумф снесло,
- как знаменитая артистка, —
- скоропостижно и светло.
- Есть у меня чулан фатальный.
- Его окно темнит скала.
- Там долго гроб стоял хрустальный,
- и в нём черёмуха спала.
- Давно в округе обгорело,
- быльём зеленым поросло
- ее родительское древо
- и всё недальнее родство.
- Уж примерялись банты бала.
- Пылали щёки выпускниц.
- Красавица не открывала
- дремотно-приторных ресниц.
- Пеклась о ней скалы дремучесть
- всё каменистей, всё лесней.
- Но я, любя ее и мучась, —
- не королевич Елисей.
- И главной ночью длинно-белой,
- вблизи неутолимых глаз,
- с печальной грацией несмелой
- царевна смерти предалась.
- С неизъяснимою тоскою,
- словно былую жизнь мою,
- я прах ее своей рукою
- горы подножью отдаю.
- – Еще одно настало лето, —
- сказала девочка со сна.
- Я ей заметила на это:
- – Еще одна прошла весна.
- Но жизнь свежа и беспощадна:
- в черемухи прощальный день
- глаз безутешный – мрачно, жадно
- успел воззриться на сирень.
«Лишь июнь сортавальские воды согрел…»
- Лишь июнь сортавальские воды согрел —
- поселенья опальных черемух сгорели.
- Предстояла сирень, и сильней и скорей,
- чем сирень, расцвело обожанье к сирени.
- Тьмам цветений назначил собор Валаам.
- Был ли молод монах, чье деянье сохранно?
- Тосковал ли, когда насаждал-поливал
- очертания нерукотворного храма?
- Или старец, готовый пред Богом предстать,
- содрогнулся, хоть глубь этих почв не червива?
- Суммой сумрачной заросли явлена страсть.
- Ослушанье послушника в ней очевидно.
- Это – ересь июньских ночей на устах,
- сон зрачка, загулявший по ладожским водам.
- И не виден мне богобоязненный сад,
- дали ветку сирени – и кажется: вот он.
- У сиреневых сводов нашелся один
- прихожанин, любое хожденье отвергший.
- Он глядит нелюдимо и сиднем сидит,
- и крыльцу его – в невидаль след человечий.
- Он заране запасся скалою в окне.
- Есть сусек у него: ведовская каморка.
- Там он держит скалу, там случалось и мне
- заглядеться в ночное змеиное око.
- Он хватает сирень и уносит во мрак
- (и выносит черемухи остов и осыпь).
- Не причастен сему светлоликий монах,
- что терпеньем сирени отстаивал остров.
- Наплывали разбой и разор по волнам.
- Тем вольней принималась сирень разрастаться.
- В облаченье лиловом вставал Валаам,
- и смотрело растенье в глаза святотатца.
- Да, хватает, уносит и смотрит с тоской,
- обожая сирень, вожделея сирени.
- В чернокнижной его кладовой колдовской
- борода его кажется старше, синее.
- Приворотный отвар на болотном огне
- закипает. Летают крылатые мыши.
- Помутилась скала в запотевшем окне:
- так дымится отравное варево мысли.
- То ль юннат, то ли юный другой следопыт
- был отправлен с проверкою в дом под скалою.
- Было рано. Он чая еще не допил.
- Он ушел, не успев попрощаться с семьёю.
- Он вернулся не скоро и вчуже смотрел,
- говорил неохотно, держался сурово.
- – Там такие дела, там такая сирень, —
- проронил – и другого не вымолвил слова.
- Относили затворнику новый журнал,
- предлагали газету, какую угодно.
- Никого не узнал. Ничего не желал.
- Грубо ждал от смущенного гостя – ухода.
- Лишь остался один – так и прыгнул в тайник,
- где храним ненаглядный предмет обожанья.
- Как цветет его радость! Как душу томит,
- обещать не умея и лишь обольщая!
- Неужели нагрянут, спугнут, оторвут
- от судьбы одинокой, другим не завидной?
- Как он любит теченье ее и триумф
- под скалою лесною, звериной, змеиной!
- Экскурсантам, что свойственны этим местам,
- начал было твердить предводитель экскурсий:
- вот-де дом под скалой… Но и сам он устал,
- и народу казалась история скушной.
- Был забыт и прощён ее скромный герой:
- отсвет острова сердце склоняет к смиренью.
- От свершений мирских упасаем горой,
- пусть сидит со своей монастырской сиренью.
«То ль потому, что ландыш пожелтел…»
- То ль потому, что ландыш пожелтел
- и стал невзрачной пользою аптечной,
- то ль отвращенье возбуждал комар
- к съедобной плоти – родственнице тел,
- кормящихся добычей бесконечной,
- как и пристало лакомым кормам…
- То ль потому, что встретилась змея, —
- я бы считала встречу добрым знаком,
- но так она не расплела колец,
- так равнодушно видела меня,
- как если б я была пред вещим зраком
- пустым экраном с надписью: «конец»…
- То ль потому, что смерклось на скалах
- и паузой ответила кукушка
- на нищенский и детский мой вопрос, —
- схоласт-рассудок явственно сказал,
- что мне мое не удалось искусство, —
- и скушный холод в сердце произрос.
- Нечаянно рука коснулась лба:
- в чём грех его? в чём бедная ошибка?
- Достало и таланта, и ума,
- но слишком их таинственна судьба:
- окраинней и глуше нет отшиба,
- коль он не спас – то далее куда?
- Вчера, в июня двадцать третий день,
- был совершенен смысл моей печали,
- как вид воды – внизу, вокруг, вдали.
- Дано ль мне знать, как глаз змеи глядел?
- Те, что на скалах, ландыши увяли,
- но ландыши низин не отцвели.
«Сверканье блёсен, жалобы уключин…»
- Сверканье блёсен, жалобы уключин.
- Лишь стол и я смеемся на мели.
- Все ловят щук. Зато веленьем щучьим
- сбываются хотения мои.
- Лилового махрового растенья
- хочу! – сгустился робкий аметист
- до зауми чернильного оттенка,
- чей мрачный слог мастит и знаменит.
- Исчадье дальне-родственных династий,
- породы упованье и итог, —/li>
- пустив на буфы бархат кардинальский,
- цветок вступает в скудный мой чертог.
- Лишь те, чей путь – прыжок из грязи в князи,
- пугаются кромешности камор.
- А эта гостья – на подмостках казни
- войдет в костер: в обыденный комфорт.
- Каморки заковыристой отшелье —
- ночных крамол и таинств закрома.
- Не всем домам дано вовнутрь ущелье.
- Нет, не во всех домах живет скала.
- В моём – живет. Мох застилает окна.
- И Север, преступая перевал,
- захаживает и туманит стёкла,
- вот и сегодня вспомнил, побывал.
- Красе цветка отечественна здравость
- темнот застойных и прохладных влаг.
- Он полюбил чужбины второзданность:
- чащобу-дом, дом-волю, дом-овраг.
- Явилась в нём нездешняя осанка,
- и выдаст обращенья простота,
- что эта, под вуалем, чужестранка —
- к нам ненадолго и не нам чета.
- Кровь звёзд и бездн под кожей серебрится,
- и запах умоляюще не смел,
- как слабый жест: ненадобно так близко!
- здесь – грань прозрачных и возбранных сфер.
- Высокородный выкормыш каморки
- приемлет лилий флорентийских весть,
- обмолвки, недомолвки, оговорки
- вобрав в лилейный и лиловый цвет.
- Так, усмотреньем рыбы востроносой,
- в теснине каменистого жилья,
- со мною делят сумрак осторожный
- скала, цветок и ночь-ворожея.
- Чтоб общежитья не смущать основы
- и нам пред ним не возгордиться вдруг,
- приходят блики, промельки, ознобы
- и замыкают узко-стройный круг.
- – Так и живете? – Так живу, представьте.
- Насущнее всех остальных проблем —
- оставленный для Ладоги в пространстве
- и Ладогой заполненный пробел.
- Соединив живой предмет и образ,
- живет за дважды каменной стеной
- двужильного уединенья доблесть,
- обняв сирень, оборонясь скалой.
- А этот вот, бредущий по дороге,
- невзгодой оглушенный человек
- как связан с домом на глухом отроге
- судьбы, где камень вещ и островерх?
- Всё связано, да объяснить не просто.
- Скала – затем, чтоб тайну уберечь.
- Со временем всё это разберется.
- Сейчас – о ночи и сирени речь.
«Вошла в лиловом в логово и в лоно…»
- Вошла в лиловом в логово и в лоно
- ловушки – и благословил ловец
- всё, что совсем, почти, едва лилово
- иль около-лилово, наконец.
- Отметина преследуемой масти,
- вернись в бутон, в охранную листву:
- всё, что повинно в ней хотя б отчасти,
- несет язычник в жертву божеству.
- Ему лишь лучше, если цвет уклончив:
- содеяв колоколенки разор,
- он нехристем напал на колокольчик,
- но распалил и не насытил взор.
- Анютиных дикорастущих глазок
- здесь вдосталь, и, в отсутствие Анют,
- их дикие глаза на скалолазов
- глядят, покуда с толку не собьют.
- Маньяк бросает выросший для взгляда
- цветок к ногам лиловой госпожи.
- Ей всё равно. Ей ничего не надо,
- но выговорить лень, чтоб прочь пошли.
- Лишь кисть для акварельных окроплений
- и выдох жабр, нырнувших в акваспорт,
- нам разъясняют имя аквилегий,
- и попросту выходит: водосбор.
- В аквариум окраины садовой
- растенье окунает плавники.
- Завидев блеск серебряно-съедобный,
- охотник чайкой прянул в цветники.
- Он страшен стал! Он всё влачит в лачугу
- к владычице, к обидчице своей.
- На Ладоги вечернюю кольчугу
- он смотрит всё угрюмей и сильней.
- Его терзает сизое сверканье
- той части спектра, где сидит фазан.
- Вдруг покусится на перо фазанье
- запреты презирающий азарт?
- Нам повезло: его глаза воззрились
- на цветовой потуги абсолют —
- на ирис, одинокий, как Озирис
- в оазисе, где лютик робко-лют.
- Не от сего он мира – и погибнет.
- Ущербно-львиный по сравненью с ним,
- в жилище, баснословном, как Египет,
- сфинкс захолустья бредит и не спит.
- И даже этот волокита-рыцарь,
- чьи притязанья отемнили дом, —
- бледнеет раб и прихвостень царицын,
- лиловой кровью замарав ладонь.
- Вот – идеал. Что идол, что идея!
- Он – грань, пред-хаос, крайность красоты,
- устойчивость и грация изделья
- на волосок от роковой черты.
- Покинем ирис до его скончанья —
- тем боле что лиловости вампир,
- владея ею и по ней скучая,
- припас чернил давно до дна допил.
- Страдание сознания больного —
- сирень, сиречь: наитье и напасть.
- И мглистая цветочная берлога —
- душно-лилова, как медвежья пасть.
- Над ней – дымок, словно она – Везувий
- и думает: не скушно ль? не пора ль?
- А я? Умно ль – Офелией безумной
- цветы сбирать и песню напевать?
- Плутаю я в пространном фиолете.
- Свод розовый стал меркнуть и синеть.
- Пришел художник, заиграл на флейте.
- Звана сирень – ослышалась свирель.
- Уж примелькалась слуху их обнимка,
- но дудочка преследует цветок.
- Вот и сейчас – печально, безобидно
- всплыл в сумерках их общий завиток.
- Как населили этот вечер летний
- оттенков неземные мотыльки!
- Но для чего вошел художник с флейтой
- в проём вот этой прерванной строки?
- То ль звук меня расстроил неискомый,
- то ль хрупкий неприкаянный артист
- какой-то незапамятно-иконный,
- прозрачный свет держал между ресниц, —
- но стало грустно мне, так стало грустно,
- словно в груди всплакнула смерть птенца.
- Сравненью ужаснувшись, трясогузка
- улепетнула с моего крыльца.
- Что делаю? Чего ищу в сирени —
- уж не пяти, конечно, лепестков?
- Вся жизнь моя – чем старе, тем страннее.
- Коль есть в ней смысл, пора бы знать: каков?
- Я слышу – ошибаюсь неужели? —
- я слышу в еженощной тишине
- неотвратимой воли наущенье —
- лишь послушанье остается мне.
- Лишь в полночь весть любовного ответа
- явилась изумленному уму:
- отверстая заря была со-цветна
- цветному измышленью моему.
«Пора, прощай, моя скала…»
- Пора, прощай, моя скала,
- и милый дом, и в нём каморка,
- где всё моя сирень спала, —
- как сновиденно в ней, как мокро!
- В опочивальне божества,
- для козней цвета и уловок,
- подрагивают существа
- растений многажды лиловых.
- В свой срок ступает на порог
- акцент оттенков околичных:
- то маргариток говорок,
- то орхидеи архаичность.
- Фиалки, водосбор, люпин,
- качанье перьев, бархат мантий.
- Но ирис боле всех любим:
- он – средоточье черных магий.
- Ему и близко равных нет.
- Мучителен и хрупок облик,
- как вывернутость тайных недр
- в кунсткамерных прозрачных колбах.
- Горы подножье и подвал —
- словно провал ума больного.
- Как бедный Врубель тосковал!
- Как всё безвыходно лилово!
- Но зачарован мой чулан.
- Всего, что вне, душа чуралась,
- пока садовник учинял
- сад: чудо-лунность и чуланность.
- И главное: скалы визит
- сквозь стену и окно глухое.
- Вошла – и тяжело висит,
- как гобелен из мха и хвои.
- А в комнате, где правит стол,
- есть печь – серебряная львица.
- И соловьиный произвол
- в округе белонощной длится.
- О чём уста ночных молитв
- так воздыхают и пекутся?
- Сперва пульсирует мотив
- как бы в предсердии искусства.
- Всё горячее перебой
- артерии сакраментальной,
- но бесполезен перевод
- и суесловен комментарий.
- Сомкнулись волны, валуны,
- канун разлуки подневольной,
- ночь белая и часть луны
- над Ладогою хладноводной.
- Ночь, соловей, луна, цветы —
- круг стародавних упований.
- Преуспеянью новизны
- моих не нужно воспеваний.
- Она б не тронула меня!
- Я – ей вреда не причиняла
- во глубине ночного дня,
- в челне чернильного чулана.
- Не признавайся, соловей,
- не растолковывай, мой дальний,
- в чём смысл страдальческой твоей
- нескладицы исповедальной.
- Пусть всяко понимает всяк
- слогов и пауз двуединость,
- утайки маленькой пустяк —
- заветной тайны нелюдимость.
«Сирень, сирень – не кончилась бы худом…»
- Сирень, сирень – не кончилась бы худом
- моя сирень. Боюсь, что не к добру
- в лесу нашла я разоренный хутор
- и у него последнее беру.
- Какое место уготовил дому
- разумный финн! Блеск озера слезил
- зрачок, когда спускалась за водою
- красавица, а он за ней следил.
- Как он любил жены златоволосой
- податливый и плодоносный стан!
- Она, в невестах, корень приворотный
- заваривала – он о том не знал.
- Уже сынок играл то в дровосека,
- то в плотника, и здраво взгляд синел, —
- всё мать с отцом шептались до рассвета,
- и всё цвела и сыпалась сирень.
- В пять лепестков она им колдовала
- жить-поживать и наживать добра.
- Сама собой слагалась Калевала
- во мраке хвой вкруг светлого двора.
- Не упасет неустрашимый Калев
- добротной, животворной простоты.
- Всё в бездну огнедышащую канет.
- Пройдет полвека. Устоят цветы.
- Душа сирени скорбная витает —
- по недосмотру бывших здесь гостей.
- Кто предпочел строению – фундамент,
- румяной плоти – хрупкий хруст костей?
- Нашла я доску, на которой режут
- хозяйки снедь на ужинной заре, —
- и заболел какой-то серый скрежет
- в сплетенье солнц, в дыхательном ребре.
- Зачем мой ход в чужой цветник вломился?
- Ужель, чтоб на кладбище пировать
- и языка чужого здравомыслье
- возлюбленною речью попирать?
- Нет, не затем сирени я добытчик,
- что я сирень без памяти люблю
- и многотолпен стал ее девичник
- в сырой пристройке, в северном углу.
- Всё я смотрю в сиреневые очи,
- в серебряные воды тишины.
- Кто помышлял: пожалуй, белой ночи
- достаточно – и дал лишь пол-луны?
- Пред-северно, продольно, сыровато.
- Залив стоит отвесным серебром.
- Дождит, и отзовется Сортавала,
- коли ее окликнешь: Сердоболь.
- Есть у меня будильник, полномочный
- не относиться к бдению иль сну.
- Коль зазвенит – автобус белонощный
- я стану ждать в двенадцатом часу.
- Он появляться стал в канун сирени.
- Он начал до потопа, до войны
- свой бег. Давно сносились, устарели
- его крыла, и лица в нём бледны.
- Когда будильник полночи добьется
- по усмотренью только своему,
- автобус белонощный пронесется —
- назад, через потоп, через войну.
- В обратность дней, вспять времени и смысла,
- гремит его брезентовый шатёр.
- Погони опасаясь или сыска,
- тревожно озирается шофер.
- Вдоль берега скалистого, лесного
- летит автобус – смутен, никаков.
- Одна я слышу жуткий смех клаксона,
- хочу вглядеться в лица седоков.
- Но вижу лишь бескровный и зловещий
- туман обличий и не вижу лиц.
- Всё это как-то связано с зацветшей
- сиренью возле старых пепелищ.
- Ужель спешат к владениям отцовским,
- к пригожим женам, к милым сыновьям.
- Конец июня: обоняньем острым
- о сенокосе грезит сеновал.
- Там – дом смолист, нарядна черепица.
- Красавица ведро воды несла —
- так донесла ли? О скалу разбиться
- автобусу бы надо, да нельзя.
- Должна ль я снова ждать их на дороге
- на Питкяранту? (Славный городок,
- но как-то грустно, и озябли ноги,
- я ныне странный и плохой ходок.)
- Успею ль сунуть им букет заветный
- и прокричать: – Возьми, несчастный друг! —
- в обмен на скользь и склизь прикосновений
- их призрачных и благодарных рук.
- Легко ль так ночи проводить, а утром,
- чей загодя в ночи содеян свет,
- опять брести на одинокий хутор
- и уносить сирени ветвь и весть.
- Мой с диким механизмом поединок
- надолго ли? Хочу чернил, пера
- или заснуть. Но вновь блажит будильник.
- Беру сирень. Хоть страшно – но пора.
«– Что это, что? – Спи, это жар во лбу…»
- – Что это, что? – Спи, это жар во лбу.
- – Чьему же лбу такое пламя впору?
- Кто сей со лбом и мыслью лба: веду
- льва в поводу и поднимаюсь в гору?
- – Не дать ли льда изнеможенью лба?
- – Того ли лба, чья знала дальновидность,
- где валуны воздвигнуть в память льда:
- де, чти, простак, праматерь ледовитость?
- – Испей воды и не дотла сгори.
- Всё хорошо. Вот склянки, вот облатки.
- – Со лбом и львом уже вверху горы:
- клубится грива и сверкают латы.
- – Спи, это бред, испекший ум в огне.
- – Тот, кто со львом, и лев идут к порогу.
- Коль это мой разыгран бред вовне,
- пусть гением зовут мою хворобу.
- И тот, кого так сильно… тот, кому
- прискучил блеск быстротекучей ртути,
- подвёл меня к замёрзшему окну,
- и много счастья было в той минуте.
- С горы небес шел латник золотой.
- Среди ветвей, оранжевая, длилась
- его стезя – неслышимой пятой
- след голубой в ней пролагала львиность.
- Вождь льва и лев вблизь подошли ко мне.
- Мороз и солнце – вот в чём было дело.
- Так день настал – девятый в декабре.
- А я болела и в окно глядела.
- Затмили окна, затворили дом
- (день так сиял!), задвинули ворота.
- Так страшно сердце расставалось с Днём,
- как с тою – тот, где яд, клинок, Верона.
- Уж много раз менялись свет и темь.
- В пустыне мглы, в тоске неодолимой,
- сиротствует и полыхает День,
- мой не воспетый, мой любимый – львиный.
Ёлка в больничном коридоре
- В коридоре больничном поставили ёлку. Она
- и сама смущена, что попала в обитель страданий.
- В край окна моего ленинградская входит луна
- и недолго стоит: много окон и много стояний.
- К той старухе, что бойко бедует на свете одна,
- переходит луна, и доносится шорох стараний
- утаить от соседок, от злого непрочного сна
- нарушенье порядка, оплошность запретных рыданий.
- Всем больным стало хуже. Но всё же – канун Рождества.
- Завтра кто-то дождется известий, гостинцев, свиданий.
- Жизнь со смертью – в соседях. Каталка всегда не пуста —
- лифт в ночи отскрипит равномерность ее упаданий.
- Вечно радуйся, Дево! Младенца ты в ночь принесла.
- Оснований других не оставлено для упований,
- но они так важны, так огромны, так несть им числа,
- что прощен и утешен безвестный затворник подвальный.
- Даже здесь, в коридоре, где ёлка – причина для слёз
- (не хотели ее, да сестра заносить повелела),
- сердце бьется и слушает, и – раздалось, донеслось:
- – Эй, очнитесь! Взгляните – восходит Звезда Вифлеема.
- Достоверно одно: воздыханье коровы в хлеву,
- поспешанье волхвов и неопытной матери локоть,
- упасавший Младенца с отметиной чудной во лбу.
- Остальное – лишь вздор, затянувшейся лжи мимолётность.
- Этой плоти больной, изврежденной трудом и войной,
- что нужней и отрадней столь просто описанной сцены?
- Но – корят то вином, то другою какою виной
- и питают умы рыбьей костью обглоданной схемы.
- Я смотрела, как день занимался в десятом часу:
- каплей был и блестел, как бессмысленный черный
- фонарик, —
- там, в окне и вовне. Но прислышалось общему сну:
- в колокольчик на ёлке названивал крошка-звонарик.
- Занимавшийся день был так слаб, неумел, неказист.
- Цвет – был меньше, чем розовый: родом из робких,
- не резких.
- Так на девичьей шее умеет мерцать аметист.
- Все потупились, глянув на кроткий и жалобный крестик.
- А как стали вставать, с неохотой глаза открывать, —
- вдоль метели пронёсся трамвай, изнутри золотистый.
- Все столпились у окон, как дети: – Вот это трамвай!
- Словно окунь, ушедший с крючка: весь пятнистый,
- огнистый.
- Сели завтракать, спорили, вскоре устали, легли.
- Из окна вид таков, что невидимости Ленинграда
- или невидали мне достанет для слёз и любви.
- – Вам не надо ль чего-нибудь? – Нет, ничего нам не надо.
- Мне пеняли давно, что мои сочиненья пусты.
- Сочинитель пустот, в коридоре смотрю на сограждан.
- Матерь Божия! Смилуйся! Сына о том же проси.
- В День Рожденья Его дай молиться и плакать о каждом!
«Поздней весны польза-обнова…»
- Поздней весны польза-обнова.
- Быстровелик оползень поля:
- коли и есть посох-опора,
- брод не возбредится к нам.
- «Бысть человек послан от Бога,
- имя ему Иоанн».
- Росталь: растущей воды окиянье.
- Полночь, но опалены
- рытвины вежд и окраин канавье
- досталью полулуны.
- Несть нам отверзий принесть покаянье
- и не прозреть пелены.
- Ходу не имем, прийди, Иоанне,
- к нам на брега полыньи.
- Имя твое в прародстве с именами
- тех, чьи кресты полегли
- в снег, осененный тюрьмой и дымами, —
- оборони, полюби
- лютость округи, поруганной нами,
- иже рекутся людьми.
- «Бысть человек послан от Бога,
- имя ему Иоанн».
- О, не ходи! Нынче суббота,
- праздник у нас: посвист разбоя,
- обморок-март, путь без разбора,
- топь, поволока, туман.
Ивановские припевки
- Созвали семинар – проникнуть в злобу дня,
- а тут и без него говеют не во благе.
- Заезжего ума пустует западня:
- не дался день-злодей ловушке и облаве.
- Двунадесять язык в Иванове сошлись
- и с ними мой и свой, тринадцатый, злосчастный.
- Весь в Уводь не изыдь, со злобой не созлись,
- Ивановичей род, в хмельную ночь зачатый.
- А ежели кто трезв – отымет и отъест
- судьбы деликатес, весь диалект – про импорт.
- Питают мать-отец плаксивый диатез
- тех, кто, возмыв из детств, убьет, но и повымрет.
- Забавится дитя: пешком под стол пойдя,
- уже удавку вьет для Жучки и для Васьки.
- Ко мне: «Почто зверям суёшь еды-питья?» —
- «Аз есмь родня зверья, а вы мне – не свояси».
- Перечу языку – порочному сынку
- порушенных пород и пагубного чтива.
- Потылицу чешу, возглавицей реку
- то, что под ней держу в ночи для опочива.
- Захаживал Иван, внимал моим словам,
- поддакивал, кивал: «Душа твоя – Таврида.
- Что делаешь-творишь?» – «Творю тебе стакан». —
- «Старинно говоришь. Скажи: что есть творило?» —
- «Тебя за речь твою прииму ко двору.
- Стучись – я отворю. Отверстый ход – творило». —
- «В заочье для чего слывешь за татарву?» —
- «Заочье не болит, когда тавром тавримо».
- Ой, город-городок, ой, говор-говорок:
- прядильный монотон и матерок предельный —
- в ооканье вовлёк и округлил роток,
- опутал, обволок, в мое ушко продетый.
- У нас труба коптит превыспренную синь
- и ненависть когтит промеж родни простенок.
- Мы знаем: стыдно пить, и даже в сырь и стынь
- мы сикера не пьем, обходимся проствейном.
- Окликнул семинар: «Куда идешь, Иван?» —
- «На Кубу, семинар, всё наше устремленье».
- Дивится семинар столь дальним именам.
- (На Кубу – в магазин, за грань, за вод струенье.)
- Раздолье для невест – без петуха насест,
- а робятишки есть, при маме и во маме.
- Ест поедом тоска, потом молва доест.
- Чтоб не скучать – девчат черпнули во Вьетнаме.
- Четыреста живых и чужеродных чад
- усилили вдовства и девства многолюдность.
- Улыбки их дрожат, потёмки душ – молчат.
- Субтропиков здесь нет, зато сугуба лютость.
- Смуглы, а не рябы, робки, а не грубы,
- за малые рубли великими глазами
- их страх глядит на нас – так, говорят, грибы
- глядят, когда едят их едоки в Рязани.
- Направил семинар свой променад в сельмаг,
- проверил провиант – не сныть и не мякину.
- Бахвалился Иван: «Не пуст сусек-сервант.
- Полпяди есть во лбу – читай телемахину».
- За словом не полез – зачем и лезть в карман?
- «Рацеей, – объяснял, – упитана Расея.
- Мы к лишним вообче бесчувственны кормам.
- Нам коло-грядский жук оставил часть растенья».
- Залётный семинар пасет нас от беды:
- де, буйствует вино, как паводок апрельский.
- Иван сказал: «Вино отлично от воды,
- но смысл сего не здесь, а в Кане Галилейской».
- От Иоанна – нам есть наущенье уст,
- и слышимо во мглах: «Восстав, сойдем отсюду».
- Путина – нет пути. То плачу, то смеюсь,
- то ростепель терплю, то новую остуду.
- «Эй, ты куда, Иван?» – «На Кубу, брат-мадам.
- А ты?» – «Да по следам твоим, чрез половодье». —
- «Держися за меня! Пройдемся по водам!»
- И то: пора всплакнуть по певчем по Володе.
- Ивану говорю по поводу вина:
- «Нам отворенный ход – творило, хоть – травило».
- Ответствует: «Хвалю! Ой, девка, ой, умна!
- А я-то помышлял про кофе растворимо…»
«Хожу по околицам дюжей весны…»
- Хожу по околицам дюжей весны,
- вкруг полой воды, и сопутствие чье-то
- глаголаше: «Колицем должен еси?» —
- сочти, как умеешь, я сбилась со счёта.
- Хотелось мне моря, Батума, дождя,
- кофейни и фески Омара-соседа.
- Бубнило уже: «Ты должна, ты должна!» —
- и двинулась я не овамо, а семо.
- Прибой возыметь за спиной, на восток,
- вершины ожегший, воззриться – могла ведь.
- Всевластье трубы помавает хвостом,
- предместье-прихвостье корпит, помогает.
- Закат – и скорбит и робеет душа
- пред пурпуром смрадным, прекрасно-зловещим.
- Над гранью земли – ты должна, ты должна! —
- на злате небес – филигрань-чловечек.
- Его пожирает отверстый вулкан,
- его не спасет тихомолка оврага,
- идет он – и поздно его окликать —
- вдоль пламени, в челюсти антропофага.
- Сближаются алое и фиолет.
- Как стебель в средине захлопнутой книги,
- меж ними расплющен его силуэт —
- лишь вмятина видима в стынущем нимбе.
- Добыча побоища и дележа —
- невзрачная крапина крови и воли.
- Как скушно жужжит: «Ты должна, ты должна!» —
- тому ли скитальцу? Но нет его боле.
- Я в местной луне, поначалу, своей
- луны не узнала, да сжалилась лунность
- и свойски зависла меж черных ветвей —
- так ей приглянулась столь смелая глупость.
- Меж тем я осталась одна, как она:
- лишь нищие звери тянулись во други
- да звук допекал: «Ты должна, ты должна!» —
- ужель оборучью хапуги-округи?
- Ее постояльцы забыли мотив,
- родимая речь им далече латыни,
- снуют, ненасытной мечтой охватив
- кто – реки хмельные, кто – горы златые.
- Не ласки и взоры, а лязг и возня.
- Пришла для подачи – осталась при плаче.
- Их скаредный скрытень скрадет и меня.
- Незнаемый молвил: «Тем паче, тем паче».
- Текут добры молодцы вотчины вспять.
- Трущобы трещат – и пусты деревеньки.
- Пошто бы им загодя джинсы не дать?
- По сей промтовар все идут в делинквенты.
- Восход малолетства задирчив и быстр:
- тетрадки да прятки, а больше – рогатки.
- До зверских убийств от звериных убийств
- по прямопутку шагают ребятки.
- Заради наживы решат на ножах:
- не пусто ли брату остаться без брата?
- Пребудут не живы – мне будет не жаль.
- Истец улыбнулся: «Неправда, неправда».
- Да ты их не видывал! Кто ты ни есть,
- они в твою высь не взглянули ни разу.
- И крестят детей, полагая, что крест —
- условье улова и средство от сглазу.
- До станции и до кладбища дошла,
- чей вид и названье содеяны сажей.
- Опять донеслось: «Ты должна, ты должна!» —
- я думала, что-нибудь новое скажет.
- Забытость надгробья нежна и прочна.
- О, лакомка, сразу доставшийся раю!
- «Вкушая, вкусих мало мёду, – прочла,
- уже не прочесть: – и се аз умираю».
- Заведомый ангел, жилец неземной,
- как прочие все оснащенный скелетом.
- «Ночной – на дневной, а шестой – на седьмой!» —
- вдруг рявкнул вблизи станционный селектор.
- Я стала любить эти вскрики ничьи,
- пророчества малых событий и ругань.
- Утешно мне их соучастье в ночи,
- когда сортируют иль так, озоруют.
- Гигант-репетир ударяет впотьмах,
- железо наслав на другое железо:
- вагону, под горку, препона – «башмак» —
- и сыплется снег с потрясенного леса.
- Твердящий темно: «Ты должна, ты должна!» —
- учись направлять, чтобы слышащий понял,
- и некий ночной, грохоча и дрожа,
- воспомнил свой долг и веленье исполнил.
- Незрячая ощупь ума не точна:
- лелея во мгле коридора-ущелья,
- не дали дитяти дьячка для тычка,
- для лестовицей ременной наущенья.
- Откройся: кто ты? Ослабел и уснул
- злохмурый, как мурин, посёлок немытый.
- Суфлёр в занебесном укрытье шепнул:
- «Ты знаешь его, он – неправедный мытарь.
- Призвал он когождо из должников,
- и мало взыскал, и хвалим был от Бога».
- Но, буде ты – тот, почему не таков
- и не отпустишь от мзды и побора?
- Окраина эта тошна и душна! —
- Брезгливо изрёк сортировочный рупор:
- «Зла суща – ступай, ибо ты не должна
- ни нам, ни местам нашим гиблым и грубым.
- Таков уж твой сорт». – И подавленный всхлип
- превысил слова про пути и про рейсы.
- Потом я узнала: там сцепщик погиб.
- Сам голову положил он на рельсы.
- Не он ли вчера, напоследок дыша,
- вдоль неба спешил из огня да в полымя?
- И слабый пунктир – ты должна, ты должна! —
- насквозь пролегал между нами двоими.
- Хожу к тете Тасе, сижу и гляжу
- на розан бумажный в зеленом вазоне.
- Всю ночь потолок над глазами держу,
- понять не умею и каюсь во злобе.
- Иду в Афанасово крепким ледком,
- по талой воде возвращаюсь оттуда.
- И по пути, усмехнувшись тайком,
- куплю мандариновый джем из Батума.
- Покинувший – снова пришел: «Ты должна
- заснуть, возомненья приидут иные».
- Заснежило, и снизошла тишина,
- и молвлю во сне: отпущаеши ныне…
Пригород: названья улиц
- Стихам о люксембургских розах
- совсем не нужен Люксембург:
- они порой цветут в отбросах
- окраин, свалками обросших,
- смущая сумрак и сумбур.
- Шутил ботаник-переумок,
- любитель роз и тишины:
- две улицы и переулок
- (он – к новостройке первопуток) —
- растенью грёз посвящены.
- Мы, для унятия страданий
- коровьих, – не растим травы.
- Народец мы дрянной и драный,
- но любим свой родной дендрарий,
- жаль – не сносить в нём головы.
- Спасибо розе люксембургской
- за чашу, полную услад:
- к ней ходим за вином-закуской
- (хоть и дают ее с нагрузкой),
- цветём, как Люксембургский сад.
- Не по прописке – для разбора,
- чтоб в розных кущах не пропасть,
- есть Роза-прима, Роза-втора,
- а мелкий соименник вздора
- зовется: Розкин непролаз.
- Лишь розу чтит посёлок-бука,
- хоть идол сей не им взращен.
- А вдруг скажу, что сивка-бурка
- катал меня до Люксембурга? —
- пускай пошлют за псих-врачом.
- А было что-то в этом роде:
- плющ стены замка обвивал,
- шло готике небес предгрозье,
- склоняясь к люксембургской розе,
- ее садовник поливал.
- Царица тридевятой флоры!
- Зачем на скромный наш восток,
- на хляби наши и заборы,
- на злоначальные затворы
- пал твой прозрачный лепесток?
- Но должно вот чему дивиться,
- прочла – и белый свет стал мил:
- «ул. им. Давыдова Дениса».
- – Поведай мне, душа-девица,
- ул. им. – кого? ум – ил затмил.
- – Вы что, неграмотная, что ли? —
- спросила девица-краса. —
- Пойдите, подучитесь в школе. —
- Открылись щёлки, створки, шторки,
- и выглянули все глаза.
- – Я мало видывала видов —
- развейте умственную тьму:
- вдруг есть средь ваших индивидов
- другой Денис, другой Давыдов? —
- Красавица сказала: – Тьфу!
- Пред-магазинною горою
- я шла, и грустно было мне.
- Свет, радость, жизнь! Ночной порою
- тебе певцу, тебе герою,
- не страшно в этой стороне?
«Тому назад два года, но в июне…»
- Тому назад два года, но в июне:
- «Как я люблю гряду моих камней», —
- бубнивший ныне чужд, как новолюдье,
- себе, гряде, своей строке о ней.
- Чем ярче пахнет яблоко на блюде,
- тем быстрый сон о Бунине темней.
- Приснившемуся сразу же несносен,
- проснувшийся свой простоватый сон
- так опроверг: вид из окна на осень,
- что до утра от зренья упасён,
- на яблок всех невидимую осыпь —
- как яблоко слепцу преподнесён.
- Для краткости изваяна округа
- так выпукло, как школьный шар земной.
- Сиди себе! Как помысла прогулка
- с тобой поступит – ей решать самой.
- Уж знать не хочет – началасьоткуда?
- Да – тот, кто снился, здесь бывал зимой.
- Люблю его с художником свиданье.
- Смеюсь и вижу и того, и с кем
- не съединило пресных польз съеданье,
- побег во снег из хладных стен и схем,
- смех вызволенья, к станции – сюда ли?
- а где буфет? Как блещет белый свет!
- Иль пайщик сна – табак, сохранный в грядке?
- Ночует ум во дне сто лет назад,
- уж он влюблен, но встретится навряд ли
- с ним гимназистки безмятежный взгляд.
- Вперяется дозор его оглядки
- в уездный город, в предвечерний сад.
- Нюх и цветок сошлись не для того ли,
- чтоб вдоха кругосветного в конце
- очнулся дух Кураевых торговли
- на площади Архангельской в Ельце
- и так пахнуло рыбой, что в тревоге
- я вышла в дождь и холод на крыльце.
- Еще есть жизнь – избранников услада,
- изделье их, не меньшее, чем явь.
- Не дом в саду, а вымысел-усадьба
- завещана, чтоб на крыльце стоять.
- Как много тайн я от цветка узнала,
- а он – всего лишь слово с буквой «ять».
- Прочнее блеск воспетого мгновенья
- чем то одно, чего нельзя воспеть.
- Я там была, где зыбко и неверно
- паломник робкий усложняет смерть:
- о, есть! – но, как Святая Женевьева,
- ведь не вполне же, не воочью есть?
- Восьмого часа исподволь. Забыла
- заря возжечься слева от лица.
- С гряды камней в презрение залива
- обрушился громоздкий всплеск пловца.
- Пространство отчужденно и брезгливо
- взирает, словно Бунин на льстеца.
«Постоялец вникает в реестр проявлений…»
- Постоялец вникает в реестр проявлений
- благосклонной судьбы. Он польщен, что прощен.
- Зыбкий перечень прихотей, прав, привилегий
- исчисляющий – знает, что он ни при чём.
- Вид: восстанье и бой лежебок-параллелей,
- кривь на кось натравил геометра просчёт.
- Пир элегий соседствует с паром варений.
- Это – осень: течет, задувает, печет.
- Всё сгодится! Пришедший не стал привередой.
- Или стал? Он придирчиво список прочтет.
- Вот – читает. Каких параллелей восстанье?
- Это просто! Залив, возлежащий плашмя,
- ныне вздыблен. Обратно небес нависанье
- воздыманью воды, улетанью плаща.
- Урожденного в не суверенной осанке,
- супротивно стене своеволье плюща.
- Золотится потатчица астры в стакане,
- бурелома добытчица рубит с плеча.
- Потеплело – и тел кровопьющих останки
- мим расплющил, танцуя и рукоплеща.
- Нет, не вздор! Комаров возродила натура.
- Бледный лоб отвлекая от высших хлопот,
- в освещенном окне сочинитель ноктюрна
- грациозно свершает прыжок и хлопок
- и, вернувшись к роялю, должно быть: «Недурно!» —
- говорит, ибо эта обитель – оплот
- одиноких избранников. Взялся откуда
- здесь изгой и чужак, возымевший апломб
- молвить слово… Молчи! В слух отверстый надуло
- рознью музык в умах и разъятьем эпох
- на пустых берегах. Содержанье недуга
- не открыто пришельцу, но вид его плох.
- Что он делает в гордых гармоний чужбине?
- Тридевятая нота октавы, деталь,
- ей не нужная, он принимает ушибы:
- тронул клавишу кто-то, охочий до тайн.
- Опыт зеркала, кресел ленивых ужимки —
- о былых обитаньях нескромный доклад.
- Гость бормочет: слагатели звуков, ушли вы,
- но оставили ваш неусыпный диктант.
- Звук-подкидыш мне мил. Мои струны учтивы.
- Пусть вознянчится ими детёныш-дикарь.
- Вдоль окраины моря он бродит, и резок
- силуэт его черный, угрюм капюшон.
- Звук-приёмыш возрос. Выживания средством
- прочих сирых существ круг широкий прельщен.
- Их сподвижник стеснён и, к тому же, истерзан
- упомянутым ветролюбивым плащом,
- да, но до – божеством боязливым. О, если б
- не рояль за спиной и за правым плечом!
- Сочинитель ноктюрна следит с интересом
- за сюжетом, не вовсе сокрытым плющом.
«Так запрокинут лоб, отозванный от яви…»
- Так запрокинут лоб, отозванный от яви,
- что перпендикуляр, который им взращён,
- опорой яви стал и, если бы отняли,
- распался бы чертеж, содеянный зрачком.
- Семь пядей изведя на построенье это,
- пульсирует всю ночь текущий выспрь пунктир.
- Скудельный лоб иссяк. Явился брезг рассвета.
- В зените потолка сыт лакомка-упырь.
- Обратен сам себе стал оборотень-сидень.
- Лоб – озиратель бездн, луны анахорет —
- пал ниц и возлежит. Ладонь – его носитель.
- Под заумью его не устоял хребет.
- А осень так светла! Избыток солнца в доме
- на счастье так похож! Уж не оно ль? Едва ль.
- Мой безутешный лоб лежит в моей ладони
- (в долони, если длань, не правда ль, милый Даль?).
- Бессонного ума бессрочна гауптвахта.
- А тайна – чудный смех донесся, – что должна —
- опять донесся смех, – должна быть глуповата,
- летает налегке, беспечна и нежна.
Ларец и ключ
Осипу Мандельштаму
- Когда бы этот день – тому, о ком читаю:
- де, ключ он подарил от… скажем, от ларца
- открытого… свою так оберёг он тайну,
- как если бы ловил и окликал ловца.
- Я не о тайне тайн, столь явных обиталищ
- нет у нее, вся – в нём, прозрачно заперта,
- как суть в устройстве сот. – Не много ль ты болтаешь? —
- мне чтенье говорит, которым занята.
- Но я и так – молчок, занятье уст – вино лишь,
- и терпок поцелуй имеретинских лоз.
- Поправший Кутаис, в строку вступил Воронеж —
- как пекло дум зовут, сокрыть не удалось.
- Вернее – в дверь вошел общения искатель.
- Тоскою уязвлен и грёзой обольщен,
- он попросту живет как житель и писатель
- не в пекле ни в каком, а в центре областном.
- Я сообщалась с ним в смущении двояком:
- посол своей же тьмы иль вестник роковой
- явился подтвердить, что свой чугунный якорь
- удерживает Пётр чугунного рукой?
- «Эй, с якорем!» – шутил опалы завсегдатай.
- Не следует дерзить чугунным и стальным.
- Что вспыльчивый изгой был лишнею загадкой,
- с усмешкой небольшой приметил властелин.
- Строй горла ярко наг и выдан пульсом пенья
- и высоко над ним – лба над-седьмая пядь.
- Где хруст и лязг возьмут уменья и терпенья,
- чтоб дланью не схватить и не защелкнуть пасть?
- Сапог – всегда сосед священного сосуда
- и вхож в глаза птенца, им не живать втроём.
- Гость говорит: тех мест писателей союза
- отличный малый стал теперь секретарем.
- Однако – поздний час. Мы навсегда простились.
- Ему не надо знать, чьей тени он сосед.
- Признаться, столь глухих и сумрачных потылиц
- не собиратель я для пиршеств иль бесед.
- Когда бы этот день – тому, о ком страданье —
- обыденный устой и содержанье дней,
- всё длилось бы ловца когтистого свиданье
- с добычей меж ресниц, которых нет длинней.
- Играла бы ладонь вещицей золотою
- (лишь у совсем детей взор так же хитроват),
- и был бы дну воды даруем ключ ладонью,
- от тайнописи чьей отпрянет хиромант.
- То, что ларцом зову (он обречён покраже),
- и ульем быть могло для слёта розных крыл:
- пчелит аэроплан, присутствуют плюмажи,
- Италия плывет на сухопарый Крым.
- А далее… Но нет! Кабы сбылось «когда бы»,
- я наклоненья где двойной посул найду?
- Не лучше ль сослагать купавы и канавы
- и наклоненье ив с их образом в пруду?
- И всё это – с моей последнею сиренью,
- с осою, что и так принадлежит ему,
- с тропой – вдоль соловья, через овраг – к селенью,
- и с кем-то, по тропе идущим (я иду),
- нам нужен штрих живой, усвоенный пейзажем,
- чтоб поступиться им, оставить дня вовне.
- Но всё, что обретем, куда мы денем? Скажем:
- в ларец. А ключ? А ключ лежит воды на дне.
Дворец
- Мне во владенье дан дворец из алебастра
- (столпов дебелых строй становится полней,
- коль возвести в уме, для общего баланса,
- виденье над-морских, над-земных пропилей).
- Я вдвинулась в портал, и розных двух диковин
- взаимный бред окреп и затвердел в уют.
- Оврага храбрый мрак возлёг на подоконник.
- Вот-вот часы внизу двенадцать раз пробьют.
- Ночь – вотчина моя, во дне я – чужестранец,
- молчу, но не скромна в глазах утайка слёз.
- Сословье пошляков, для суесловья трапез
- содвинувшее лбы, как Батюшков бы снёс?
- К возлюбленным часам крадусь вдоль коридора.
- Ключ к мертвой тайне их из чьей упал руки?
- Едины бой часов и поступь Командора,
- но спящих во дворце ему скушны грехи.
- Есть меж часами связь и благородной группой
- предметов наверху: три кресла, стол, диван.
- В их времени былом какой гордец угрюмый
- колена преклонял и руки воздевал?
- Уж слышатся шаги тяжелые, и странно
- смотреть – как хрупкий пол нарядно навощён.
- Белей своих одежд вы стали, донна Анна.
- И Батюшков один не знает, кто вошел.
- Новёхонький витраж в старинной есть гостиной.
- Моя игра с зарей вечерней такова:
- лишь испечет стекло рубин неугасимый,
- всегда его краду у алого ковра.
- Хватаю – и бегу. Восходит слабый месяц.
- Остался на ковре – и попран изумруд.
- Но в комнате моей он был бы незаметен:
- я в ней тайком от всех держу овраг и пруд.
- Мне есть во что играть. Зачем я прочь не еду?
- Всё длится меж колонн овражный мой постой.
- Я сведуща в тоске. Но как назвать вот эту?
- Не Батюшкова ли (ей равных нет) тоской?
- Воспомнила стихи, что были им любимы.
- Сколь кротко перед ним потупилось чело
- счастливого певца Руслана и Людмилы,
- но сумрачно взглянул – и не узнал его.
- О чём, бишь? Что со мной? Мой разум сбивчив, жарок,
- а прежде здрав бывал, смешлив и незлобив.
- К добру ль плутает он средь колоннад и арок,
- эклектики больной возляпье возлюбив?
- Кружится голова на глиняном откосе,
- балясины прочны, да воли нет спастись.
- Изменчивость друзей, измена друга, козни…
- Осталось: «Это кто?» – о Пушкине спросить.
- Все-пошлость такова, – ты лучше лоб потрогай, —
- что из презренья к ней любой исход мне гож.
- – Ты попросту больна. – Не боле, чем Петроний.
- Он тоже во дворец был раболепно вхож.
- И воздалось дворцу. – Тебе уж постелили. —
- Возможно дважды жить, дабы один лишь раз
- сказать: мне сладок яд, рабы и властелины.
- С усмешкой на устах я покидаю вас.
- Мои овраг и пруд, одно неоспоримо:
- величью перемен и превращений вспять
- лоб должен испарять истому аспирина,
- осадок же как мысль себе на память взять.
- Закат – пора идти за огненным трофеем.
- Трагедии внутри давайте-ка шалить:
- измыслим что-нибудь и ощупью проверим
- явь образа – есть чем ладони опалить!
- Три кресла, стол, диван за ловлею рубина
- участливо следят. И слышится в темне:
- вдруг вымыслом своим, и только, ты любима?
- довольно ли с тебя? не страшно ли тебе?
- Вот дерзок почему пригляд дворцовой стражи
- и челядь не таит ухмылочку свою.
- На бал чужой любви в наёмном экипаже
- явилась, как горбун, и, как слепец, стою.
- Вдобавок, как глупец, дня расточаю убыль.
- Жив на столе моём ночей анахорет.
- Чего еще желать? Уж он-то крепко любит
- сторожкий силуэт: висок, зрачок, хребет.
- Из комнаты моей, тенистой и ущельной,
- не слышно, как часы оплакивают день.
- Неужто – всё, мой друг? Но замкнут круг ущербный:
- свет лампы, пруд, овраг. И Батюшкова тень.
Гроза в Малеевке
- Вспять времени идет идущий по аллее.
- Коль в сумерках идет – тем ярче и верней
- надежда, что пред ним предстанут пропилеи
- и грубый чад огней в канун Панафиней.
- Он с лирою пришел и всем смешон: привыкла
- к звучанию кифар людская толчея.
- Над нею: – Вы – равны! – несется глас Перикла.
- – Да, вы – равны, – ему ответствует чума.
- Что там еще? Расцвет искусства. Ввоз цикуты
- налажен. По волнам снует торговый флот.
- Сурово край одежд Сократовых целуйте,
- пристало ль вам рыдать, Платон и Ксенофонт?
- Эк занесло куда паломника! Пусть бродит
- и уставляет взор на портик и фронтон,
- из скопища колонн, чей безымянен ордер,
- соорудив в уме аттический фантом.
- Эй, эй, остерегись! Возбранностью окружья
- себя не обводи, великих не гневи.
- Рожденная на свет в убранстве всеоружья —
- исчадье не твоей, а Зевсовой главы.
- Помешан – и твердит: – Люблю ее рожденье
- во шлеме, что тусклей сокрытых им волос.
- Жизнь озера ушла на блеска отраженье.
- Как озеро звалось? – Тритон – оно звалось. —
- Гефест, топор! А мать, покуда неповинна,
- проглочена… – Молчи! – Событья приведут
- к тому – что вот она! Не знается Афина
- со сбродом рожениц, кормилиц, повитух.
- Всё подвиги свершать, Персея на Горгону
- натравливать, терпеть хвалу досужих уст,
- охочих до сластей. А не обречь ли грому
- купальщиц молодых, боящихся медуз?
- Когда б не плеск и смех – герои и атлеты
- из грешных чресел их произрасти могли б,
- и прачки, и рабы. – Идущий по аллее,
- страшись! Гневлив, ревнив и молчалив Олимп.
- – Что ж, – дерзкий говорит, – я Зевсу не соперник.
- Но и моей главы возлюбленная дщерь,
- в сей миг, замедлив шаг на мраморных ступенях,
- то не она ль стоит и озирает чернь?
- Громоздко-стройный шлем водвинув в мрак заката,
- свободно опершись на грозное копьё,
- живее и прочней, чем Фидиево злато,
- ожгло мои зрачки измыслие мое.
- Гром отвечал ему. В отъезде иль уходе
- он не был уличён, но слухов нет о нём.
- Я с ужасом гляжу на дерево сухое,
- спаленное ему ниспосланным огнём.
- Он виноват, он лгал! Содеян не громоздко
- богини стройный шлем, и праведно ее
- воздетое для войн, искусства и ремёсла
- и всех купальщиц вздор хранящее копьё.
- Но поздно! Месть сбылась змеиной, совоокой,
- великой… ниц пред ней! (Здесь перерыв в строке:
- я пала ниц.) Неслась вселенная вдоль окон,
- дуб длани воздевал, как мученик в костре.
- Такой грозы, как в день тринадцатый июня,
- усилившейся в ночь на следующий день,
- не видывала я. Довольно. Спать иду я.
- Заря упразднена или не смеет рдеть.
- Живого смысла нет в материальном мифе.
- Афины – плоть тепла, непререкаем Зевс.
- Светло живет душа в неочевидном мире,
- приемля гнев богов как весть: – Мы суть. Мы здесь.
Венеция моя
Иосифу Бродскому
- Темно, и розных вод смешались имена.
- Окраиной басов исторгнут всплеск короткий.
- То розу шлёт тебе, Венеция моя,
- в Куоккале моей рояль высокородный.
- Насупился – дал знать, что он здесь ни при чём.
- Затылка моего соведатель настойчив.
- Его: «Не лги!» – стоит, как Ангел за плечом,
- с оскомою в чертах. Я – хаос, он – настройщик.
- Канала вид… – Не лги! – в окне не водворен
- и выдворен помин о виденном когда-то.
- Есть под окном моим невзрачный водоём,
- застой бесславных влаг. Есть, признаюсь, канава.
- Правдивый за плечом, мой Ангел, такова
- протечка труб – струи источие реально.
- И розу я беру с роялева крыла.
- Рояль, твое крыло в родстве с мостом Риальто.
- Не так? Но роза – вот, и с твоего крыла
- (застенчиво рука его изгиб ласкала).
- Не лжёт моя строка, но всё ж не такова,
- чтоб точно обвести уклончивость лекала.
- В исходе час восьмой. Возрождено окно.
- И темнота окна – не вырожденье света.
- Цвет – не скажу какой, не знаю. Знаю, кто
- содеял этот цвет, что вижу, – Тинторетто.
- Мы дожили, рояль, мы – дожи, наш дворец
- расписан той рукой, что не приемлет розы.
- И с нами Марк Святой, и золотой отверст
- зев льва на синеве, мы вместе, все не взрослы.
- – Не лги! – но мой зубок изгрыз другой букварь.
- Мне ведом звук черней диеза и бемоля.
- Не лгу – за что запрет и каркает бекар?
- Усладу обрету вдали тебя, близ моря.
- Труп розы возлежит на гущине воды,
- которую зову как знаю, как умею.
- Лев сник и спит. Вот так я коротаю дни
- в Куоккале моей, с Венецией моею.
- Обосенел простор. Снег в ноябре пришел
- и устоял. Луна была зрачком искома
- и найдена. Но что с ревнивцем за плечом?
- Неужто и на час нельзя уйти из дома?
- Чем занят ум? Ничем. Он пуст, как небосклон.
- – Не лги! – и впрямь я лгун, не слыть же недолыгой.
- Не верь, рояль, что я съезжаю на поклон
- к Венеции – твоей сопернице великой.
- ……………………………………………………………………
- Здесь – перерыв. В Италии была.
- Италия светла, прекрасна.
- Рояль простил. Но лампа, сокровище окна, стола, —
- погасла.
Одевание ребенка
Андрею Битову
- Ребенка одевают. Он стоит
- и сносит – недвижимый, величавый —
- угодливость приспешников своих,
- наскучив лестью челяди и славой.
- У вешалки, где церемониал
- свершается, мы вместе провисаем,
- отсутствуем. Зеницы минерал
- до-первобытен, свеж, непроницаем.
- Он смотрит вдаль, поверх услуг людских.
- В разъятый пух продеты кисти, локти.
- Побыть бы им. Недолго погостить
- в обители его лилейной плоти.
- Предаться воле и опеке сил
- лелеющих. Их укачаться зыбкой.
- Сокрыться в нём. Перемешаться с ним.
- Стать крапинкой под рисовой присыпкой.
- Эй, няньки, мамки, кумушки, вы что
- разнюнились? Быстрее одевайте!
- Не дайте, чтоб измыслие вошло
- поганым войском в млечный мир дитяти.
- Для посягательств прыткого ума
- возбранны створки замкнутой вселенной.
- Прочь, самозванец, званый, как чума,
- тем, что сияло и звалось Сиеной.
- Влекут рабы ребенка паланкин.
- Журчит зурна. Порхает опахало.
- Меня – набег недуга полонил.
- Всю ночь во лбу неслось и полыхало.
- Прикрыть глаза. Сна гобелен соткать.
- Разглядывать, не нагляжусь покамест,
- Палаццо Пикколомини в закат
- водвинутость и вогнутость, покатость,
- объятья нежно-каменный зажим
- вкруг зрелища: резвится мимолётность
- внутри, и Дева-Вечность возлежит,
- изгибом плавным опершись на локоть.
- Сиены площадь так нарёк мой жар,
- это его наречья идиома.
- Оставим площадь – вечно возлежать
- прелестной девой возле водоёма.
- Врач смущена: – О чём вы? – Ни о чём.
- В разор весны ступаю я с порога
- не сведущим в хожденье новичком.
- – Но что дитя? – Дитя? Дитя здорово.
Портрет, пейзаж и интерьер
- Как строить твой портрет, дородное палаццо?
- Втесался гость Коринф в дорический портал.
- Стесняет сброд колонн лепнины опояска.
- И зодчий был широк, и каменщик приврал.
- Меж нами сходство есть, соитье розных родин.
- Лишь глянет кто-нибудь, желая угадать,
- в какой из них рождён наш многосущий ордер, —
- разгадке не нужна во лбу седьмая пядь.
- Собратен мне твой бред, но с наипущей лаской
- пойду и погляжу, поглажу, назову:
- мой тайный, милый мой, по кличке «мой миланский»,
- гераневый балкон – на пруд и на зарю.
- В окне – карниз и фриз, и бабий бант гирлянды.
- Вид гипса – пучеглаз и пялиться горазд
- на зрителя. Пора наведаться в герани.
- Как в летке пыл и гул, должно быть, так горят.
- За ели западал сплав ржавчины и злата.
- Оранжевый? Жаркой? Прикрас не обновил
- красильщик ни один, и я смиренно знала:
- прилипчив и линюч эпитет-анилин.
- Но есть перо, каким миг бытия врисован
- в природу – равный ей. Зарю и пруд сложу
- с очнувшейся строкой и, по моим резонам,
- «мой бунинский балкон» про мой балкон скажу.
- Проверить сей туман за Глухово ходила.
- А там стоял туман. Стыл островерхий лес.
- Всё – вотчина моя. Родимо и едино:
- Тамань – я там была, и сям была – Елец.
- Прости, не прогони, приют порочных таинств.
- Когда растет сентябрь, то ластясь, то клубясь,
- как жалко я спешу, в пустых полях скитаясь,
- сокрыться в мощный плюш и дряблый алебастр.
- Как я люблю витраж, чей яхонт дважды весел,
- как лал и как сапфир, и толстый барельеф,
- куда не львиный твой, не родовитый вензель
- чванливо привнесен и выпячен: «эЛь эФ».
- Да, есть и желтизна. Но лишь педант архаик
- предтечу помянёт, названье огласит.
- В утайке недр земных и словарей сохранен
- сородич не цветка, а цвета: гиацинт.
- Вот схватка и союз стекла с лучом закатным.
- Их выпечка лежит объёмна и прочна.
- Охотится ладонь за синим и за алым,
- и в желтом вязнет взор, как алчная пчела.
- Пруд-изумруд причтёт к сокровищам шкатулка.
- Сладчайшей из добыч пребудет вольный парк,
- где барышня веков читает том Катулла,
- как бабочка веков в мой хлороформ попав.
- Там, где течет ковер прозрачной галереи,
- бюст-памятник забыл: зачем он и кому.
- Старинные часы то плач, то говоренье
- мне шлют, учуяв шаг по тихому ковру.
- Пред входом во дворец – мыслителей арена.
- Где утренник младой куртины разорил,
- не снизошедший знать Палладио Андреа,
- под сень враждебных чар вступает русофил.
- Чем сумерки сплошней, тем ближе италиец,
- что в тысяча пятьсот восьмом году рожден
- в семье ди Пьетро. У, какие затаились
- до времени красы базилик и ротонд.
- Отчасти, дом, и ты – Палладио обитель.
- В тот хрупкий час, когда темно, но и светло,
- Виченца для нее обочин путь обычен —
- вовсельником вжилась в заглушное село.
- И я туда тащусь, не тщась дойти до места.
- Возлюбленное мной – чем дале, тем сильней.
- Укачана ходьбой, как дрёмою дормеза,
- задумчивость хвалю возницы и коней.
- Десятый час едва – без малой зги услада.
- Возглавие аллей – в сиянье и в жару.
- Во все свои огни освещена усадьба,
- столетие назад, а я еще живу.
- Радушен франт-фронтон. Осанисты колонны.
- На сходбище теней смотрю из близкой тьмы.
- Строения черты разумны и холёны.
- Конечно, не вполне – да восвоясях мы.
- Кто лалы расхватал, тот времени подмену
- присвоит, повлачит в свой ветреный сусек.
- Я знаю: дальше что, и потому помедлю,
- пока не лязгнет век – преемник и сосед.
- Я стала столь одна, что в разноляпье дома,
- пригляда не страшась, гуляет естество.
- Скульптуры по ночам гримасничает догма.
- Эклектика блазнит. Пожалуй, вот и всё.
Вокзальчик
- Сердчишко жизни – жил да был вокзальчик.
- Горбы котомок на перрон сходили.
- Их ждал детей прожорливый привет.
- Юродивый там обитал вязальщик.
- Не бельмами – зеницами седыми
- всего, что зримо, он смотрел поверх.
- Поила площадь пьяная цистерна.
- Хмурь душ, хворь тел посуд не полоскали.
- Вкус жесткой жижи и на вид – когтист.
- А мимо них любители сотерна
- неслись к нему под тенты полосаты.
- (Взамен – изгой в моём уме гостит.)
- Одно казалось мне недостоверно:
- в окне вагона, в том же направленье,
- ужель и я когда-то пронеслась?
- И хмурь, и хворь, и площадь, где цистерна, —
- набор деталей мельче нонпарели —
- не прочитал в себя глядевший глаз?
- Сновала прыткость, супилось терпенье.
- Вязальщик оставался строг и важен.
- Он видел запрокинутым челом
- надземные незнаемые петли.
- Я видела: в честь вечности он вяжет
- безвыходный эпический чулок.
- Некстати всплыло: после половодий,
- когда прилив заманчиво и гадко
- подводит счёт былому барахлу,
- то ль вождь беды, то ль вестник подневольный,
- какого одинокого гиганта
- сиротствует башмак на берегу?
- Близ сукровиц драчливых и сумятиц,
- простых сокровищ надобных взалкавших,
- брела, крестясь на грубый обелиск,
- живых и мертвых горемык со-матерь.
- Казалось – мне навязывал вязальщик
- наказ: ничем другим не обольстись.
- Наказывал, но я не обольщалась
- ни прелестью чужбин, ни скушной лестью.
- Лишь год меж сентябрем и сентябрем.
- Наказывай. В угрюмую прыщавость
- смотрю подростка и округи. Шар ведь
- земной – округлый помысел о нём.
- Опять сентябрь. Весть поутру блазнила:
- – Хлеб завезли на станцию! Автобус
- вот-вот прибудет! – Местность заждалась
- гостинцев и диковинки бензина.
- Я тороплюсь. Я празднично готовлюсь
- не пропустить сей редкий дилижанс.
- В добрососедство старых распрей вторглась,
- в приют гремучий. Встречь помчались склоны,
- рябины радость, рдяные леса.
- Меньшой двойник отечества – автобус.
- Легко добыть из многоликой злобы
- и возлюбить сохранный свет лица.
- Приехали. По-прежнему цистерна
- язвит утробы. Булочной сегодня
- ее триумф оспорить удалось.
- К нам нынче неприветлива Церера.
- Торгует георгинами зевота.
- Лишь яблок вдосыть – под осадой ос.
- Но всё ж и мы не вовсе без новинок.
- Франтит и бредит импорт домотканый.
- Сродни мне род уродов и калек.
- Пинает лютость муку душ звериных.
- Среди сует, метаний, бормотаний —
- вязальщика слепого нет как нет.
- Впустую обошла я привокзалье,
- дивясь тому, что очередь к цистерне
- на карликов делилась и верзил.
- Дождь с туч свисал, как вещее вязанье.
- Сплетатель самовольной Одиссеи,
- глядевший ввысь, знать, сам туда возмыл.
- Я знала, что изделье бесконечно
- вязальщика, пришедшего оттуда,
- где бодрствует, связуя твердь и твердь.
- Но без него особенно кромешна
- со мной внутри кровавая округа.
- Чем искуплю? Где Ты ни есть, ответь.
Вид снизу вверх
Борису Толокнову
- Был май в начале. Хладных и кипящих
- следила я движенье сил морских.
- К ним жало жажды примерял купальщик.
- О, море-лев, зачем тебе москит,
- пусть улетит. Уже зари натёки
- кормяще впали в озеро Инкит.
- Купальщик зябкий – яблоко на тёрке.
- Взмахни хвостом, лев-море, пусть летит
- подале, прочь от волн – горбов корпящих, —
- мешает созерцанью красоты.
- Зачем тебе докучливый купальщик?
- Ответствовало море: – Это ты
- валов моих невольная докука.
- Я снизу вверх из волн на брег гляжу.
- Лететь легко ль, да и лететь докуда?
- Когда узнаю – жаль, что не скажу.
19 октября 1996 года
- Осенний день, особый день —
- былого дня неточный слепок.
- Разор дерев, раздор людей
- так ярки, словно напоследок.
- Опальный Пасынок аллей,
- на площадь сосланный Страстную, —
- суров. Вблизи – младой атлет
- вкушает вывеску съестную.
- Живая проголодь права.
- Книгочий изнурён тоскою.
- Я неприкаянно брела,
- бульвару подчинясь Тверскому.
- Гостинцем выпечки летел
- лист, павший с клёна, с жара-пыла.
- Не восхвалить ли мой Лицей?
- В нём столько молодости было!
- Останется сей храм наук,
- наполненный гурьбой задорной,
- из страшных герценовских мук
- последнею и смехотворной.
- Здесь неокрепшие умы
- такой воспитывал Куницын,
- что пасмурный румянец мглы
- льнул метой оспы к юным лицам.
- Предсмертный огнь окна светил,
- и Переделкинский изгнанник
- простил ученикам своим
- измены роковой экзамен.
- Где мальчик, чей триумф-провал
- услужливо в погибель вырос?
- Такую подлость затевал,
- а малости вина – не вынес.
- Совпали мы во дне земном,
- одной питаемые кашей,
- одним пытаемые злом,
- чьё лакомство снесёт не каждый.
- Поверженный в забытый прах,
- Сибири свежий уроженец,
- ты простодушной жертвой пал
- чужих веленьиц и решеньиц.
- Прости меня, за то прости,
- что уцелела я невольно,
- что я весьма или почти
- жива и пред тобой виновна.
- Наставник вздоров и забав —
- ухмылка пасти нездоровой,
- чьему железу – по зубам
- нетвёрдый твой орех кедровый.
- Нас нянчили надзор и сыск,
- и в том я праведно виновна,
- что, восприняв ученья смысл,
- я упаслась от гувернёра.
- Заблудший недоученик,
- я, самодельно и вслепую,
- во лбу желала учинить
- пядь своедумную седьмую.
- За это – в близкий час ночной
- перо поведает странице,
- как грустно был проведан мной
- страдалец, погребённый в Ницце.
Надпись на книге: 19 октября
Фазилю Искандеру
- Согласьем розных одиночеств
- составлен дружества уклад.
- И слвно, и не надо новшеств
- новей, чем сад и листопад.
- Цветет и зябнет увяданье.
- Деревьев прибылен урон.
- На с Кем-то тайное свиданье
- опять мой весь октябрь уйдёт.
- Его присутствие в природе
- наглядней смыслов и примет.
- Я на балконе – на перроне
- разлуки с Днём: отбыл, померк.
- День девятнадцатый, октябрьский,
- печально щедрый добродей,
- отличен силой и окраской
- от всех, ему не равных, дней.
- Припёк остуды: роза блекнет.
- Балкона ледовит причал.
- Прощайте, Пущин, Кюхельбекер,
- прекрасный Дельвиг мой, прощай!
- И Ты… Но нет, так страшно близок
- ко мне Ты прежде не бывал.
- Смеётся надо мною призрак:
- подкравшийся Тверской бульвар.
- Там дома двадцать пятый нумер
- меня тоскою донимал:
- зловеще бледен, ярко нуден,
- двояк и дик, как диамат.
- Издёвка моего Лицея
- пошла мне впрок, всё – не беда,
- когда бы девочка Лизетта
- со мной так схожа не была.
- Я, с дальнозоркого балкона,
- смотрю с усталой высоты
- в уроки времени былого,
- чья давность – старее, чем Ты.
- Жива в плечах прямая сажень:
- к ним многолетье снизошло.
- Твоим ровесником оставшись,
- была б истрачена на что?
- На всплески рук, на блёстки сцены,
- на луч и лики мне в лицо,
- на вздор неодолимой схемы…
- Коль это – всё, зачем мне всё?
- Но было, было: буря с мглою,
- с румяною зарёй восток,
- цветок, преподносимый мною
- стихотворению «Цветок»,
- хребет, подверженный ознобу,
- когда в иных мирах гулял
- меж теменем и меж звездою
- прозрачный перпендикуляр.
- Вот он – исторгнут из жаровен
- подвижных полушарий двух,
- как бы спасаемый жонглёром
- почти предмет: искомый звук.
- Иль так: рассчитан точным зодчим
- отпор ветрам и ветеркам,
- и поведенья позвоночник
- блюсти обязан вертикаль.
- Но можно, в честь Пизанской башни,
- чьим креном мучим род людской,
- клониться к пятистопной блажи
- ночь напролёт и день-деньской.
- Ночь совладает с днём коротким.
- Вдруг, насылая гнев и гнёт,
- потёмки, где сокрыт католик,
- крестом пометил гугенот?
- Лиловым сумраком аббатства
- прикинулся наш двор на миг.
- Сомкнулись жадные объятья
- раздумья вкруг друзей моих.
- Для совершенства дня благого,
- покуда свет не оскудел,
- надземней моего балкона
- внизу проходит Искандер.
- Фазиля детский смех восславить
- успеть бы! День, повремени.
- И нечего к строке добавить:
- «Бог помочь вам, друзья мои!»
- Весь мой октябрь иссякнет скоро,
- часы, с их здравомысльем споря,
- на час назад перевели.
- Ты, одинокий вождь простора,
- бульвара во главе Тверского,
- и в Парке, с томиком Парни
- прости быстротекучесть слова,
- прерви медлительность экспромта,
- спать благосклонно повели…
Поездка в город
Борису Мессереру
- Я собиралась в город ехать,
- но всё вперялись глаз и лоб
- в окно, где увяданья ветхость
- само сюжет и переплёт.
- О чём шуршит интрига блеска?
- Каким обречь её словам?
- На пальцы пав пыльцой обреза,
- что держит взаперти сафьян?
- Мне в город надобно, – но втуне,
- за краем книги золотым,
- вникаю в лиственной латуни
- непостижимую латынь.
- Окна усидчивый читатель,
- слежу вокабул письмена,
- но сердца брат и обитатель
- торопит и зовёт меня.
- Там – дом-артист нескладно статен
- и переулков приворот
- издревле славит Хлеб и Скатерть
- по усмотренью Поваров.
- Возлюблен мной и зарифмован,
- знать резвость грубую ленив,
- союз мольберта с граммофоном
- надменно непоколебим.
- При нём крамольно чистых пиршеств
- не по усам струился мёд…
- …Сад сам себя творит и пишет,
- извне отринув натюрморт.
- Сочтёт ли сад природой мёртвой,
- снаружи заглянув в стекло,
- собранье рухляди аморфной
- и нерадивое стило?
- Поеду, право. Пушкин милый,
- всё Ты, всё жар Твоих чернил!
- Опять красу поры унылой
- Ты самовластно учинил.
- Пока никчемному посёлку
- даруешь злато и багрец,
- что к Твоему добавит слову
- тетради узник и беглец?
- Вот разве что: у нас в селенье,
- хоть улицы весьма важней,
- проулок имени Сирени
- перечит именам вождей.
- Мы из Мичуринца, где листья
- в дым обращает садовод.
- Нам Переделкино – столица.
- Там – ярче и хмельней народ.
- О недороде огорода
- пекутся честные сердца.
- Мне не страшна запретность входа:
- собачья стража – мне сестра.
- За это прозвищем «не наши»
- я не была уязвлена.
- Сметливо-кротко, не однажды,
- я в их владения звана.
- День осени не сродствен злобе.
- Вотще охоч до перемен
- рождённый в городе Козлове
- таинственный эксперимент.
- Люблю: с оградою бодаясь,
- привет козы меня узнал.
- Ба! я же в город собиралась!
- Придвинься, Киевский вокзал!
- Ни с места он… Строптив и бурен
- талант козы – коз помню всех.
- Как пахнет яблоком! Как Бунин
- «прелестную козу» воспел.
- Но я – на станцию, я – мимо
- угодий, пасек, погребов.
- Жаль, электричка отменима,
- что вольной ей до Поваров?
- Парижский поезд мимолётный,
- гнушаясь мною, здраво прав,
- оставшись россыпью мелодий
- в уме, воспомнившем Пиаф.
- Что ум ещё в себе имеет?
- Я в город ехать собралась.
- С пейзажа, что уже темнеет,
- мой натюрморт не сводит глаз.
- Сосед мой, он отторгнут мною.
- Я саду льщу, я к саду льну.
- Скользит октябрь, гоним зимою,
- румяный, по младому льду.
- Опомнилась руки повадка.
- Зрачок устал в дозоре лба.
- Та, что должна быть глуповата,
- пусть будет, если не глупа.
- Луны усилилось значенье
- в окне, в окраине угла.
- Ловлю луча пересеченье
- со струйкой дыма и ума,
- пославшего из недр затылка
- благожелательный пунктир.
- Растратчик: детская копилка —
- всё получил, за что платил.
- Спит садовод. Корпит ботаник,
- влеком Сиреневым Вождём.
- А сердца брат и обитатель
- взглянул в окно и в дверь вошёл.
- Душа – надземно, над-оконно —
- примерилась пребыть не здесь,
- отведав воли и покоя,
- чья сумма – счастие и есть.
Поэмы
Озноб
- Хвораю, что ли, – третий день дрожу,
- как лошадь, ожидающая бега.
- Надменный мой сосед по этажу
- и тот вскричал:
- – Как вы дрожите, Белла!
- Но образумьтесь! Странный ваш недуг
- колеблет стены и сквозит повсюду.
- Моих детей он воспаляет дух
- и по ночам звонит в мою посуду.
- Ему я отвечала:
- – Я дрожу
- всё более – без умысла худого.
- А впрочем, передайте этажу,
- что вечером я ухожу из дома.
- Но этот трепет так меня трепал,
- в мои словавставлял свои ошибки,
- моей ногой приплясывал, мешал
- губам соединиться для улыбки.
- Сосед мой, перевесившись в пролёт,
- следил за мной брезгливо, но без фальши.
- Его я обнадежила:
- – Пролог
- вы наблюдали. Что-то будет дальше?
- Моей болезни не скучал сюжет!
- В себе я различала, взглядом скорбным,
- мельканье диких и чужих существ,
- как в капельке воды под микроскопом.
- Всё тяжелей меня хлестала дрожь,
- вбивала в кожу острые гвоздочки.
- Так по осине ударяет дождь,
- наказывая все ее листочки.
- Я думала: как быстро я стою!
- Прочь мускулы несутся и резвятся!
- Мое же тело, свергнув власть мою,
- ведет себя надменно и развязно.
- Оно всё дальше от меня! А вдруг
- оно исчезнет вольно и опасно,
- как ускользает шар из детских рук
- и ниточку разматывает с пальца?
- Всё это мне не нравилось.
- Врачу
- сказала я, хоть перед ним робела:
- – Я, знаете, горда и не хочу
- сносить и впредь непослушанье тела.
- Врач объяснил:
- – Ваша болезнь проста.
- Она была б и вовсе безобидна,
- но ваших колебаний частота
- препятствует осмотру – вас не видно.
- Вот так, когда вибрирует предмет
- и велика его движений малость,
- он зрительно почти сведён на нет
- и выглядит как слабая туманность.
- Врач подключил свой золотой прибор
- к моим приметам неопределенным,
- и острый электрический прибой
- охолодил меня огнём зеленым.
- И ужаснулись стрелка и шкала!
- Взыграла ртуть в неистовом подскоке!
- Последовал предсмертный всплеск стекла,
- и кровь из пальцев высекли осколки.
- Встревожься, добрый доктор, оглянись!
- Но он, не озадаченный нимало,
- провозгласил:
- – Ваш бедный организм
- сейчас функционирует нормально.
- Мне стало грустно. Знала я сама
- свою причастность этой высшей норме.
- Не умещаясь в узости ума,
- плыл надо мной ее чрезмерный номер.
- И, многозначной цифрою мытарств
- наученная, нервная система,
- пробившись, как пружины сквозь матрац,
- рвала мне кожу и вокруг свистела.
- Уродующий кисть огромный пульс
- всегда гудел, всегда хотел на волю.
- В конце концов казалось: к черту! Пусть
- им захлебнусь, как Петербург Невою!
- А по ночам – мозг навострится, ждет.
- Слух так открыт, так взвинчен тишиною,
- что скрипнет дверь иль книга упадет,
- и – взрыв! и – всё! и – кончено со мною!
- Да, я не смела укротить зверей,
- в меня вселенных, жрущих кровь из мяса.
- При мне всегда стоял сквозняк дверей!
- При мне всегда свеча, вдруг вспыхнув, гасла!
- В моих зрачках, нависнув через край,
- слезы светлела вечная громада.
- Я – всё собою портила! Я – рай
- растлила б грозным неуютом ада.
- Врач выписал мне должную латынь,
- и с мудростью, цветущей в человеке,
- как музыку по нотным запятым,
- ее читала девушка в аптеке.
- И вот теперь разнежен весь мой дом
- целебным поцелуем валерьяны,
- и медицина мятным языком
- давно мои зализывает раны.
- Сосед доволен, третий раз подряд
- он поздравлял меня с выздоровленьем
- через своих детей и, говорят,
- хвалил меня пред домоуправленьем.
- Я отдала визиты и долги,
- ответила на письма. Я гуляю,
- особо, с пользой делая круги.
- Вина в шкафу держать не позволяю.
- Вокруг меня – ни звука, ни души.
- И стол мой умер и под пылью скрылся.
- Уставили во тьму карандаши
- тупые и неграмотные рыльца.
- И, как у побежденного коня,
- мой каждый шаг медлителен, стреножен.
- Всё хорошо! Но по ночам меня
- опасное предчувствие тревожит.
- Мой врач еще меня не уличил,
- но зря ему я голову морочу,
- ведь всё, что он лелеял и лечил,
- я разом обожгу иль обморожу.
- Я, как улитка в костяном гробу,
- спасаюсь слепотой и тишиною,
- но, поболев, пощекотав во лбу,
- рога антенн воспрянут надо мною.
- О звездопад всех точек и тире,
- зову тебя, осыпься! Пусть я сгину,
- подрагивая в чистом серебре
- русалочьих мурашек, жгущих спину!
- Ударь в меня, как в бубен, не жалей,
- озноб, я вся твоя! Не жить нам розно!
- Я – балерина музыки твоей!
- Щенок озябший твоего мороза!
- Пока еще я не дрожу, о нет,
- сейчас о том не может быть и речи.
- Но мой предусмотрительный сосед
- уже со мною холоден при встрече.
Сказка о дожде
в нескольких эпизодах с диалогами и хором детей
- Со мной с утра не расставался Дождь.
- – О, отвяжись! – я говорила грубо.
- Он отступал, но преданно и грустно
- вновь шел за мной, как маленькая дочь.
- Дождь, как крыло, прирос к моей спине.
- Его корила я:
- – Стыдись, негодник!
- К тебе в слезах взывает огородник!
- Иди к цветам!
- Что ты нашел во мне?
- Меж тем вокруг стоял суровый зной.
- Дождь был со мной, забыв про всё на свете.
- Вокруг меня приплясывали дети,
- как около машины поливной.
- Я, с хитростью в душе, вошла в кафе
- и спряталась за стол, укрытый нишей.
- Дождь под окном пристроился, как нищий,
- и сквозь стекло желал пройти ко мне.
- Я вышла. И была моя щека
- наказана пощёчиною влаги,
- но тут же Дождь, в печали и отваге,
- омыл мне губы запахом щенка.
- Я думаю, что вид мой стал смешон.
- Сырым платком я шею обвязала.
- Дождь на моём плече, как обезьяна,
- сидел.
- И город этим был смущен.
- Обрадованный слабостью моей,
- Дождь детским пальцем щекотал мне ухо.
- Сгущалась засуха. Всё было сухо.
- И только я промокла до костей.
- Но я была в тот дом приглашена,
- где строго ждали моего привета,
- где над янтарным озером паркета
- всходила люстры чистая луна.
- Я думала: что делать мне с Дождем?
- Ведь он со мной расстаться не захочет.
- Он наследит там. Он ковры замочит.
- Да с ним меня вообще не пустят в дом.
- Я толком объяснила: – Доброта
- во мне сильна, но всё ж не безгранична.
- Тебе ходить со мною неприлично. —
- Дождь на меня смотрел, как сирота.
- – Ну, черт с тобой, – решила я, – иди!
- Какой любовью на меня ты пролит?
- Ах, этот странный климат, будь он проклят!
- Прощенный Дождь запрыгал впереди.
- Хозяин дома оказал мне честь,
- которой я не стоила. Однако,
- промокшая всей шкурой, как ондатра,
- я у дверей звонила ровно в шесть.
- Дождь, притаившись за моей спиной,
- дышал в затылок жалко и щекотно.
- Шаги – глазок – молчание – щеколда.
- Я извинилась: – Этот Дождь со мной.
- Позвольте, он побудет на крыльце?
- Он слишком влажный, слишком удлиненный
- для комнат.
- – Вот как? – молвил удивленный
- хозяин, изменившийся в лице.
- Признаться, я любила этот дом.
- В нём свой балет всегда вершила лёгкость.
- О, здесь углы не ушибают локоть,
- здесь палец не порежется ножом.
- Любила всё: как медленно хрустят
- шелка хозяйки, затененной шарфом,
- и, более всего, плененный шкафом —
- мою царевну спящую – хрусталь.
- Тот, в семь румянцев розовевший спектр,
- в гробу стеклянном, мёртвый и прелестный.
- Но я очнулась. Ритуал приветствий,
- как опера, станцован был и спет.
- Хозяйка дома, честно говоря,
- меня бы не любила непременно,
- но робость поступить несовременно
- чуть-чуть мешала ей, что было зря.
- – Как поживаете? (О блеск грозы,
- смирённый в слабом горлышке гордячки!)
- – Благодарю, – сказала я, – в горячке
- я провалялась, как свинья в грязи.
- (Со мной творилось что-то в этот раз.
- Ведь я хотела, поклонившись слабо,
- сказать:
- – Живу хоть суетно, но славно,
- тем более что снова вижу вас.)
- Она произнесла:
- – Я вас браню.
- Помилуйте, такая одаренность!
- Сквозь дождь! И расстояний отдалённость! —
- Вскричали все:
- – К огню ее, к огню!
- – Когда-нибудь, во времени другом,
- на площади, средь музыки и брани,
- мы свидимся опять при барабане,
- вскричите вы:
- «В огонь ее, в огонь!»
- За всё! За Дождь! За после! За тогда!
- За чернокнижье двух зрачков чернейших,
- за звуки с губ, как косточки черешен,
- летящие без всякого труда!
- Привет тебе! Нацель в меня прыжок.
- Огонь, мой брат, мой пёс многоязыкий!
- Лижи мне руки в нежности великой!
- Ты – тоже Дождь! Как влажен твой ожог!
- – Ваш несколько причудлив монолог, —
- проговорил хозяин уязвленный. —
- Но, впрочем, слава поросли зеленой!
- Есть прелесть в поколенье молодом.
- – Не слушайте меня! Ведь я в бреду! —
- просила я. – Всё это Дождь наделал.
- Да, это Дождь меня терзал, как демон.
- Да, этот Дождь вовлёк меня в беду.
- И вдруг я увидала – там, в окне,
- мой верный Дождь один стоял и плакал.
- В моих глазах двумя слезами плавал
- лишь след Дождя, оставшийся во мне.
- Одна из гостий, протянув бокал,
- туманная, как голубь над карнизом,
- спросила с неприязнью и капризом:
- – Скажите, правда, что ваш муж богат?
- – Богат ли муж? Не знаю. Не вполне.
- Но он богат. Ему легка работа.
- Хотите знать один секрет? – Есть что-то
- неизлечимо нищее во мне.
- Его я научила колдовству —
- во мне была такая откровенность, —
- он разом обратит любую ценность
- в круг на воде, в зверька или траву.
- Я докажу вам! Дайте мне кольцо.
- Спасем звезду из тесноты колечка! —
- Она кольца мне не дала, конечно,
- в недоуменье отстранив лицо.
- – И, знаете, еще одна деталь —
- меня влечет подохнуть под забором.
- (Язык мой так и воспалялся вздором.
- О, это Дождь твердил мне свой диктант.)
- Всё, Дождь, тебе припомнится потом!
- Другая гостья, голосом глубоким,
- осведомилась:
- – Одаренных Богом
- кто одаряет? И каким путем?
- Как погремушкой, мной гремел озноб:
- – Приходит Бог, преласков и превесел,
- немного старомоден, как профессор,
- и милостью ваш осеняет лоб.
- А далее – летите вверх иль вниз,
- в кровь разбивая локти и коленки
- о снег, о воздух, об углы Кваренги,
- о простыни гостиниц и больниц.
- Василия Блаженного, в зубцах,
- тот острый купол помните? Представьте —
- всей кожей об него!
- – Да вы присядьте! —
- она меня одернула в сердцах.
- Тем временем, для радости гостей,
- творилось что-то новое, родное:
- в гостиную впускали кружевное,
- серебряное облако детей.
- Хозяюшка, прости меня, я зла!
- Я всё лгала, я поступала дурно!
- В тебе, как на губах у стеклодува,
- явился выдох чистого стекла.
- Душой твоей насыщенный сосуд,
- дитя твое, отлитое так нежно!
- Как точен контур, обводящий нечто!
- О том не знала я, не обессудь.
- Хозяюшка, звериный гений твой
- в отчаянье вседенном и всенощном
- над детищем твоим, о, над сыночком
- великой поникает головой.
- Дождь мои губы звал к ее руке.
- Я плакала:
- – Прости меня! Прости же!
- Глаза твои премудры и пречисты!
- Тут хор детей возник невдалеке:
- – Ах, так сложилось время —
- смешинка нам важна!
- У одного еврея —
- хе-хе! – была жена.
- Его жена корпела
- над тягостным трудом,
- чтоб выросла копейка
- величиною с дом.
- О, капелька металла,
- созревшая, как плод!
- Ты солнышком вставала,
- украсив небосвод.
- Всё это только шутка,
- наш номер, наш привет.
- Нас весело и жутко
- растит двадцатый век.
- Мы маленькие дети,
- но мы растём во сне,
- как маленькие деньги,
- окрепшие в казне.
- В лопатках – холод милый
- и острия двух крыл.
- Нам кожу алюминий,
- как изморозь, покрыл.
- Чтоб было жить не скушно,
- нас трогает порой
- искусствочко, искусство,
- ребёночек чужой.
- Родителей оплошность
- искупим мы. Ура!
- О, пошлость, ты не подлость,
- ты лишь уют ума.
- От боли и от гнева
- ты нас спасешь потом.
- Целуем, королева,
- твой бархатный подол.
- Лень, как болезнь, во мне смыкала круг.
- Мое плечо вело чужую руку.
- Я, как птенца, в ладони грела рюмку.
- Попискивал ее открытый клюв.
- Хозяюшка, вы ощущали грусть
- над мальчиком, заснувшим спозаранку,
- в уста его, в ту алчущую ранку,
- отравленную проливая грудь?
- Вдруг в нём, как в перламутровом яйце,
- спала пружина музыки согбенной?
- Как радуга – в бутоне краски белой?
- Как тайный мускул красоты – в лице?
- Как в Сашеньке – непробужденный Блок?
- Медведица, вы для какой забавы
- в детёныше влюбленными зубами
- выщелкивали Бога, словно блох?
- Хозяйка налила мне коньяка:
- – Вас лихорадит. Грейтесь у камина. —
- Прощай, мой Дождь!
- Как весело, как мило
- принять мороз на кончик языка!
- Как крепко пахнет розой от вина!
- Вино, лишь ты ни в чём не виновато.
- Во мне расщеплен атом винограда,
- во мне горит двух разных роз война.
- Вино мое, я твой заблудший князь,
- привязанный к двум деревам склоненным.
- Разъединяй! Не бойся же! Со звоном
- меня со мной пусть разлучает казнь!
- Я делаюсь всё больше, всё добрей!
- Смотрите – я уже добра, как клоун,
- вам в ноги опрокинутый поклоном!
- Уж мне тесно средь окон и дверей!
- О Господи, какая доброта!
- Скорей! Жалеть до слёз! Пасть на колени!
- Я вас люблю! Застенчивость калеки
- бледнит мне щеки и кривит уста.
- Что сделать мне для вас хотя бы раз?
- Обидьте! Не жалейте, обижая!
- Вот кожа моя – голая, большая:
- как холст для красок, чист простор для ран!
- Я вас люблю без меры и стыда!
- Как небеса, круглы мои объятья.
- Мы из одной купели. Все мы братья.
- Мой мальчик Дождь! Скорей иди сюда!
- Прошел по спинам быстрый холодок.
- В тиши раздался страшный крик хозяйки.
- И ржавые, оранжевые знаки
- вдруг выплыли на белый потолок.
- И – хлынул Дождь! Его ловили в таз.
- В него впивались веники и щётки.
- Он вырывался. Он летел на щёки,
- прзрачной слепотой вставал у глаз.
- Отплясывал нечаянный канкан.
- Звенел, играя с хрусталем воскресшим.
- Но дом над ним уж замыкал свой скрежет,
- как мышцы обрывающий капкан.
- Дождь с выраженьем ласки и тоски,
- паркет марая, полз ко мне на брюхе.
- В него мужчины, подымая брюки,
- примерившись, вбивали каблуки.
- Его скрутили тряпкой половой
- и выжимали, брезгуя, в уборной.
- Гортанью, вдруг охрипшей и убогой,
- кричала я:
- – Не трогайте! Он мой!
- Дождь был живой, как зверь или дитя.
- О, вашим детям жить в беде и муке!
- Слепые, тайн не знающие руки
- зачем вы окунули в кровь Дождя?
- Хозяин дома прошептал:
- – Учти,
- еще ответишь ты за эту встречу! —
- Я засмеялась:
- – Знаю, что отвечу.
- Вы безобразны. Дайте мне пройти.
- Страшил прохожих вид моей беды.
- Я говорила:
- – Ничего. Оставьте.
- Пройдет и это. —
- На сухом асфальте
- я целовала пятнышко воды.
- Земли перекалялась нагота,
- и горизонт вкруг города был розов.
- Повергнутое в страх Бюро прогнозов
- осадков не сулило никогда.
Моя родословная
Вычисляя свою родословную, я не имела в виду сосредоточить внимание читателя на долгих обстоятельствах именно моего возникновения в мире: это было бы слишком самоуверенной и несовременной попыткой. Я хотела, чтобы героем этой истории стал Человек, любой, еще не рожденный, но как – если бы это было возможно – страстно, нетерпеливо желающий жизни, истомленный ее счастливым предчувствием и острым морозом тревоги, что оно может не сбыться. От сколького он зависит в своей беззащитности, этот еще не существующий ребёнок: от малой случайности и от великих военных трагедий, наносящих человечеству глубокую рану ущерба. Но всё же он выиграет в этой борьбе, и сильная, горячая, вечно прекрасная Жизнь придет к нему и одарит его своим справедливым, несравненным благом.
Проверив это удачей моего рождения, ничем не отличающегося от всех других рождений, я обратилась благодарной памятью к реальным людям и событиям, от которых оно так или иначе зависело.
Девичья фамилия моей бабушки по материнской линии – Стопани – была привнесена в Россию итальянским шарманщиком, который положил начало роду, ставшему впоследствии совершенно русским, но всё же прочно, во многих поколениях украшенному яркой чернотой волос и глубокой, выпуклой теменью глаз. Родной брат бабушки, чьё доброе влияние навсегда определило ее судьбу, Александр Митрофанович Стопани, стал известным революционером… Разумеется, эти стихи, упоминающие его имя, скажут о нём меньше, чем живые и точные воспоминания близких ему людей, из коих многие ныне здравствуют.
Дед моего отца, тяжко терпевший свое казанское сиротство в лихой и многотрудной бедности, именем своим объясняет простой секрет моей татарской фамилии.
Люди эти, познавшие испытания счастья и несчастья, допустившие к милому миру мои дыхание и зрение, представляются мне прекрасными – не больше и не меньше прекрасными, чем все люди, живущие и грядущие жить на белом свете, вершащие в нём непреклонное добро Труда, Свободы, Любви и Таланта.
- …И я спала все прошлые века
- светло и тихо в глубине природы.
- В сырой земле, черней черновика,
- души моей лишь намечались всходы.
- Прекрасна мысль – их поливать водой!
- Мой стебелёк, желающий прибавки,
- вытягивать магнитною звездой —
- поторопитесь, прадеды, прабабки!
- Читатель милый, поиграй со мной!
- Мы два столетья вспомним в этих играх.
- Представь себе: стоит к тебе спиной
- мой дальний предок, непреклонный Игрек.
- Лицо его пустынно, как пустырь,
- не улыбнется, слова не проронит.
- Всех сыновей он по миру пустил,
- и дочери он монастырь пророчит.
- Я говорю ему:
- – Старик дурной!
- Твой лютый гнев чья доброта поправит?
- Я б разминуться предпочла с тобой,
- но всё ж ты мне в какой-то мере прадед.
- В унылой келье дочь губить не смей!
- Ведь, если ты не сжалишься над нею,
- как много жизней сгинет вместе с ней,
- и я тогда родиться не сумею!
- Он удивлен и говорит:
- – Чур, чур!
- Ты кто?
- Рассейся, слабая туманность! —
- Я говорю:
- – Я – нечто.
- Я – чуть-чуть,
- грядущей жизни маленькая малость.
- И нет меня. Но как хочу я быть!
- Дождусь ли дня, когда мой первый возглас
- опустошит гортань, чтоб пригубить,
- о Жизнь, твой острый, бьющий в ноздри воздух?
Возражение Игрека:
- – Не дождешься, шиш! И в том
- я клянусь кривым котом,
- приоткрывшим глаз зловещий,
- худобой вороны вещей,
- крылья вскинувшей крестом,
- жабой, в тине разомлевшей,
- смертью, тело одолевшей,
- белизной ее белейшей
- на кладбище роковом.
(Примечание автора:
- Между прочим, я дождусь,
- в чём торжественно клянусь
- жизнью вечной, влагой вешней,
- каждой веточкой расцветшей,
- зверем, деревом, жуком
- и высоким животом
- той прекрасной, первой встречной,
- женщины добросердечной,
- полной тайны бесконечной,
- и красавицы притом.)
- – Помолчи. Я – вечный Игрек.
- Безрассудна речь твоя.
- Пусть я изверг, пусть я ирод,
- я-то – есть, а нет – тебя.
- И не будет! Как не будет
- с дочерью моей греха.
- Как усопших не разбудит
- восклицанье петуха.
- Холод мой твой пыл остудит.
- Не бывать тебе! Ха-ха!
- Каков мерзавец! Пусть он держит речь.
- Нет полномочий у его злодейства,
- чтоб тесноту природы уберечь
- от новизны грядущего младенца.
- Пускай договорит он до конца,
- простак недобрый, так и не прознавший,
- что уж слетают с отчего крыльца
- два локотка, два крылышка прозрачных.
- Ах, итальянка, девочка, пра-пра —
- прабабушка! Неправедны, да правы
- поправшие все правила добра,
- любви твоей проступки и забавы.
- Поникни удрученной головой!
- Поверь лгуну! Не промедляй сомненья!
- Не он, а я, я – искуситель твой,
- затем, что алчу я возникновенья.
- Спаси меня! Не плачь и не тяни!
- Отдай себя на эту злую милость!
- Отсутствуя в таинственной тени,
- небытием моим я утомилась.
- И там, в моей до-жизни неживой,
- смертельного я натерпелась страху,
- пока тебя учил родитель твой:
- «Не смей! Не знай!» – и по щекам с размаху.
- На волоске вишу! А вдруг тверда
- окажется науки той твердыня?
- И всё. Привет. Не быть мне ни-ко-гда.
- Но, милая, ты знала, что творила,
- когда в окно, в темно, в полночный сад
- ты канула давно, неосторожно.
- А он – так глуп, так мил и так усат,
- что, право, невозможно… невозможно…
- Благословляю в райском том саду
- и дерева, и яблоки, и змия,
- и ту беду, Бог весть в каком году,
- и грешницу по имени Мария.
- Да здравствует твой слабый, чистый след
- и дальновидный подвиг той ошибки!
- Вернется через полтораста лет
- к моим губам прилив твоей улыбки.
- Но Боговым суровым облакам
- не жалуйся! Вот вырастет твой мальчик —
- наплачешься. Он вступит в балаган.
- Он обезьяну купит. Он – шарманщик.
- Прощай же! Он прощается с тобой, li>и я прощусь. Прости нас, итальянка!
- Мне нравится шарманщик молодой,
- и обезьянка не чужда таланта.
Песенка шарманщика:
- В саду личинка
- выжить старается.
- Санта Лючия,
- мне это нравится!
- Горсточка мусора —
- тяжесть кармана.
- Здравствуйте, музыка
- и обезьяна!
- Милая Генуя
- нянчила мальчика,
- думала – гения,
- вышло – шарманщика!
- Если нас улица
- петь обязала,
- пой, моя умница,
- пой, обезьяна!
- Сколько народу!
- Мы с тобой – невидаль.
- Стража, как воду,
- ловит нас неводом.
- Добрые люди,
- в гуще базарной,
- ах, как вам любы
- мы с обезьяной!
- Хочется мускулам
- в дали летящие
- ринуться с музыкой,
- спрятанной в ящике.
- Ах, есть причина,
- всему причина,
- Са-а-нта-а Лю-у-чия,
- Санта-а Люч-ия!
- Уж я не знаю, что его влекло:
- корысть, иль блажь, иль зов любви неблизкой —
- но некогда в российское село —
- ура, ура! – шут прибыл италийский.
- (А кстати, хороша бы я была,
- когда бы он не прибыл, не прокрался.
- И солнцем ты, Италия, светла,
- и морем ты, Италия, прекрасна.
- Но, будь добра, шарманщику не снись,
- так властен в нём зов твоего соблазна,
- так влажен образ твой между ресниц,
- что он – о, ужас! – в дальний путь собрался.
- Не отпускай его, земля моя!
- Будь он неладен, странник одержимый!
- В конце концов он доведет меня,
- что я рожусь вне родины родимой.
- Еще мне только не хватало: ждать
- себя так долго в нетях нелюдимых,
- мужчин и женщин стольких утруждать
- рожденьем предков, мне необходимых,
- и не рождаться столько лет подряд, —
- рожусь ли? – всё игра орла и решки, —
- и вот непоправимо, невпопад,
- в чужой земле, под звуки чуждой речи,
- вдруг появиться для житья-бытья.
- Спасибо. Нет. Мне не подходит это.
- Во-первых, я – тогда уже не я,
- что очень усложняет суть предмета.
- Но, если б даже, чтобы стать не мной,
- а кем-то, был мне грустный пропуск выдан, —
- всё ж не хочу свершить в земле иной
- мой первый вздох и мой последний выдох.
- Там и останусь, где душе моей
- сулили жизнь, безжизньем истомили
- и бросили на произвол теней
- в домарксовом, нематерьяльном мире.
- Но я шучу. Предупредить решусь:
- отвергнув бремя немощи досадной,
- во что бы то ни стало я рожусь
- в своей земле, в апреле, в день десятый.)
- …Итак, сто двадцать восемь лет назад
- в России остается мой шарманщик.
- Одновременно нужен азиат,
- что нищенствует где-то и шаманит.
- Он пригодится только через век.
- Пока ж – пускай он по задворкам ходит,
- старьё берёт или вершит набег,
- пускай вообще он делает, что хочет.
- Он в узкоглазом племени своем
- так узкоглаз, что все давались диву,
- когда он шел, черно кося зрачком,
- большой ноздрёй принюхиваясь к дыму.
- Он нищ и гол, а всё ж ему хвала!
- Он сыт ничем, живет нигде, но рядом —
- его меньшой сынок Ахмадулла,
- как солнышком, сияет желтым задом.
- Сияй, играй, мой друг Ахмадулла,
- расти скорей, гляди продолговато.
- А дальше так пойдут твои дела:
- твой сын Валей будет отцом Ахата.
- Ахатовной мне быть наверняка,
- явиться в мир, как с привязи сорваться,
- и усеченной полумглой зрачка
- всё ж выразить открытый взор славянства.
Вольное изложение татарской песни:
- Мне скакать, мне в степи озираться,
- разорять караваны во мгле.
- Незапамятный дух азиатства
- тяжело колобродит во мне.
- Мы в костре угольки шуровали.
- Как врага, я ловил ее в плен.
- Как тесно облекли шаровары
- золотые мечети колен!
- Быстроту этих глаз, чуть косивших,
- я, как птиц, целовал на лету.
- Семью семь ее черных косичек
- обратил я в одну темноту.
- В поле – пахарь, а в воинстве – воин
- будет тот, в ком воскреснет мой прах.
- Средь живых – прав навеки, кто волен,
- средь умерших – бессмертен, кто прав.
- Эге-гей! Эта жизнь неизбывна!
- Как свежо мне в ее ширине!
- И ликует, и свищет зазывно,
- и трясет бородой шурале.
- Меж тем шарманщик странно поражен
- лицом рябым, косицею железной:
- чуть голубой, как сабля из ножон,
- дворяночкой худой и бесполезной.
- Бедняжечка, она несла к венцу
- лба узенького детскую прыщавость,
- которая ей так была к лицу
- и за которую ей всё прощалось.
- А далее всё шло само собой:
- сближались лица, упадали руки,
- и в сумерках губернии глухой
- старели дети, подрастали внуки.
- Церквушкой бедной перекрещена,
- упрощена полями да степями,
- уже по-русски, ударяя в «а»,
- звучит себе фамилия Стопани.
- О, старина, начало той семьи —
- две барышни, чья маленькая повесть
- печальная осталась там, вдали,
- где ныне пусто, лишь трава по пояс.
- То ль итальянца темная печаль,
- то ль этой жизни мертвенная скудость
- придали вечный холодок плечам,
- что шалью не утешить, не окутать.
- Как матери влюбленная корысть
- над вашей красотою колдовала!
- Шарманкой деда вас не укорить,
- придавлена приданым кладовая.
- Но ваших уст не украшает смех,
- и не придать вам радости приданым.
- Пребудут в мире ваши жизнь и смерть
- недобрым и таинственным преданьем.
- Недуг неимоверный, для чего
- ты озарил своею вспышкой белой
- не гения просторное чело,
- а двух детей рассудок неумелый?
- В какую малость целишь свой прыжок,
- словно в Помпею слабую – Везувий?
- Не слишком ли огромен твой ожог
- для лобика Офелии безумной?
- Ученые жить скупо да с умом,
- красавицы с огромными глазами
- сошли с ума, и милосердный дом
- их обряжал и орошал слезами.
Справка об их болезни:
- «Справка выдана в том…»
- О, как гром в этот дом
- бьет огнем и метель колесом колесит.
- Ранит голову грохот огромный.
- И в тон
- там, внизу, голосят голоски клавесин.
- О, сестра, дай мне льда. Уж пробил и пропел
- час полуночи. Льдом заострилась вода.
- Остудить моей памяти черный пробел —
- дай же, дай же мне белого льда.
- Словно мост мой последний, пылает мой мозг,
- острый остров сиротства замкнув навсегда.
- О Наташа, сестра, мне бы лёд так помог!
- Дай же, дай же мне белого льда.
- Малый разум мой вырос в огромный мотор,
- вкруг себя он вращает людей, города.
- Не распутать мне той карусели моток.
- Дай же, дай же мне белого льда.
- В пекле казни горю Иоанною д’Арк,
- свист зевак, лай собак, а я так молода.
- Океан Ледовитый, пошли мне свой дар!
- Дай же, дай же мне белого льда!
- Справка выдана в том, что чрезмерен был стон
- в малом горле.
- Но ныне беда —
- позабыта.
- Земля утешает их сон
- милосердием белого льда.
- Конец столетья. Резкий крен основ.
- Волненье. Что там? Выстрел. Мешанина.
- Пронзительный русалочий озноб
- вдруг потрясает тело мещанина.
- Предчувствие серьезной новизны
- томит и возбуждает человека.
- В тревоге пред-войны и пред-весны,
- в тумане вечереющего века —
- мерцает лбом тщеславный гимназист,
- и, ширясь там, меж Волгою и Леной,
- тот свежий свет так остросеребрист
- и так существенен в судьбе Вселенной.
- Тем временем Стопани Александр
- ведет себя опально и престранно.
- Друзей своих он увлекает в сад,
- и речь его опасна и пространна.
- Он говорит:
- – Прекрасен человек,
- принявший дар дыхания и зренья.
- В его коленях спит грядущий бег
- и в разуме живет инстинкт творенья.
- Всё для него: ему назначен мёд
- земных растений, труд ему угоден.
- Но всё ж он бездыханен, слеп и мёртв
- до той поры, пока он не свободен.
- Пока его хранимый Богом враг
- ломает прямизну его коленей
- и примеряет шутовской колпак
- к его морщинам, выдающим гений,
- пока к его дыханию приник
- смертельно-душной духотою горя
- железного мундира воротник,
- сомкнувшийся вкруг пушкинского горла.
- Но всё же он познает торжество
- пред вечным правосудием природы.
- Уж дерзок он. Стесняет грудь его
- желание движенья и свободы.
- Пусть завершится зрелостью дерев
- младенчество зеленого побега.
- Пусть нашу волю обостряет гнев,
- а нашу смерть вознаградит победа.
- Быть может, этот монолог в саду
- неточно я передаю стихами,
- но точно то, что в этом же году
- был арестован Александр Стопани.
Комментарии жандарма:
- – Всем, кто бунты разжигал, —
- всем студентам
- (о стыде-то
- не подумают),
- жидам,
- и певцу, что пел свободу,
- и глупцу, что быть собою
- обязательно желал, —
- всем отвечу я, жандарм,
- всем я должное воздам.
- Всех, кто смелостью повадок
- посягает на порядок
- высочайших правд, парадов, —
- вольнодумцев неприятных,
- а поэтов и подавно, —
- я их всех тюрьмой порадую
- и засов задвину сам.
- В чём клянусь верностью Государю-императору
- и здоровьем милых дам.
- О, распущенность природы!
- Дети в ней – и те пророки,
- красок яркие мазки
- возбуждают все мозги.
- Ликовала, оживала,
- напустила в белый свет
- леопарда и жирафа,
- Леонардо и Джордано,
- всё кричит, имеет цвет.
- Слава богу, власть жандарма
- всё, что есть, сведет на нет.
(Примечание автора:
- Между прочим, тот жандарм
- ждал награды, хлеб жевал,
- жил неважно, кончил плохо,
- не заметила эпоха,
- как подох он.
- Никто на похороны
- копеечки не дал.)
- – Знают люди, знают дети:
- я – бессмертен. Я – жандарм.
- А тебе на этом свете
- появиться я не дам.
- Как не дам идти дождям,
- как не дам, чтобы в народе
- помышляли о свободе,
- как не дам стоять садам
- в бело-розовом восходе…
- Каков мерзавец! Пусть болтает вздор,
- повелевают вечность и мгновенность —
- земле лететь, вершить глубокий вздох
- и соблюдать свою закономерность.
- Как надобно, ведет себя земля
- уже в пределах нового столетья,
- и в май маёвок бабушка моя
- несет двух глаз огромные соцветья.
- Что голосок той девочки твердит
- и плечики на что идут войною?
- Над нею вновь смыкается вердикт:
- «Виновна ли?» – «Да, тягостно виновна!»
- По следу брата, веруя ему,
- она вкусила пыль дорог протяжных,
- переступала из тюрьмы в тюрьму,
- привыкла к монотонности присяжных.
- И скоро уж на мужниных щеках
- в два солнышка закатится чахотка.
- Но есть все основания считать:
- она грустит, а всё же ждет чего-то.
- В какую даль теперь ее везут
- небыстрые подковы Росинанта?
- Но по тому, как снег берет на зуб,
- как любит, чтоб сверкал и расстилался,
- я узнаю твой облик, россиянка.
- В глазах черно от белого сиянья!
- Как холодно! Как лошади несут!
- Выходит. Вдруг – мороз ей нов и чужд.
- Сугробов белолобые телята
- к ладоням льнут. Младенческая чушь
- смешит уста. И нежно и чуть-чуть
- в ней в полщеки проглянет итальянка,
- и в чистой мгле ее лица таятся
- движения неведомых причуд.
- Всё ждет. И ей – то страшно, то смешно.
- И похудела. Смотрит остроносо
- куда-то ввысь. Лицо усложнено
- всезнающей улыбкой астронома!
- В ней сильный пульс играет вкось и вкривь.
- Ей всё нужней, всё тяжелей работа.
- Мне кажется, что скоро грянет крик
- доселе неизвестного ребёнка.
- Грянь и ты, месяц первый, Октябрь,
- на твоем повороте мгновенном
- электричеством бьет по локтям
- острый угол меж веком и веком.
- Узнаю изначальный твой гул,
- оглашающий древние своды,
- по огромной округлости губ,
- называющих имя Свободы.
- О, три слога! Рёв сильных широт
- отворенной гортани!
- Как в красных
- и предельных объёмах шаров —
- тесно воздуху в трёх этих гласных.
- Грянь же, грянь, новорожденный крик
- той Свободы! Навеки и разом —
- распахни треугольный тупик,
- образованный каменным рабством.
- Подари отпущение мук
- тем, что бились о стены и гибли, —
- там, в Михайловском, замкнутом в круг,
- там, в просторно-угрюмом Египте.
- Дай, Свобода, высокий твой верх
- видеть, знать в небосводе затихшем,
- как бредущий в степи человек
- близость звёзд ощущает затылком.
- Приближай свою ласку к земле,
- совершающей дивную дивность,
- навсегда предрешившей во мне
- свою боль, и любовь, и родимость.
- Ну что ж. Уже всё ближе, всё верней
- расчёт, что попаду я в эту повесть,
- конечно, если появиться в ней
- мне Игрека не помешает происк.
- Всё непременным чередом идет,
- двадцатый век наводит свой порядок,
- подрагивает, словно самолёт,
- предслыша небо серебром лопаток.
- А та, что перламутровым белком
- глядит чуть вкось, чуть невпопад и странно,
- ступившая, как дети на балкон,
- на край любви, на остриё пространства,
- та, над которой в горлышко, как в горн,
- дудит апрель, насытивший скворешник, —
- нацеленный в меня, прости ей, гром! —
- она мне мать, и перемен скорейших
- ей предстоит удача и печаль.
- А ты, о Жизнь, мой мальчик-непоседа,
- спеши вперед и понукай педаль
- открывшего крыла велосипеда.
- Пусть роль свою сыграет азиат —
- он белокур, как белая ворона,
- как гончую, его влечет азарт
- по следу, вдаль, и точно в те ворота,
- где ждут его, где воспринять должны
- двух острых скул опасность и подарок.
- Округлое дитя из тишины
- появится, как слово из помарок.
- Я – скоро. Но покуда нет меня.
- Я – где-то там, в преддверии природы.
- Вот-вот окликнут, разрешат – и я
- с готовностью возникну на пороге.
- Я жду рожденья, я спешу теперь,
- как посетитель в тягостной приёмной,
- пробить бюрократическую дверь
- всем телом – и предстать в ее проёме.
- Ужо рожусь! Еще не рождена.
- Еще не пала вещая щеколда.
- Никто е знает, что я – вот она,
- темно, смешно. Апчхи! В носу щекотно.
- Вот так играют дети, прячась в шкаф,
- испытывая радость отдаленья.
- Сейчас расхохочусь! Нет сил! И ка-ак
- вдруг вывалюсь вам всем на удивленье!
- Таюсь, тянусь, претерпеваю рост,
- вломлюсь птенцом горячим, косоротым —
- ловить губами воздух, словно гроздь,
- наполненную спелым кислородом.
- Сравнится ль бледный холодок актрис,
- трепещущих, что славы не добьются,
- с моим волненьем среди тех кулис,
- в потёмках, за минуту до дебюта!
- Еще не знает речи голос мой,
- еще не сбылся в лёгких вздох голодный.
- Мир наблюдает смутной белизной,
- сурово излучаемой галёркой.
- (Как я смогу, как я сыграю роль
- усильем безрассудства молодого?
- О, перейти, превозмогая боль,
- от немоты к началу монолога!
- Как стеклодув, чьи сильные уста
- взрастили дивный плод стекла простого,
- играть и знать, что жизнь твоя проста
- и выдох твой имеет форму слова.
- Иль как печник, что краснотою труб
- замаранный, сидит верхом на доме,
- захохотать и ощутить свой труд
- блаженною усталостью ладони.
- Так пусть же грянет тот театр, тот бой
- меж «да» и «нет», небытием и бытом,
- где человек обязан быть собой
- и каждым нерожденным и убитым.
- Своим добром он возместит земле
- всех сыновей ее, в ней погребенных.
- Вершит всевечный свой восход во мгле
- огромный, голый, золотой Ребёнок.)
- Уж выход мой! Мурашками, спиной
- предчувствую прыжок свой на арену.
- Уже объявлен год тридцать седьмой.
- Сейчас, сейчас – дадут звонок к апрелю.
Реплика доброжелателя:
- О, нечто, крошка, пустота,
- еще не девочка, не мальчик,
- ничто, чужого пустяка
- пустой и маленький туманчик!
- Зачем, неведомый радист,
- ты шлешь сигналы пробужденья?
- Повремени и не родись,
- не попади в беду рожденья.
- Нераспрямленный организм,
- закрученный кривой пружинкой,
- о, образумься и очнись!
- Я – умник, много лет проживший, —
- я говорю: потом, потом
- тебе родиться будет лучше.
- А не родишься – что же, в том
- всё ж есть своё благополучье.
- Помедли двадцать лет хотя б,
- утешься беззаботной ленью,
- блаженной слепотой котят,
- столь равнодушных к утопленью.
- Что так не терпится тебе,
- и, как птенец в тюрьме скорлупок,
- ты спешку точек и тире
- всё выбиваешь клювом глупым?
- Чем плохо там – во тьме пустой,
- где нет тебе ни слёз, ни горя?
- Куда ты так спешишь? Постой!
- Родится что-нибудь другое.
(Примечание автора:
- Ах, умник! И другое пусть
- родится тоже непременно, —
- всей музыкой озвучен пульс,
- прям позвоночник, как антенна.
- Но для чего же мне во вред
- ему прийти и стать собою?
- Что ж, он займет весь белый свет
- своею малой худобою?
- Мне отведенный кислород,
- которого я жду веками,
- неужто он до дна допьет
- один, огромными глотками?
- Моих друзей он станет звать
- своими? Всё наглей, всё дальше
- они там будут жить, гулять
- и про меня не вспомнят даже?
- А мой родимый, верный труд,
- в глаза глядящий так тревожно,
- чужою властью новых рук
- ужели приручить возможно?
- Ну, нет! В какой во тьме пустой?
- Сам там сиди. Довольно. Дудки.
- Наскучив мной, меня в простор
- выбрасывают виадуки!
- И в солнце, среди синевы
- расцветшее, нацелясь мною,
- меня спускают с тетивы
- стрелою с тонкою спиною.
- Веселый центробежный вихрь
- меня из круга вырвать хочет.
- О Жизнь, в твою орбиту вник
- меня таинственный комочек!
- Твой золотой круговорот
- так призывает к полнокровью,
- словно сладчайший огород,
- красно дразнящий рот морковью.
- О Жизнь любимая, пускай
- потом накажешь всем и смертью,
- но только выуди, поймай,
- достань меня своею сетью!
- Дай выгадать мне белый свет —
- одну-единственную пользу!)
- – Припомнишь, дура, мой совет
- когда-нибудь. Да будет поздно.
- Зачем ты ломишься во вход,
- откуда нет освобожденья?
- Ведь более удачный год
- ты сможешь выбрать для рожденья.
- Как безопасно, как легко,
- вне гнева века или ветра —
- не стать. И не принять лицо,
- талант и имя человека.
- Каков мерзавец? Но, средь всех затей,
- любой наш год – утешен, обнадёжен
- неистовым рождением детей,
- мельканьем ножек, пестротой одёжек.
- И в их великий и всемирный рёв,
- захлёбом насыщая древний голод,
- гортань прорезав чистым остриём,
- вонзился мой, ожегший губы голос!
- Пусть вечно он благодарит тебя,
- земля, меня исторгшая, родная,
- в печаль и в радость, и в трубу трубя,
- и в маленькую дудочку играя.
- Мне нравится, что Жизнь всегда права,
- что празднует в ней вечная повадка —
- топырить корни, ставить дерева
- и меж ветвей готовить плод подарка.
- Пребуду в ней до края, до конца,
- а пред концом – воздам благодаренье
- всем девочкам, слетающим с крыльца,
- всем людям, совершающим творенье.
- Что еще вам сказать?
- Я не знаю.
- И не знаю: я одобрена вами
- иль справедливо и бегло охаяна.
- Но проносятся пусть надо мной
- ваши лица и ваши слова.
- Написала всё это Ахмадулина
- Белла Ахатовна.
- Год рождения – 1937. Место рождения —
- город Москва.
Приключение в антикварном магазине
- Зачем? – да так, как входят в глушь осин,
- для тишины и праздности гулянья, —
- не ведая корысти и желанья,
- вошла я в антикварный магазин.
- Недобро глянул старый антиквар.
- Когда б он не устал за два столетья
- лелеять нежной ветхости соцветья,
- он вовсе б мне дверей не открывал.
- Он опасался грубого вреда
- для слабых чаш и хрусталя больного.
- Живая подлость возраста иного
- была ему враждебна и чужда.
- Избрав меня меж прочими людьми,
- он кротко приготовился к подвоху,
- и ненависть, мешающая вздоху,
- возникла в нём с мгновенностью любви.
- Меж тем искала выгоды толпа,
- и чужеземец, мудростью холодной,
- вникал в значенье люстры старомодной
- и в руки брал бессвязный хор стекла.
- Недосчитавшись голоска одной,
- в былых балах утраченной подвески,
- на грех ее обидевшись по-детски,
- он заскучал и захотел домой.
- Печальную пылинку серебра
- влекла старуха из глубин юдоли,
- и тяжела была ее ладони
- вся невесомость быта и добра.
- Какая грусть – средь сумрачных теплиц
- разглядывать осеннее предсмертье
- чужих вещей, воспитанных при свете
- огней угасших и минувших лиц.
- И вот тогда, в открывшейся тиши,
- раздался оклик запаха иль цвета:
- ко мне взывал и ожидал ответа
- невнятный жест неведомой души.
- Знакомой боли маленький горнист
- трубил, словно в канун стихосложенья, —
- так требует предмет изображенья,
- и ты бежишь, как верный пёс на свист.
- Я знаю эти глоса ничьи.
- О плач всего, что хочет быть воспето!
- Навзрыд звучит немая просьба эта,
- как крик: – Спасите! – грянувший в ночи.
- Отчаявшись, до крайности дойдя,
- немое горло просьбу излучало.
- Я ринулась на зов, и для начала
- сказала я: – Не плачь, моё дитя.
- – Что вам угодно? – молвил антиквар. —
- Здесь всё мертво и не способно к плачу. —
- Он, всё еще надеясь на удачу,
- плечом меня теснил и оттирал.
- Сведённые враждой, плечом к плечу
- стояли мы. Я отвечала сухо:
- – Мне, ставшею открытой раной слуха,
- угодно слышать всё, что я хочу.
- – Ступайте прочь! – он гневно повторял.
- И вдруг, средь слабоумия сомнений,
- в уме моём сверкнул случайно гений
- и выпалил: – Подайте тот футляр!
- – Тот ларь? – Футляр. – Фонарь? – Футляр! – Фуляр?
- – Помилуйте, футляр из черной кожи. —
- Он бледен стал и закричал: – О боже!
- Всё, что хотите, но не тот футляр.
- Я вас прошу, я заклинаю вас!
- Вы молоды, вы пахнете бензином!
- Ступайте к современным магазинам,
- где так велик ассортимент пластмасс.
- – Как это мило с вашей стороны, —
- сказала я, – я не люблю пластмассы. —
- Он мне польстил: – Вы правы и прекрасны.
- Вы любите непрочность старины.
- Я сам служу ее календарю.
- Вот медальон, и в нём портрет ребёнка.
- Минувший век. Изящная работа.
- И всё это я вам теперь дарю.
- …Печальный ангел с личиком больным.
- Надземный взор. Прилежный лоб и локон.
- Гроза в июне. Воспаленье в лёгком.
- И тьма небес, закрывшихся за ним…
- – Мне горестей своих не занимать,
- а вы хотите мне вручить причину
- оплакивать всю жизнь его кончину
- и в горе обезумевшую мать?
- – Тогда сервиз на двадцать шесть персон! —
- воскликнул он, надеждой озарённый. —
- В нём сто предметов ценности огромной.
- Берите даром – и вопрос решен.
- – Какая щедрость и какой сюрприз!
- Но двадцать пять моих гостей возможных
- всегда в гостях, в бегах неосторожных.
- Со мной одной соскучится сервиз.
- Как сто предметов я могу развлечь?
- Помилуй бог, мне не по силам это.
- Нет, я ценю единственность предмета,
- вы знаете, о чём веду я речь.
- – Как я устал! – промолвил антиквар. —
- Мне двести лет. Моя душа истлела.
- Берите всё! Мне всё осточертело!
- Пусть всё мое теперь уходит к вам.
- И он открыл футляр. И на крыльцо
- из мглы сеней, на волю из темницы
- явился свет и опалил ресницы,
- и это было женское лицо.
- Не по чертам его – по черноте,
- ожегшей ум, по духоте пространства
- я вычислила, сколь оно прекрасно,
- еще до зренья, в первой слепоте.
- Губ полусмехом, полумраком глаз
- лицо ее внушало мысль простую:
- утратить разум, кануть в тьму пустую,
- просить руки, проситься на Кавказ.
- Там – соблазнять ленивого стрелка
- сверкающей открытостью затылка,
- раз навсегда – и всё. Стрельба затихла,
- и в небе то ли Бог, то ль облака.
- – Я молод был сто тридцать лет назад, —
- проговорился антиквар печальный. —
- Сквозь зелень лип, по желтизне песчаной
- я каждый день ходил в тот дом и сад.
- О, я любил ее не первый год,
- целуя воздух и каменья сада,
- когда проездом – в ад или из ада —
- вдруг объявился тот незваный гость.
- Вы Ганнибала помните? Мастак
- он был в делах, достиг чинов немалых.
- Но я о том, что правнук Ганнибалов
- случайно оказался в тех местах.
- Туземным мраком горячо дыша,
- он прыгнул в дверь. Всё вмиг переместилось.
- Прислуга, как в грозу, перекрестилась.
- И обмерла тогда моя душа.
- Чужой сквозняк ударил по стеклу.
- Шкаф отвечал разбитою посудой.
- Повеяло палёным и простудой.
- Свеча погасла. Гость присел к столу.
- Когда же вновь затеяли огонь,
- склонившись к ней, переменившись разом,
- он всем опасным африканским рабством
- потупился, как укрощенный конь.
- Я ей шепнул: – Позвольте, он урод.
- Хоть ростом скромен, и на том спасибо.
- – Вы думаете? – так она спросила. —
- Мне кажется, совсем наоборот.
- Три дня гостил, – весь кротость, доброта, —
- любой совет считал себе приказом.
- А уезжая, вольно пыхнул глазом
- и засмеялся красным пеклом рта.
- С тех пор явился горестный намёк
- в лице ее, в его простом порядке.
- Над непосильным подвигом разгадки
- трудился лоб, а разгадать не мог.
- Когда из сна, из глубины тепла
- всплывала в ней незрячая улыбка,
- она пугалась, будто бы ошибка
- лицом ее допущена была.
- Но нет, я не уехал на Кавказ.
- Я сватался. Она мне отказала.
- Не изменив намерений нимало,
- я сватался второй и третий раз.
- В столетье том, в тридцать седьмом году,
- по-моему, зимою, да, зимою,
- она скончалась, не послав за мною,
- без видимой причины и в бреду.
- Бессмертным став от горя и любви,
- я ведаю этим ничтожным храмом,
- толкую с хамом и торгую хламом,
- затерянный меж Богом и людьми.
- Но я утешен мнением молвы,
- что всё-таки убит он на дуэли.
- – Он не убит, а вы мне надоели, —
- сказала я, – хоть не виновны вы.
- Простите мне желание руки
- владеть и взять. Поделим то и это.
- Мне – суть предмета, вам – краса портрета:
- в награду, в месть, в угоду, вопреки.
- Старик спросил: – Я вас не вверг в печаль
- признаньем в этих бедах небывалых?
- – Нет, вспомнился мне правнук Ганнибалов, —
- сказала я, – мне лишь его и жаль.
- А если вдруг, вкусивший всех наук,
- читатель мой заметит справедливо:
- – Всё это ложь, изложенная длинно, —
- отвечу я: – Конечно, ложь, мой друг.
- Весьма бы усложнился трезвый быт,
- когда б так поступали антиквары
- и жили вещи, как живые твари,
- а тот, другой, был бы и впрямь убит.
- Но нет, портрет живет в моём дому!
- И звон стекла! И лепет туфель бальных!
- И мрак свечей! И правнук Ганнибалов
- к сему причастен – судя по всему.
Дачный роман
- Вот вам роман из жизни дачной.
- Он начинался в октябре,
- когда зимы кристалл невзрачный
- мерцал при утренней заре.
- И Тот, столь счастливо любивший
- печаль и блеск осенних дней,
- был зренья моего добычей
- и пленником души моей.
- Недавно, добрый и почтенный,
- сосед мой умер, и вдова,
- для совершенья жизни бренной,
- уехала, а дом сдала.
- Так появились брат с сестрою.
- По вечерам в чужом окне
- сияла кроткою звездою
- их жизнь, неведомая мне.
- В благовоспитанном соседстве
- поврозь мы дождались зимы,
- но, с тайным любопытством в сердце,
- невольно сообщались мы.
- Когда вблизи моей тетради
- встречались солнце и сосна,
- тропинкой, скрытой в снегопаде,
- спешила к станции сестра.
- Я полюбила тратить зренье
- на этот мимолётный бег,
- и длилась целое мгновенье
- улыбка, свежая, как снег.
- Брат был свободней и не должен
- вставать, пока не встанет день.
- «Кто он? – я думала. – Художник?»
- А думать дальше было лень.
- Всю зиму я жила привычкой
- их лица видеть поутру
- и знать, с какою электричкой
- брат пустится встречать сестру.
- снежки, огни, когда темно,
- и знала, что они прекрасны,
- а кто они – не всё ль равно?
- Я вглядывалась в них так остро,
- как в глушь иноязычных книг,
- и слаще явного знакомства
- мне были вымыслы о них.
- Их дней цветущие картины
- растила я меж сонных век,
- сослав их образы в куртины,
- в заглохший сад, в старинный снег.
- Весной мы сблизились – не тесно,
- не участив случайность встреч.
- Их лица были так чудесно
- ясны, так благородна речь.
- Мы сиживали в час заката
- в саду, где липа и скамья.
- Брат без сестры, сестра без брата,
- как ими любовалась я!
- Я шла домой и до рассвета
- зрачок держала на луне.
- Когда бы не несчастье это,
- была б несчастна я вполне.
- Тёк август. Двум моим соседям
- прискучила его жара.
- Пришли, и молвил брат: – Мы едем.
- – Мы едем, – молвила сестра.
- Простились мы – скорей степенно,
- чем пылко. Выпили вина.
- Они уехали. Стемнело.
- Их ключ остался у меня.
- Затем пришло письмо от брата:
- «Коли прогневаетесь Вы,
- я не страшусь: мне нет возврата
- в соседство с Вами, в дом вдовы.
- Зачем, простак недальновидный,
- я тронул на снегу Ваш след?
- Как будто фосфор ядовитый
- в меня вселился – еле видный,
- доныне излучает свет
- ладонь…» – с печалью деловитой
- я поняла, что он – поэт,
- и заскучала…
- Тем не мене
- отвыкшие скрипеть ступени
- я поступью моей бужу,
- когда в соседний дом хожу,
- одна играю в свет и тени
- и для таинственной затеи
- часы зачем-то завожу
- и долго за полночь сижу.
- Ни брата, ни сестры. Лишь в скрипе
- зайдется ставня. Видно мне,
- как ум забытой ими книги
- печально светится во тьме.
- Уж осень. Разве осень? Осень.
- Вот свет. Вот сумерки легли.
- – Но где ж роман? – читатель спросит. —
- Здесь нет героя, нет любви!
- Меж тем – всё есть! Окрест крепчает
- октябрь, и это означает,
- что Тот, столь счастливо любивший
- печаль и блеск осенних дней,
- идет дорогою обычной
- на жадный зов свечи моей.
- Сад облетает первобытный,
- и от любви кровопролитной
- немеет сердце, и в костры
- сгребают листья… Брат сестры,
- прощай навеки! Ночью лунной
- другой возлюбленный безумный,
- чья поступь молодому льду
- не тяжела, минует тьму
- и к моему подходит дому.
- Уж если говорить: люблю! —
- то, разумеется, ему,
- а не кому-нибудь другому.
- Очнись, читатель любопытный!
- Вскричи: – Как, намертво убитый
- и прочный, точно лунный свет,
- тебя он любит?! —
- Вовсе нет.
- Хочу соврать и не совру,
- как ни мучительна мне правда.
- Боюсь, что он влюблён в сестру
- стихи слагающего брата.
- Я влюблена, она любима,
- вот вам сюжета грозный крен.
- Ах, я не зря ее ловила
- на робком сходстве с Анной Керн!
- В час грустных наших посиделок
- твержу ему: – Тебя злодей
- убил! Ты заново содеян
- из жизни, из любви моей!
- Коль Ты таков – во мглу веков
- назад сошлю! —
- Не отвечает
- и думает: «Она стихов
- не пишет, часом?» – и скучает.
- Вот так, столетия подряд,
- все влюблены мы невпопад,
- и странствуют, не совпадая,
- два сердца, сирых две ладьи,
- ямб ненасытный услаждая
- великой горечью любви.
Рассказы
Много собак и собака
Посвящено Василию Аксёнову
…Смеркалось на Диоскурийском побережье… – вот что сразу увидел, о чем подумал и что сказал слабоумный и немой Шелапутов, ослепший от сильного холодного солнца, айсбергом вплывшего в южные сады. Он вышел из долгих потемок чужой комнаты, снятой им на неопределенное время, в мимолетную вечную ослепительность и так стоял на пороге между тем и этим, затаившись в убежище собственной темноты, владел мгновением, длил миг по своему усмотрению: не смотрел и не мигал беспорядочно, а смотрел не мигая в близкую преграду сомкнутых век, далеко протянув разъятые ладони. Ему впервые удалась общая бестрепетная недвижимость закрытых глаз и простертых рук. Уж не исцелился ли он в Диоскурийском блаженстве? Он внимательно ранил тупые подушечки (или как их?..) всех пальцев, в детстве не прозревшие к черно-белому Гедике, огромным ледяным белым светом, марая его невидимые острия очевидными капельками крови, проницательной ощупью узнавая каждую из семи разноцветных струн: толстая фиолетовая басом бубнила под большим пальцем, не причиняя боли. Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан. Отнюдь нет – не каждый. Шелапутов выпустил спектр из взволнованной пятерни, открыл глаза и увидел то, что предвидел. Было люто светло и холодно. Безмерное солнце, не умещаясь в бесконечном небе и бескрайнем море, для большей выгоды блеска не гнушалось никакой отражающей поверхностью, даже бледной кожей Шелапутова, не замедлившей ощетиниться убогими воинственными мурашками, единственно защищающими человека от всемирных бедствий.
Смеркалось на Диоскурийском побережье – не к серым насморочным сумеркам меркнущего дня – к суровому мраку, к смерти цветов и плодов, к сиротству сирых – к зиме. Во всех прибрежных садах одновременно повернулись черные головы садоводов, обративших лица в сторону гор: там в эту ночь выпал снег.
Комната, одолженная Шелапутовым у расточительной судьбы, одинокая в задней части дома, имела независимый вход: гористую ржаво-каменную лестницу, с вершины которой он сейчас озирал изменившуюся окрестность. С развязным преувеличением постоялец мог считать своими отдельную часть сада, заляпанного приторными дребезгами хурмы, калитку, ведущую в море, ну, и море, чья вчерашняя рассеянная бесплотная лазурь к утру затвердела в непреклонную мускулистую материю. Шелапутову надо было спускаться в предгорьях лестницы, уловив возлюбленное веяние, мощную лакомую волну воздуха, посланную человеком, заюлила, затявкала, заблеяла Ингурка.






