Стихотворения и поэмы. Дневник Ахмадулина Белла
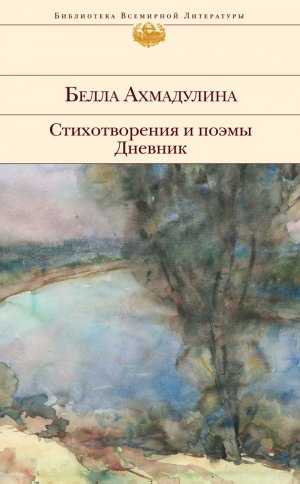
Тут он всполошился, забегал, нырнул в глубокий хлам и выловил там длинный лист бумаги, на котором жидкой кокетливой акварелью было выведено: «ЭСТРАДНО-КОМИЧЕСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ». Рекламируя таким образом программу ансамбля, он застенчиво придерживал нижний нераскрученный завиток афиши, видимо, извещавший зрителя о цене билетов.
Поощренный нашей растерянностью, он резво и даже с восторгом обратился к своей труппе:
– Друзья, вот счастливый момент доказать руководящим товарищам нашу серьезность.
И жалобно скомандовал:
– Афина, пожалуйста!
Вышла тусклая, словно серым дождем прибитая, женщина. Она в страхе подняла на нас глаза, и сквозь скушный, нецветной туман ее облика забрезжило вдруг яркое синее солнышко детского взгляда. Ее как-то вообще не было видно, словно она смотрела на нас сквозь щель в заборе, только глаза синели, совсем одни, они одиноко синели, перебиваясь кое-как, вдали от нее, не ожидая помощи от ее слабой худобы и разладившихся пружин перманента.
Она торопливо запела, опустив руки, но они тяготили ее, и она сомкнула их за спиной.
– Больше мажора! – поддержал ее маленький человек.
– Тогда я, пожалуй, спою с движениями? – робко отозвалась она и отступила за ширму. Оттуда вынесла она большой капроновый шарф с опадающей позолотой и двинулась вперед, то широко распахивая, то соединяя под грудью его увядшие крылья.
Она грозно и бесстыдно наступала на нас озябшими локтями и острым голосом, а глаза ее синели все так же боязливо и недоуменно. Смущенно поддаваясь ее натиску, мы пятились к двери, и все участники ансамбля затаенно и страстно следили за нашим отходом.
– Эх, доиграетесь вы с вашей халтурой! – предостерег их Ваня.
На крыльце мы вздохнули разом и опять улыбнулись друг другу в какой-то странной радости.
Тут опять объявился мальчик и, словно мы были ненаглядно прекрасны, восхищенно уставился на нас.
– А других археологов не было тут? – присев перед ним для удобства, спросил Иван Матвеевич.
– Нет, других не было, – хорошо подумав, ответил мальчик. – Шпионы были, но я проводил их уже.
– Ишь ты! – удивился Иван Матвеевич. – А что ж они здесь делали?
Мальчик опять заговорил, радуясь, что вернулась надобность в нем.
– Приехали, приехали и давай, давай стариков расспрашивать. А главный все пишет, пишет в книжку. Я ему сказал: «Ты шпион?» – он засмеялся и говорит: «Конечно». И дал мне помидор. Потом говорит: «Ну, пора мне ехать по моим шпионским делам. А если пограничники будут меня ловить, скажи, уехал на Курганы». Но я никому ничего не сказал, только тебе, потому что он, наверно, обманул меня. И жалко его: он однорукий.
– Эх ты, маленький, расти большой, – сказал Иван Матвеевич, поднимаясь и его поднимая вместе с собой. Босые ножки полетали немного в синем небе и снова утвердились в пыли около озера. Я погладила мальчика по прозрачно-белым волосам, и близко под ними, пугая ладонь хрупкостью, обнаружилось теплое и круглое темя, вызывающее любовь и нежность.
На Курганах воскресенье шло своим чередом. По улице, с одной стороны имеющей несколько домов, а с другой – далекую и пустую степь, гулял гармонист, вполсилы растягивая гармонь. За ним, тесно взявшись под руки, следовали девушки в выходных ситцах, а в отдалении вилось пыльное облачко детворы. Изредка одна из девушек выходила вперед всей процессии и делала перед ней несколько кругов, притопывая ногами и выкрикивая частушку. Вроде бы и незатейливо они веселились, а все же не хотели отвлечься от праздника, чтобы ответить на наш вопрос об археологах. Наконец выяснилось, что никто не видел крытой машины и в ней девяти человек с одноруким.
– Разве это археологи? – взорвался вдруг Ваня. – Это летуны какие-то! Они что, дело делают, или в прятки играют, или вообще с ума сошли?
– А ты думал, они сидят где-нибудь, ждут-пождут, и однорукий говорит: «Что-то наш Ваня не едет?» – одернул его Иван Матвеевич и быстро глянул на нас: не обиделись ли мы на Ванину нетерпеливость?
У последнего дома мы остановились, чтобы опорожнить канистру с бензином для поддержки «газика», а Ваня распластался на траве, обновляя мыльную заплату на бензобаке.
На крыльцо вышла пригожая старуха, и Иван Матвеевич тотчас обратился к ней:
– Бабка, а не видала ты… – Он тут же осекся, потому что из бабушкиных век смотрели только две чистые, пустые, широко открытые слезы.
– Ты что примолк, милый? – безгневно отозвалась она. – Ты не смотри, что я слепая, может, и видала чего. Меня вон как давеча проезжий человек утешил, когда мою воду пил. Ты, говорит, мать, не скучай по своим глазам. У человека много всего человеческого, каждому калеке что-нибудь да останется. У меня, говорит, одна рука, а я ею землю копаю.
– Ну и бабка! – восхищенно воскликнул Иван Матвеевич. – Я ведь как раз этого однорукого ищу. Куда же он отсюда поехал?
– Отсюда-то вон туда, – она указала рукой, – а уж оттуда куда, не спрашивай – не знаю.
– Верно, вот их след, – закричал Ваня, – на полуторке они от нас удирают!
– Нам теперь прямая дорога в уголовный розыск, – заметил Иван Матвеевич, бодро усаживаясь за руль. – Иль в индейцы. Хватит жить без приключений!
У нас глаза сузились от напряжения и от света, летящего навстречу, в лицах появилось что-то древневоенное и непреклонное. «Газик» наш – гулять так гулять! – неистово гремел худым железом, и орлы, парящие вверху, брезгливо пережидали в небе нашу музыку.
Вдруг нам под ноги выкатилась большая фляга, обернутая войлоком. Мы не могли понять, ни откуда она взялась, ни что в ней, но наугад стали отхлёбывать из горлышка прямо на ходу и скоро, как щенки, перемазались в белой сладости. Фляга ударяла нас по зубам, и мы хохотали, обливаясь молоком, отнимая друг у друга его косые всплески. Мы нацеливались на него губами, а оно метило нам в лицо, мгновенным бельмом проплывало в глазу и клеило волосы. Но когда я уже отступилась от погони за ним, перемогая усталость дыхания, оно само пришло на язык, и его глубокий и чистый глоток растворился во мне, напоминая Аню. Это она, волшебная девочка, дочь волшебницы, предусмотрительно послала мне свое крепкое снадобье, настоянное на всех травах, цветах и деревьях. И я, вновь похолодев от тоски и жадности, пригубила ее живой и добрый мир. Его дети, растения и звери приблизились к моим губам, влажно проникая в мое тело, и ничего, кроме этого, тогда во мне не было.
Подослепшие от тяжелого степного солнца, нетрезво звенящего в голове, мы снова попали в хвойное поднебесье леса. Он осыпал на наши спины прохладный дождь детских мурашек, и разомлевшее тело строго подобралось в его свежести. Никогда потом не доводилось мне испытывать таких смелых и прихотливых чередований природы, обжигающих кожу веселым ознобом.
– Они в Сагале, больше негде им быть, – уверенно сказал Иван Матвеевич.
Мы остановились возле реки и умылись, раня ладони острым холодом зеленой воды.
На переправе мы хором, азартно и наперебой спросили:
– Был здесь грузовик с крытым кузовом?
– И с ним девять человек?
– Среди них – однорукий?
– И девушка? – мягко добавил Шура.
Не много машин переправлялось здесь в воскресенье, но старый хакас, работавший на пароме, долго размышлял, прежде чем ответить. Он раскурил трубку, отведал ее дыма, сдержанно улыбнулся и промолвил:
– Были час назад.
– Судя по всему, они должны быть в столовой, – обратился Иван Матвеевич к Ване. – Как ты думаешь, следопыт?
– Я думаю, если они даже сквозь землю провалились, в столовую нам не мешает заглянуть, – решительно заявил Ваня. – Целый день не ели, как верблюды.
– Может, Ванюша, ты по невесте скучаешь? – поддел его Иван Матвеевич.
Он, видимо, чувствовал, что нам с Шурой все больше делалось стыдно за их даром пропавшее воскресенье, и потому не позволял Ване никаких проявлений недовольства. Ваня ненадолго обиделся и замолк.
В совхозной чайной было светло и пусто, только два вместе сдвинутых стола стояли неубранными. Девять пустых тарелок, девять ложек и вилок насчитали мы в этом беспорядке, оцепенев в тяжелом волнении.
Я помню, что горе, настоящее горе осенило меня. Чем провинились мы перед этими девятью, что они так упорно и бессмысленно уходили от нас?
– Где археологи? – мрачно спросил Иван Матвеевич у розово-здоровой девушки, вышедшей убрать со стола.
– Они мне не докладывались, – с гневом отвечала она, – нагрязнили посуды – и ладно.
– Мало в тебе привета, хозяйка, – укорил ее Иван Матвеевич.
– На всех не напасешься, – отрезала она. – А вы за моим приветом пришли или обедать будете?
– А были с ними однорукий и девушка? – застенчиво вмешался Шура.
Он уже второй раз с какой-то нежностью в голосе поминал об этой девушке: видимо, ее неопределенный, стремительно ускользающий образ трогал его своей недосягаемостью.
Но кажется, именно в этой девушке и крылась причина немилости, павшей на наши головы.
– У нас таким девушкам вслед плюют! – закричала наша хозяйка. – Вырядилась в штаны – не то баба, не то мужик, глазам смотреть стыдно. И имя-то какое ей придумали! Я Ольга, и все Ольги, а она Э-льга! Знать, и родители ее бесстыдники были, вот и вышла Эль-га! Одна на восемь мужиков, а они и рады: всю мою герань для нее общипали. Отобедали – и ей, ей первой спасибо говорят, а уж за что спасибо, им одним известно.
– Как вам не стыдно! – не выдержал Шура. – Что она вам худого сделала? Ведь она работает здесь, одна, далеко от дома, думаете, легко ей с ними ездить?
– Что ты меня стыдишь? – горько сказала она, утихая голосом, и, поникнув розовым лицом на розовые локти, вдруг заплакала.
Иван Матвеевич ласково погладил ее по руке и поймал пальцем большую круглую слезу, уже принявшую в себя ее розовый цвет.
– Полно горевать, – утешал он ее, – у тебя слезинка – и та красавица. У них в городе все по-своему. А ты меня возьми спасибо говорить.
– А сам, небось, поедешь ее догонять? – ответила она, повеселев и одного только Шуру не прощая взглядом. – Что есть будете?
Мы уже перестали торопиться и, ослабев, медленно ели глубокий, нежно-крепкий борщ и оладьи, вздыхающие множеством круглых ноздрей. Сильный розовый отблеск хозяйки как бы плыл в борще, ложился на наши лица, вода, подкрашенная им, отдавала вином. За окном близко от нас садилось солнце.
Рядом, опаляя ресницы, действовала вечная закономерность природы: земля и солнце любовно огибали друг друга, сгущались земные облака над деревьями, иные планеты отчетливо прояснялись в небесах.
Быстро темнело, и только женщина смирно как бы теплилась в углу. Усталость клонила наши головы, ничего больше нам не хотелось.
– Зато выспитесь сегодня, – осторожно сказала я Ивану Матвеевичу и Ване.
Они тут же вскочили.
– Поехали! – крикнул Иван Матвеевич.
Мы помчались, не разбирая дороги. Иногда одинокая фигура, темнеющая далеко в степи, при нашем приближении распадалась на два тоненьких силуэта и четыре затуманенных глаза в блаженном неведении смотрели на нас. Тени встревоженных животных изредка пересекали свет впереди, и тогда Ваня в добром испуге хватался за рукав Ивана Матвеевича.
Никто из неспящих в этой ночи не знал об археологах. Раза два или три нас посылали далеко направо или налево, и мы, описав долгую кривую, находили в конце ее геологов, метеорологов, каких-то студентов или неведомых людей, тоже чего-то ищущих в Сибири.
Мы давно уже не знали, где мы, когда Иван Матвеевич с тревогой признался:
– Кончается бензин, меньше нуля осталось.
Вдали, в сплошной черноте, вздрагивал маленький оранжевый огонь. Наш «газик» все-таки дотянул до него из последних сил и остановился. Возле грузовика, стоящего поперек дороги, печально склонившись к скудному костру, воняющему резиной, сидел на земле человек.
– Браток, не одолжишь горючего? – с ходу обратился к нему Иван Матвеевич.
– Да понимаешь, какое дело, – живо отозвался тот, поднимая от огня яркое лицо южанина, – сам стою с пустым баком. Второй час уже старую запаску жгу.
Он говорил с акцентом, и из речи его, трудно напрягающей горло, возник и поплыл на меня город, живущий в горах, разгоряченный солнцем, громко говорящий по утрам и не утихающий ночью, в марте горько расцветающий миндалем, в декабре гордо увядающий платанами, щедро одаривший меня добром и лаской, умудривший мой слух своей огромной музыкой. Не знаю, что было мне в этом чужом городе, но я всегда нежно тосковала по нему, и по ночам мне снилось, что я легко выговариваю его слова, недоступные для моей гортани.
Иван Матвеевич и Ваня грустно, доверчиво и словно издалека слушали, как мы с этим шофером говорим о его стране, называя ее странным именем «Сакартвело».
Между тем становилось очень холодно, это резко континентальный климат давал о себе знать, остужая нас холодом после дневной жары.
Все они стали упрашивать меня поспать немного в кабине. Я отказалась и сразу же заснула, склонившись головой на колени.
Очнулась я среди ватников и плащей, укрывших меня с головой. Озябшее тело держалось как-то прямоугольно, онемевшие ноги то и дело смешно подламывались. Было еще бессолнечно, но совсем светло. Иван Матвеевич и тот шофер, сплевывая, отсасывали бензин из шланга, уходящего другим концом в глубину бензовоза, стоящего поодаль. Его водитель до упаду смеялся над нашими бледно-голубыми лицами и нетвердыми, как у ягнят, коленями.
– И этакие красавцы чуть не погибли в степи! – веселился он. – Из-за бензина! А у меня этого добра целая бездонность. Так бы и зимовали тут, если б не я.
Но Иван Матвеевич и Ваня, пригорюнившись с утра, ничего не отвечали.
У грузина под сиденьем припрятана была бутылка вина. Мы позавтракали только этим вином, уже чуть кислившим, но еще чистым и щекотным на вкус, и наскоро простились. Пыль, разбуженная двумя машинами, рванувшимися в разные стороны, соединилась в одну хлипкую, непрочную тучку, повисела недолго над дорогой и рассеялась.
Мы все молчали и словно стеснялись друг друга. Красное, точно круглое солнце понедельника уже отрывалось от горизонта. Мы никого больше не искали, мы возвращались, до Тумы было часа четыре езды.
И тут что-то добро и тепло обомлело там, в самой нашей глубине, видимо, слабое вино, принятое натощак, все же оказывало свое действие. Как долго было все это: из маленького, кислого, зеленого ничего образовывалось драгоценное, округлое тело ягоды с темными сердечками косточек под прозрачной кожей; все тягостнее, непосильней, томительней гроздь угнетала лозу; затем, бережно собранные воедино, разбивались хрупкие сосуды виноградин, и освобожденная влага опасно томилась и пенилась в чане; старик кахетинец и его молодые красивые дети, все умеющие петь, помещали эту густую сладость в кувшины с коническим дном, зарытые в землю, и постепенно укрощали и воспитывали ее буйность. И всё затем, чтобы в это утро, не принесшее нам удачи, мы испытали неопределенную радость и доброту друг к другу. Мы сильно, нежно ни с того ни с сего переглянулись вчетвером в последний раз в степи, под солнцем, уже занявшим на небе свое высокое неоспоримое место.
У переправы через Гутым сгрудилось несколько машин, ожидающих своей очереди. Мы пошли к реке, чтобы умыться. Там плескался, зайдя в воду у берега, какой-то угрюмый человек, оглянувшийся на нас криво и подозрительно.
– Возишь кого или сам начальство? – спросил он у Ивана Матвеевича, обнажив праздничный самородок зуба, недобро засиявший на солнце.
– А черт меня знает, – рассеянно и необщительно ответил Иван Матвеевич.
– Ну, а я сам с чертом одноруким связался. Замучили совсем, гробокопатели ненормальные, день и ночь с ними разъезжаю – ни покушать, ни пожрать, да еще землю рыть заставляют.
Вяло обмерев, слушали мы, как он говорит со злорадством и мукой, выдыхая свое золотое сияние.
– Где они? – слабо и боязливо выговорил Иван Матвеевич.
– Вон, вон! – в новом приливе ожесточения забубнил человек, протыкая воздух указательным пальцем. – То носились, как угорелые, а теперь палатки поставили и сидят, ничего не делают.
В стороне, близко к воде, и правда, белело несколько маленьких палаток, а между ними деловито и начальственно расхаживала тоненькая девушка в брюках и ковбойке.
Иван Матвеевич и Ваня, обгоняя друг друга, бросились к ней и разом обняли ее.
Холодно и удивленно отстранила она их руки и, отступив на шаг, сурово осведомилась:
– В чем дело?
– Вы археологи? Вас Эльга зовут?
– Да, археологи, да, Эльга, – строго и нетерпеливо продолжала она.
И тогда оба они увидели ее, надменную царевну неведомого царства, в брюках, загадочно украшенных швами и пуговками, с невыносимо гордой ее головой на непреклонной шее.
Отдалившись от нее, Иван Матвеевич, смутившись, стал сбивчиво оправдываться:
– Мы… ничего не хотим, тут вот товарищи из Москвы… всё разыскивали вас…
– Где?! – воскликнула девушка и радостно и недоверчиво посмотрела на меня и Шуру, склонив набок голову. – Вы, правда, из Москвы? – заговорила она, горячо схватив нас за руки. – Когда приехали? Что там нового? Мы же ничего не знаем, совсем одичали! Какое счастье, что вы нас разыскали! И как кстати: мы тут нашли одну замечательную вещь! Да идемте же, что мы стоим, как дураки! Как вы нас нашли, мы ж всё время мчались, намечали план раскопок!
Какие-то молодые люди обступили нас со всех сторон, тормошили, обнимали, расспрашивали и все кричали наперебой, как будто это они догнали нас наконец в огромном пространстве.
Мы с Шурой совсем растерялись. Вот они все тут, рядом, уже не отделенные от нас горизонтом: семь человек, девушка и вышедший из-за деревьев, ярко охваченный солнцем, смуглый, узкоглазый, однорукий.
– Это наш профессор, – шепнула Эльга, – он замечательный, очень ученый и умный, на вид строгий, а на самом деле предобрый.
Профессор крепко, больно пожал нам руки. Он, видно, был хакас и глядел зорко, словно прищурившись для хитрости.
Мы радостно оглянулись на Ивана Матвеевича и Ваню и вдруг увидели, что их нет. Как это? Мы так привыкли к тесной и постоянной близости этих людей, что неожиданное, немыслимое их отсутствие потрясло нас и обидело.
– Постойте, – сказал Шура, пробиваясь сквозь археологов, – где же они?
– Кого вы ищете? – удивилась Эльга. – Мы все здесь.
Еще обманывая себя надеждой, мы обыскали весь берег и лес около – их нигде не было. Золотозубый стоял на прежнем месте и, погруженный в глубокое и мрачное франтовство, налаживал брюки, красиво напуская их на сапоги.
– Тут было двое наших, не видели, куда они делись? – обратился к нему взволнованный Шура.
– Это почему же они ваши? Они сами по себе, – отозвался тот, выплюнув молнию. – Ваши вон стоят, а те – на работу, что ли, опаздывали да не хотели вас отвлекать своим прощанием, велели мне за них попрощаться. Так что счастливо.
Как-то сразу устав и помертвев, мы побрели назад, к поджидавшим нас археологам. Все они вдруг показались нам скучно похожими друг на друга. Эльга – жестокой и развязной, однорукий – чопорным. Мы и тогда знали, конечно, что это не так, но всё же дулись на них за что-то.
Целый день мы записывали их рассказы: о их работе, о тагарской культуре, длившейся с седьмого по второй век до нашей эры. Мне тоскливо почему-то подумалось в эту минуту, что все это ни к чему.
– Мы напишем прекрасную статью, романтическую и серьезную, – ласково ободрил меня Шура.
– Да, – сказала я, – только знаете, Александр Семенович, вы сами напишите ее, а я придумаю что-нибудь другое.
Вечером разожгли костер, и с разрешения профессора нам торжественно показали находку, которой все очень гордились.
Это был осколок древней стелы, случайно обнаруженный ими вчера в Курганах. Эльга осторожно, боясь вздохнуть, поднесла к огню небольшой плоский камень, в котором первый взгляд не находил ничего примечательного. Но, близко склонившись к нему, мы различили слабое, нежное, глубоко высеченное изображение лучника, грозно поднимающего к небу свое бедное оружие. Какая-то трогательная неправдоподобность была в его позе, словно это рисовал ребенок, томимый неосознанным и могучим предвкушением искусства. Две тысячи лет назад и больше кто-то кропотливо трудился над этим камнем. Милое, милое человечество!
В лице и руках Эльги ясно отражался огонь, делая ее трепетной соучастницей, живым и светлым языком этого пламени, радостно нарушающего порядок ночи. Я смотрела на славные, молодые лица, освещенные костром, выдающие нетерпение, талант и счастливую углубленность в свое дело, лучше которых ничего не бывает на свете, и меня легко коснулось печальное ожидание непременной и скорой разлуки с этими людьми, как было со всеми, кого я повстречала за два последних дня или когда-нибудь прежде.
– Как холодно, – сказала Эльга, поежившись, – скоро осень.
Я тихонько встала и пошла в деревья, в белую мглу тумана, поднявшегося от реки. Близкий огонь костра, густо осыпающиеся августовские звезды, теплый, родной вздох земли, омывающий ноги, – это было добрым и детским знаком, твердо обещающим, что все будет хорошо и прекрасно. И вдруг слезы, отделившись от моих глаз, упали мне на руки. Я радостно засмеялась этим слезам и всё же плакала, просто так, ни по чему, по всему на свете сразу: по Ане, по лучнику, по Ивану Матвеевичу и Ване, по бурундуку, живущему на горе, по небу над головой, по этому лету, которое уже подходило к концу.
1963
Нечаяние. Дневник
Вечной памяти тети Дюни
- В нечаянье ума, в бесчувствии затменном
- внезапно возбелел, возбрезжил Белозерск…
- Как будто склонны мы к Отечеству изменам,
- нас милиционер сурово обозрел.
- Как Нила Сорского, в утайке леса, пустынь,
- спросили мы его, проведать и найти?
- То ль вид наш был нелеп, то ль способ речи путан, —
- он строго возвестил, что нет туда пути.
- Мы двинулись назад, в предивный град Кириллов.
- (О граде праведном мне бы всплакнуть в сей час.)
- В милиции подверг нас новым укоризнам
- младой сержант – за что так пылко он серчал?
- Так гневался зачем, светло безбровье супил,
- покуда, как букварь, все изучал права?
- Но скромный чин его преуменьшал мой суффикс:
- сержантику – гулять иль свататься пора.
- Взгляд блекло-голубой и ветхость всеоружья —
- вид власти не пугал, а к жалости взывал.
- – Туда дорога есть, – сказала нам старушка, —
- да горькая она и неподсильна вам.
- Не надобно туда ни хаживать, ни ехать! —
- Нам возбраненных тайн привиделся порог.
- Участливым словам ответив грозным эхом,
- над нами громыхнул-блеснул Илья-пророк.
- Впрясь – грянула гроза. Коль, памятный поныне,
- всезнающий диктант со мною говорит, —
- как перед ним мои писанья заунывны!
- Я ритм переменю, я отрекусь от рифм.
- Становится к утру кипящею ретортой
- тьма темени, испив всенощный кофеин.
- Мой час, после полуночи четвёртый,
- на этот раз прощусь с наитием твоим.
- Правописанье слов и право слов изустных —
- пред златом тишины всё тщетно, всё – равно.
- Пусть Нила-Бессеребреника пустынь
- словесное мое отринет серебро…
Вчера поступила так, как написала: поставила точку, задула свечу. Но лампа продолжала нести службу, жаль было грубо усмирить и без того смирную, иссякающую лампадку, не шел приглашаемый сон в непокойную темь меж челом и потылицей, меж подушкой и поддушкой – к этим словам часто и намеренно прибегаю, потому что любят их мои лоб, затылок и заповедная окраина быстротекущего сердца.
Молитвослов объясняет содержание слова «нечаяние» как «бесчувственность», я, в моем собственном случае, толкую его как условное, кажущееся бесчувствие, зоркое и деятельное не-сознание, чуткое забытье – например, опыт важного, как бы творческого, сна или хворобы, претерпеваемой организмом с трудным усердным успехом, с нечаянной пользой и выгодой драгоценно свежего бытия. Приблизительно в таком блазнящем и двойственном поведении разума ярко являлись мне Вологда, безумный Батюшков, Ферапонтов монастырь с Дионисием, череда прозрачно соотнесенных озер – вплоть до деревни Усково, тетя Дюня, давно покинувшая белый свет, но не меня.
Усмехнувшись, переглянулась с верным дружественным будильником, ни разу не исполнявшим этой своей должности: в восьмом часу утра обдумываю посвящение вечной ея памяти – не на долгую посмертную жизнь моих измышлений полагаясь, а на образ хрупко-сухонькой тети Дюни, он и есть зримо выпуклый, объемный образ моей пространной горемычной благословенной родной земли, поминаемой не всуе.
Сильно влияет на беспечно бодрое, вспыльчивое возглавие нерассветшее утро: «Другим – все ничего, а нам – всё через чело».
Раба Божия тетя Дюня, при крещении нареченная Евдокией, по батюшке – Кирилловна, родилась в последнем году прошлого века, в прямой близости от села Ферапонтова, жития ея было без малого девяносто лет. В девках ей недолго довелось погулять: о шестнадцатом годе вышла она замуж за Кузьму Лебедева – «самоходкою», без родительского благословения. «Мы на высочайшее подавали», – важно говаривала тетя Дюня. Высочайшее соизволение было молодыми получено: осенью четырнадцатого года Кузьма ушел на войну, успев перед походом сладить, сплотничать собственную нарядную избу в деревне Усково на крайнем берегу Бородаевского озера. Многажды и сладостно гащивали мы с Борисом в этой избе, в которой теперь гощу лишь мечтаньем помысла: иначе, без тети Дюни, – зачем? Исторический документ за Государевой подписью так хоронила тетя Дюня от вражеского призора, что потом уже не могла найти. От краткой девичьей поры осталась бледная, нежного цвета сумеречного воздуха лента, когда-то вплетаемая в косу, после венца, запрещенного отцом-матерью, повязавшая давно увядшие бумажные цветки, поднесенные дедовской иконе. Тетя Дюня, перед скудными трапезами, крестилась на нее, шептала «Отче наш…». Ей утешно было, что и мы встаем вместе с ней, кланяемся покаянно образу Божией Матери и соседнему Святому Николаю-угоднику, чья опека не помогла ее старшему сыну в грешной его, уже окончившейся, жизни. От чужих тетя Дюня таилась, и не напрасно: сколько раз посягали на ее сокровища местные начальственные антихристы, потом поглядывали в окошко хищные заезжие люди. Натруженные прялица, веретено, коклюшки в ту пору скушно отдыхали в верхней светелке, а прежде была тетя Дюня знаменитая мастерица прясть, ткать, плести кружева. Однажды явилась из Вологды комиссия, испугалась гореопытная хозяйка, завидев не своих гостей: неужто опять грядет разбой по ее иконы и другие, менее ценные необходимости, или несут дурную весть, или сбылся чей-то навет? Ан нет, пришельцы были ласковые, хвалебные, взяли ее рукоделия на выставку народного творчества и, через время, наградили почетной грамотой, с золотыми буквами вверху, с печатью внизу. Иногда тетя Дюня просила меня: «Вынь-ка, Беля, из скрывища мою лестную грамотку, почитай мне про мой почет». Я бережно доставала, вразумительно, с выражением читала. В конце чтения нетщеславная слушательница смеялась, прикрывая ладошкой рот: «Ишь, чего наславословили, да что им, они – власть, им – власть, они и не видывали, как в старое-то время кружевничали, вот хоть матушка моя, а бабка – и того кружевней. Ох, горе, не простили меня родные родители за Кузю, маменька сожалела по-тихому, а тятенька так и остался суров, царствие им небесное, вечная память». Так потеха переходила в печаль, но защитная грамотка обороняла ее владелицу от многих председателей, заместителей и прочих посланцев нечистого рока, упасала, как могла, хрупкую и гордую суверенность.
Если можно вкратце, спроста, поделить соотечественное человечество на светлых, «пушкинских» людей и на оборотных, противу-пушкинских, нечестивцев, то тетя Дюня, в моём представлении, нимало не ученая ни писать, ни читать, в иной, высокой грамоте сведущая, – чисто и ясно «пушкинский» человек, абсолют природы, ровня ее небесам, лесам и морским озерам.
Я передаю ее речь не притворно, не точно, уместно сказать: не грамотно, лишь некоторые выражения привожу дословно. Письма тети Дюни обычно писали за нее просвещенные соседки, кто четыре класса, а кто и восемь окончившие. Но одно ее собственноручное послание у меня есть, Борис подал его мне, опасаясь, что стану плакать. В конверте, заведомо мной надписанном и оставленном, достиг меня текст: «Беля прижай худо таскую бис тибя». К счастью, вскоре мы собрались и поехали. Что мне после этого все «почетные грамотки» или мысли о вечной обо мне памяти, которую провозгласят при удобном печальном случае. Но, может быть, в близком следующем веке кто-нибудь поставит за рабу Божию Евдокию поминальную заупокойную свечу.
Про следующий век ничего не могу сказать, но сегодня к обеду были гости, один из них привез мне из Иерусалима тридцать три свечи – сувенирных, конечно, но освященных у Гроба Господня. Разговоры веселого дружного застолья то и дело, впрямую или косвенно, нечаянно касались жизни и смерти, таинственной «вечной памяти». Потом гости ушли. В полночь, не для излишнего изъявления правоверного чувства, а по обыкновению своему, зажгла лампу, лампадку, дежурную свечу и одну из подаренных – с неопределенной улыбкой, посылаемой в сторону тети Дюни.
- Моими поздними утрами
- проверю прочность естества:
- тепла, жива. Но я утраты,
- на самом деле, – не снесла.
- Претерпевая сердца убыль,
- грусть чьим-то зреньям причиню:
- стола – всё неусыпней угол,
- перо – поспешней, почему?
- Тьма заоконья – ежевична,
- трепещет пульсов нетерпёж,
- ознобно ночи еженище —
- отраден мне нежданный ёж.
- Мне не в новинку и не в диво
- заране перейти в молву.
- Сочтем, что будущность снабдила
- моим – издалека – ау!
- Не знаю – кто предастся думе
- о старине отживших дней,
- об Ускове, о тёте Дюне
- во скрывище души моей.
- Не призраков ли слышу вздохи?
- В привал постели ухожу.
- Лампадка – доблестней и дольше
- строки. Жалею – но гашу.
- Сей точки – точный возраст: сутки.
- Свеча встречает час шестой.
- Сверчка певучие поступки
- вновь населяют лба шесток.
Ровно в шесть часов сама угасла лампадка: масло кончилось. Трудится большая, красного стеарина, для праздничных прикрас дареная, – рабочая свеча, определение относится лишь к занятию свечи. «Горит пламя, не чадит, надолго ли хватит?»
Иерусалимскую, как бы поминальную свечу я давно задула, чтобы не следить за ее скончанием, и подумала: возожгу новую во здравие и многолетие всех любимых живых.
- Украшения отрясает ель.
- Божье дерево отдохнёт от дел.
- День, что был вчера, отошел во темь,
- января настал двадцать пятый день.
- Покаянная, так душа слаба,
- будто хмурый кто смотрит искоса.
- Для чего свои сочинять слова —
- без меня светла слава икоса.
- Сглазу ли, порчи ли помыслом сим
- возбранен призор в новогодье лун.
- Ангелов Творче и Господи сил,
- отверзи ми недоуменный ум.
- Неумение просвети ума,
- поозяб в ночи занемогший мозг.
- Сыне Божий, Спасе, помилуй мя,
- не забуди мене, Предившый мой.
- Стану тихо жить, затвержу псалтырь,
- помяну Минеи дней имена.
- К Тебе аз воззвах – мене Ты простил
- в обстояниях, Надеждо моя.
- Отмолю, отплачу грехи свои.
- Живодавче мой, не в небесный край —
- восхожу в ночи при огне свечи
- во пречудный Твой в мой словесный рай.
По молитвеннику – словесный рай есть обитель не словес, не словесности, но духа, духовный рай. Искомая, совершенная и счастливая неразъятость того и другого – это ведь Слово и есть?
Некие неуправные девицы пошли в небеса по ягоды, обобрали ежевику ночи, голубику предрассвета – синицы прилетели по семечки кормушки.
Еще держу вживе огонь сильной красной свечи – во благоденствие всех Татьян, не-Татьян, всемирных добрых людей.
«Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое…» – дочитаю про себя, зачитаюсь… поставлю точку. Аминь.
Совсем недавно умер близкий друг художник Николай Андронов. Вижу и слышу как бы возбужденное, смятенное горе вдовы его, художницы Натальи Егоршиной.
Но было и пред-начало. Это Коля Андронов заведомо представил меня и Бориса тете Дюне – иначе не живать бы нам в ее избушке: строго опасалась она новых, сторонних людей. Но дверь не запирала – подпирала палкой, вторая, не запретная, была ее подмога: клюка и посох.
Задолго до того, в пред-пред-начале фабулы, состоялся знаменитый разгром художников, косым боком задевший и меня, и моих, тогда не рисующих, друзей. Сокрушенный земным громом, Коля подыскал и купил за малые деньги опустевшую, едва живую избу в деревне Усково, подправил ее, стал в ней жить, постепенно вошел в большое доверие деревенских жителей. Пропитание добывал рыбной ловлей и охотой. Тогда маленькая, теперь двудетная, дочка Машка говорила: «Я – балованная, я только черную часть рябчика ем». Так что – благородной художественной бедности сопутствовала некоторая вынужденная роскошь.
Я застала в еще бодрой, внешне свирепой резвости чудесного их пса – скотчтерьера по имени Джокер. За косматость и брадатость в деревне дразнили его за глаза – Маркс. Недавно Наташа сказала мне, что думала: это – мной данное шутливое прозвище. Куда там, мне бы и в голову не пришла такая смешная и не обидная для собаки складность. Джокер-Маркс, весьма избирательный и прихотливый в благосклонности к человеческому роду, был ко мне заметно милостив – в отличие от его ненастоящего тезки, терзавшего меня в институте, вплоть до заслуженного возмездия и исключения. Потомок родовитых чужеземных предков нисколько не скучал по Шотландии, вольготно освоился на Вологодчине, ярко соучаствовал в хозяйских трудах и развлечениях, но посягновений окрестной фамильярности не терпел.
- Мне грустно, Коля и Наташа,
- как будто в нежилой ночи
- деревня Усково – не наша,
- и мы – уж не её, ничьи.
- Сиротам времени былого
- найти ль дороги поворот,
- где для моления благого
- сошлись Кирилл и Ферапонт,
- где мы совпали, возлюбивши
- напевных половиц настил,
- где шли наведывать кладбище
- и небородный Монастырь.
- Умением каких домыслий,
- взяв камушек, да не любой,
- творил – всех лучший! – Дионисий
- цвет розовый и голубой,
- и съединял с надземно-жёлтым,
- навечно растерев желток?
- Вдобавок – выпал сердцу Джокер
- и в нём, покуда есмь, живёт.
- Слова бумаге не солгали.
- И говорю, и повторю:
- ниспосланные нам Собаки
- при нас и после нас – в раю.
- И мне был рай: в небес востоке
- начавшись, медленно плыла,
- удвоясь в озере, светёлке
- принадлежавшая луна.
- Здесь нет её, она – в деревне.
- Я не бедна, я – при луне.
- Светло Наталии даренье
- луны, преподнесённой мне.
- Есть счастье воли и покоя.
- Строке священной не хочу
- перечить – и перечу. Коля,
- прими приветную свечу.
В конце семидесятых – начале восьмидесятых годов стала я особенно ненасытно скучать по северным местам, по питательным пастбищам их сохранной речи. Очень был заманчив Архангельск – понаслышке, по упоительному чтению Шергина и о Шергине. Притягивала пучина сказов, песен, поверий Белого моря, но устрашали все беломорские направления: Каргополь, другие незабвенно смертные места. Впрочем, с пагубой таковых мест в моей стране нигде не разминешься.
Помню, как Надежда Яковлевна Мандельштам, до последних дней (умерла 29 декабря 1980 года) курившая «Беломор», удерживая кашель, указывала на папиросную пачку: на предъявленную карту злодеяний, на вечную память о лагерных мучениках. Мне ли забыть изысканную худобу ее долгих пальцев: дважды мы, по ее бескорыстному капризу, подбирали для нее колечко с зеленым камушком – одно в магазине, вместе с ней, в день ее рождения (31 октября), другое передала через нас Зинаида Шаховская, Надежда Яковлевна думала: Солженицын. При мне, по указанию Бориса, форматор, испросив вспомогательного алкоголя, снимал посмертную маску с ее остро-прекрасного лица и правой руки. Оба гипсовых слепка хранятся у нас. О Надежде Яковлевне, надеюсь, будет мой отдельный сказ.
До Белого моря мы не добрались, пришлось обойтись Белым озером. Тогда-то и затеял Андронов нахваливать нас тете Дюне. Она ответствовала: «Если ты не прилгнул мне, что они такие незлые люди, – мне с них ничего не надо, зови». И мы двинулись.
Путь известный: Загорск, Переславль-Залесский, где и сделаю неподробную остановку. В ту пору работал там старый друг и однокашник Бориса по Архитектурному институту Иван Пуришев. Тяжкие его труды напрямую были касаемы охраны памятников старины и состояли из непрестанной битвы: было от кого охранять. Туристы – нужны, но урожденный и воспитанный долг велит рушить и разорять. В побоище этом подвижник Иван был слабейшей, но доблестно оборонительной стороной. Кроме созерцания знаменитых заглавных храмов и Плещеева озера, где кораблестроил и флотоводил начинающий Великий Петр, предстояли нам горячие объятия, россказни с древним истоком, усладные застолья.
Одна Иванова тайна ранила и поразила. Это была его любимая печаль-забота: на отдаленном затаенном возвышении маленькая, незапамятного (не для Ивана) века, пре-скорбная, пожалуй, скорбнейшая из всех виданных, церковь – Троицкий собор Данилова Монастыря. Ключ от нее уберегал сражатель Иван.
Стены многогорестной церкви, словно вопреки пресветлому прозрачному Дионисию, расписал самородный, страстный, страждующий мастер, как бы загодя противоборствующий нашествию истребительных времен. Невыразимо печален был взор Божией Матери, словно предвидящий – что произойдет через тридцать три года с осиянным Младенцем, ушедшим из ее охранительных рук, суровы и укоризненны лики Апостолов и Святых угодников. Весь внутренний объем купола занимал страдальческий образ Иисуса Христа.
Страшно убитвище никогда не мирного времени. В церкви размещалась некогда воинская часть, используя оскверненный, опоганенный приют как развлекательное стрельбище. Все изображения были изранены тщательными или ленивыми пулями, наиболее меткие стрелки целились в очи Спасителя, так и взирал Он на нас простреленными живыми зрачками с не упасшей его высоты. Душераздирающее зрелище многое говорило о Его временной смерти, о нашей временной жизни.
Пред выходящим посетителем представала ужасающая картина Геенны огненной: алый и оранжевый пламень, черный дым, терзающие уголья, кипящие котлы, извивающиеся в мучениях, вопиящие и стенающие грешники. О чем думал грозно вдохновенный живописец, для нас безымянный: предостерегал ли, сам ли страшился и каялся, проклинал ли ведомых ему нехристей? Как бы то ни было, не убоялись его предупреждающего творения вооруженные недобрые молодцы.
Пришлось Ивану утешить нас лаской и опекой, чем он и теперь занимается время от времени.
Далее – сначала возмерещился вдали, потом вблизи явился сияющий куполами и крестами Ростов Великий. Подновленный пригожий блеск – приятная приманка для странников, желательно: чужеземных, но сошли и мы, особенно в мимолетной захудалой столовой, где то ли после заутрени, то ли небожно вкушал пиво воскресный люд. С удовольствием ощущая свою не-иностранность, приглядывались к пивопивцам, прислушивались к говору, приближающемуся к искомому. Затем – обозрели храмы, радуясь на множественных прихожан и отлично нарядных проезжих гостей, подчас крестившихся слева направо. Посетили трогательные окраины с престарелыми, дожившими до наших дней, когда-то процветавшими купеческими и мещанскими домами.
Миновали под вечер Карабиху, оставив ее себе на обратный путь, ночевали в Ярославле, в гостинице на берегу Волги, неожиданно оправдавшей свое название и предложившей нам пустующий «люкс». Но в этом лакированном и плюшевом «люксе» вспомнила я эпизод своего девятилетнего детства. Отец мой Ахат Валеевич, за годы войны раненный и контуженный, но уцелевающий в поблажках госпиталей, довоевался до медалей, ордена и звания майора. Двадцать лет, как он погребен, и остался у меня от него только гвардейский значок, да относительно недавно пришло письмо от его, много младшего, однополчанина, которое Борис прочел мне выразительно, как я тете Дюне ее «грамотку». Писано было про храбрость и доброту моего отца, про возглавленный им выход из опасно сомкнувшегося вражеского окружения к своим. Все это мне было грустно и приятно узнать, но клоню я к тому, что по новому его чину ему полагался ординарец, Андрей Холобуденко, тогда совсем юный и красивый, теперь – не знаю, какой. Я его очень помню, он дважды приезжал к нам в Москву с вестями и гостинцами от отца с побеждающего и победившего фронта. Так же сильно помню неразрывного с отцом военного друга добрейшего Ивана Макаровича. По окончании войны Андрей стал звать отца в разоренную Украину, Иван Макарович – в нищую Ярославщину, где сделался председателем доведенного до отчаяния колхоза. Отец думал, думал, примеривая ко мне обе красоты, оба бедствия. Надо было обживаться в чужом послевоенном времени, устраиваться на работу. Летом сорок шестого года выбрал Ивана Макаровича и малую деревеньку Попадинку. На Украине я побывала потом. И деревне Попадинке, где питалась исключительно изобильной переспелой земляникой, и хутору Чагиву, где по ночам с хозяйкой Ганной воровала жесткие колоски, – будут, если успею, мои посвящения, сейчас – только об Ярославле. Ехали мы туда в тесноте поезда, по которой гуляли крупнотелые белесые вши. Город успел осенить меня не белостенностью, не смугло-розовой кирпичностью, а угрюмым величественным влиянием – наверное, вот почему. Иван Макарович прислал за нами состоящий из прорех и дребезга грузовик. Родители поместились в кузове, я – рядом с водителем, явно неприязненным и ожесточенным, видно, хлебнувшим горюшка. Мы погромыхали по городу, вдруг он круто затормозил возле мрачного здания, я ударилась лбом о стекло – на то оно и лобовое. Он обо мне не сожалел, а уставился на длинную, понурую, значительно-примечательную очередь, и я стала смотреть на схожие до одинаковости, объединенные общей, отдельной от всех тоской, лица, будто это был другой, чем я, особо обреченный народ. Я подобострастно спросила: «Дяденька, а за чем эти люди стоят?» Он враждебно глянул на меня и с необъяснимой ненавистью рявкнул: «Затем! Передачу в тюрьму принесли». Отец постучал в крышу кабины – и мы поехали. Видение знаменитой Ярославской тюрьмы, лица, преимущественно женские, врозь съединенные бледно-голубой, как бы уже посмертной затенью, надолго затмили землянику, Волгу, милую изнемогшую Попадинку и теперь очевидны. Можно было бы вглядеться в тоже приволжское пятилетие моей жизни, когда, в казанской эвакуации, слабо гуливала я вкруг Черного по названию и цвету озера, вблизи тюрьмы, где в год моего рождения изнывала по маленькому сыну Васеньке Аксенову Евгения Семеновна Гинзбург, но безвыходный затвор я смутно видела и вижу – ко мне тогда уже подступало предсмертие беспамятной голодной болезни.
Описывать удобное наше ночевье в ярославской гостинице и воспоследовавшее обзорное дневье не стану – поспешаю, как впервые, к тете Дюне.
Уклоняясь от прямого пути, как я сейчас уклоняюсь, заезжали мы и в Борисоглебск, тогда называемый иначе, но действовали церковь и строка Пастернака: «У Бориса и Глеба – свет, и служба идет».
Возжигая полночную свечу, воздумаю о Преподобном Ефреме Сирине и о втором, но не Ефреме, в согласии души – не менее первом, ясно: кому посвящена ясногорящая свеча.
- «Отцы-пустынники и двы непорочны»
- не отверзаютъ попусту уста.
- Хочу писать, не мудрствуя, попроще, —
- нтъ умысла сложней, чм простота.
- Избранникомъ настигнута добыча —
- но к ней извилистъ путь черновика.
- Иль невзнать мигъ ему блеснулъ – да вышло:
- званъ быстрый блескъ во многiя вка.
- Взираетъ затишь ночи окомъ синимъ —
- и я отвтно пялю взоръ въ окно.
- Словамъ, какими Преподобный Сиринъ
- молился Богу, – внялъ и вторилъ Кто, —
- не укажу, чтобъ имени не тронуть:
- Оно и такъ живетъ насторож…
- …Но Тотъ, о Комъ нмотствую, должно быть,
- смется – я люблю, когда смшливъ.
- Во мн такiя нжность и незлобность,
- цлуя воздухъ, сплись и сошлись.
- Забава упражненья неказиста —
- челомъ ей бью и множицей воздамъ.
- Неграмотность ночного экзерсиса
- проститъ ли мн усмшкой добрый Даль?
- Родимой речи на глухомъ отшиб
- кто навститъ меня, если не онъ?
- Не просвтилъ ущербы и ошибки
- текущий выспрь, свчи прилежный огнь.
- Закончу ль ночи списокъ неподробный,
- пока спшитъ и бодрствуетъ високъ?
- Простилъ бы только Сиринъ Преподобный:
- послалъ смиренный, благодатный сонъ.
- Опять мое ночевье не снотворно:
- Ужъ предъ-рассвта приоткрылся зракъ.
- Не опытно, не вдуще, не твердо —
- пусть букву «еръ» слукавитъ твердый знакЪ.
А я все еще вязну в любезных мне, затягивающих заболотьях «еръ» и «ять» и мутных, дымных загородьях Ярославля. Но и без меня – «понявы светлы постланы, Ефрему Сирину наволоки». Тетя Дюня моя, до коей все ду и ду, называла «понявой» и повязь платочка вкруг головы, и фату, хоть при утаенном венчании и обошлась блой «косинкой» – наискось, в половину треугольника сложенным, шелковым бабкиным платом. На пред-родителев грхъ внца, усиленный покражей плата из сундука, трачу я последние трудоемкие «ять» и «еръ». Всю жизнь замаливала этот грех тетя Дюня, а велик ли грех, что великим способом любила она грешника Кузьму: он и бивал ее, и на сторону хаживал, а что на колхозных насильных супостатов выходил с плотницким топором – грех за грех считать: он на германской войне расхрабрился. Бывало-живало: голубчика своего ворогом, погубителем рекла тетя Дюня, ловко уклонялась от хмельного натиска и напада. «Молода была – со грехом жила, теперь труха – все не без греха!» – туманилась, улыбчиво вспоминала, как сломя голову пошла за Кузю. Умела стаивать против угрозы отпором и отдачей: «Мужик – топор, баба – веретено». Обо всей этой бывальщине доложу в медленном последствии свече и бумаге. Сколько раз я при них «оканунилась», съединив ночи и дни последнего времени.
Пока я одолевала раняще невздольные, невзгодные предгородья Вологды и прощалась со старословием, оно самовольно вернулось и вновь со мной поздоровалось:
- Сму и онымъ днямъ
- привтственную дань
- вновь посылаетъ длань.
- Прости, любимый Даль.
- Для ласки не совравъ
- надбровiю тавра,
- отвтствовалъ Словарь:
- – Я не люблю тебя.
- Нелестенъ фимiамъ
- неврного Фомы.
- Аз по грхамъ воздамъ:
- не тронь моей «фиты».
- Измучивъ «ять» и «ер»
- разгульною рукой,
- ты «ижицы» моей
- тревожишь «упакой».
- Мн внятна молвь свчи:
- – Тщемудрiя труда
- на-нтъ меня свели.
- Я не люблю тебя.
- Гашу укорный свтъ,
- моей свчи ответъ.
- Мн бы свчу воспть —
- а близокъ срокъ: отпть.
- Смотрю со сцены въ залъ:
- я – путникъ, онъ – тайга.
- Безмолвилъ, да сказалъ:
- – Я не люблю тебя.
- С начинкой заковыкъ
- нелакомый языкъ
- мой разумъ затемнилъ.
- Будь, где была, изыдь.
- Я не кормлю всеядь,
- и «ять» моя – темна.
- Все мн вольны сказать:
- – Я не люблю тебя.
- Любить позвольте васъ
- въ моемъ свчномъ углу.
- Словъ неразъемна власть:
- «люблю» и «не люблю».
- Ихъ втун не свяжу,
- я врю во звзду:
- полунощи свчу
- усердно возожгу.
- Мужъ подошелъ ко мн,
- провдалъ мой насстъ.
- Зачеркиваю «не» —
- оставлю то, что есть.
- Есть то, что насъ свело:
- безмолвiе любви.
- Во здравiе твое —
- свча и с точкой i…
- Мирволь и многоточь,
- февральскiй первый день,
- врней – покамстъ – ночь:
- школяръ и букводъ.
- Есть прозвище: «ита» —
- моимъ ночамъ-утрамъ.
- До «ижицы» видна
- свча – стола упархъ.
- Не дамъ ей догорть.
- Чиркъ спичкой – и с «аза»
- глядятъ на то, что есть,
- всенощные глаза…
- Державинскихъ управъ
- витаютъ «Снигири».
- Глаза – от зла утратъ —
- сухи, горьки, голы.
- Иной свчи упархъ
- достигъ поры-горы.
- «Неистов и упрям,
- гори, огонь, гори…»
- Прощай, прощай, моя свеча!
- Красна, сильна, прочна,
- как много ты ночей сочла
- и помыслов прочла.
- Всю ночь на языке одном
- с тобою говорим.
- Согласны бодрый твой огонь
- и бойкий кофеин.
- Светлей ЕУРГИИ твои
- кофейного труда.
- Витийствуя, красы твори
- до близкого утра.
- Войди в далекий ежедень,
- твой свет – не мимолет.
- Сама – содеянный шедевр,
- сама – Пигмалион.
- Скажу, язычный ЕОГЕН,
- что Афродиты власть
- изделием твоих огней
- воочию сбылась.
- Служа недремлющим постам,
- свеча, мы устоим,
- застыл и мрамором предстал
- истекший стеарин.
- Вблизи лампадного тепла
- гублю твое тепло.
- Мне должно погасить тебя —
- во житие твое.
- Иначе изваянья смысл
- падет, не устоит.
- Он будет сам собою смыт
- и станет сном страниц.
- Мои слова до дел дошли:
- я видеть не хочу
- конец свечи, исход души —
- я погашу свечу.
- Безогненную жизнь влача,
- продлится тайный свет.
- Уединенная свеча
- переживет мой век.
- Лишь верный стол умеет знать,
- как чуден мой пример:
- мне не светло без буквы «ять»,
- и слог не впрок без «ерь».
- Чтоб воскурила ИМIАМЪ
- свече – прошу «иту».
- Я догореть свече не дам,
- я упасу свечу.
- Коль стол мой – град, свеча – VПАТ —
- все к «ижице» сведу,
- не жалко ей в строку упасть…
- Задула я СВЧУ.
Я не раз от души заманивала тетю Дюню к нам зимовать, да обе мы понимали, что не гостить ей у нас так хорошо, как нам у нее. Лишь однажды, еще в бодрые горькие годы, кратким тяжелым проездом в плохое, «наказанное», место, отбываемое дочерью, краем глаза увидела и навсегда испугалась она Москвы, ее громадной и враждебной сутолочи.
Я вспоминаю, как легко привадилась в деревне Усково управляться с ухватом и русской печью. Нахваливала меня, посмеиваясь, тетя Дюня: «Эка ты, Беля, ухватиста девка, даром что уродилась незнамо где, аж в самой Москве».
Один день кончается, другой начинается, на точной их границе, по обыкновению, возжигаю свечу – в привет всем, кто помещен в пространном объеме любящего хлопочущего сердца.
Большая сильная свеча давно горит – «надолго ли хватит?» – и украшает себя самотворными, причудливыми и даже восхитительными, стеаринными изделиями, витиеватыми, как писания мои. Пожалуй, я только сейчас поняла, что их неопределенный, непреднамеренный жанр равен дневнику (и ночнику), и, стало быть, ни в чем не повинны все мои буквы и буквицы, пусть пребудут, если не для сведенья, то на память, хоть и об этом дне, понукающем меня кропотливо спешить с раздумиями и воспоминаниями.
Что касается многих слов моих и словечек, – они для меня не вычурны, а скорее «зачурны» (от «чур»), оградительны, заговорны. Не со свечой же мне заигрывать и миловидничать.
Не только к Далю – всегда я была слухлива к народным говорам и реченьям: калужским и тульским, разным по две стороны Оки, например: «на лошади» и «на лошади», «ангел» и «андел», так и писала в тех местах. «Окала» в Иваново-Вознесенске, но никогда не гнушалась неизбежных, если справедливых, иностранных влияний, любила рифмовать родное и чужеродное слово, если кстати. Не пренебрегал чужеземными словесными вторжениями, подчас ехидно, а в Перми и «ахидно», сам народ.
Но не пора ли приблизиться к достославному городу Вологде?
При въезде, до осмотра достопримечательностей, с устатку дороги, сделали мы привал в приречном, пристанном ресторанчике. Спросили нехитрого того-сего и – опрометчиво – масла. По-северному пригожая, светловолосая и светлоглазая официантка гордо ответила, что об этом ястве имеются только слухи, но за иностранных туристов нас все-таки не приняла. Хорошо нам было сидеть, глядючи на необидно суровую подавальщицу, на захожих едоков, а больше – питоков, на реку, одноименную предстоящему городу.
Немногие колонны и арки старинных усадеб уцелели в претерпевшей многие беды Вологде. Это там архитектурно образованный Борис начал мне объяснять властное влияние Палладио на трогательное старо-русское и, в последовательно извращенном виде, пред-современное «дворцовое» зодчество. Первый вариант портиков, фронтонов и порталов как бы приходится Италии благородно потомственным и преемственным, второй – криво-косвенным, но зримым отражением учения Палладио. Приблизительно так толковал мне Борис, уточняя слова рисунком, приблизительно так не однажды воспето мной. Урок, посвященный обаянию Андреа Палладио, для него неожиданный, но не обидный, а приятный, окрепнет и усилится в городе Белозерске – если достигнем его, как некогда бывало.
Долго разглядывала картинку Бориса: старый господский дом с гостеприимным порталом, с колоннами (коринфскими, дорическими или тосканскими – не указано) с приросшими галереями, флигелями, можно довообразить въездную аллею, беседки, пруд… Хорошо: наводит на многие мечтания и грусти.
Отдаляя дальнейший тяжкий путь, минуя Вологду, воспомню родившегося и похороненного в ней Батюшкова. До ослепительности ярко и явно вижу я мало описанную (может быть, по неведению моему) сцену, когда страждущего, терзаемого пылким затмением умственного недуга Батюшкова проведал добрый, сострадающий Пушкин. Больной посетителя не узнал.
Привожу несколько четверостиший из давнего, не разлюбленного моего стихотворения.
- Мне есть во что играть. Зачем я прочь не еду?
- Все длится меж колонн овражный мой постой.
- Я сведуща в тоске. Но как назвать вот эту?
- Не Батюшкова ли (ей равных нет) тоской?
- Воспомнила стихи, что были им любимы.
- Сколь кротко перед ним потупилось чело
- счастливого пвца Руслана и Людмилы,
- но сумрачно взглянул – и не узнал его.
- О чем, бишь? Что со мной? Мой разум сбивчив, жарок,
- а прежде здрав бывал, смешлив и незлобив.
- К добру ль плутает он средь колоннад и арок,
- эклектики больной возляпье возлюбив?
- Кружится голова на глиняном откосе,
- балясины прочны, да воли нет спастись.
- Изменчивость друзей, измена друга, козни…
- Осталось: «Это кто?» – о Пушкине спросить.
- Из комнаты моей, овражной и ущельной,
- не слышно, как часы оплакивают день.
- Неужто – все, мой друг? Но замкнут круг ущербный:
- свет лампы, пруд, овраг. И Батюшкова тень.
Путь от Вологды до поворота (ошуюю) к Ферапонтову помнится и исполняется тяжким и долгим, потому что одесную сопровождается скорбным простором Кубенского озера с высоко сиротствующей вдали колокольней Спас-Каменного монастыря. Я смотрю не справочник, а в путеводную память и передаю бумаге, не точь-в-точь, а окольно то, что слыхивала. Сказывали примерно так. В задавние времена, когда не горело еще наше киянское озеро – а разве горело оно у вас? – то-то и есть, что нет, но плыл по нему царь со свитою – а какой? – это мы – всякие, и такие, и сякие, а он – известно, какой: всего царства царь, и с ближними слугами. Плыли они в пучину, а попали в кручину: напал на них чомор – а кто это? – и не надо тебе знать, его назовут, а он подумает, что зовут, может, и с царем так было, может, из гребцов кто помянул его нечисто имя, а он и рад прежде слуг служить: вздыбил, взбурлил воду, стали угрозные волны бросать их аж до низких туч, и поняли пловцы, что пришла их смерть. Тогда взмолился земной царь к небесному, покаялся во всех грехах, и за то прибило их к отрожному острову, всему из камня. После утишья, когда заутрело, заметили они, что целиком спаслись и берег близко. Царь этого случая Богу не забыл и велел поставить на том месте благодарственную часовню. Дальше – стал монастырь: Спас-Каменный.
В случае с царем все обошлось Боголюбно и Богоспасаемо. Пока шедшее к нам время еще пребывало от нас вдали, пригляделся к часовне отшельник, потянулись другие монахи, воздвигли Богосоюзную обитель, проложили от своих камней до суши сильную каменную тропу, свершали по ней хождения и Пасхальный Крестный ход. Богоугодный порядок продолжался до конца прежних времен и начала наших, когда многими званый чомор с охотою откликнулся, явился во всей грозе: монахов и паломников разогнали и изничтожили, монастырь, за неудобством несподручного расстояния, взорвали в запоздавшие к нему тридцатые годы. Колокольня – устояла.
Во всю длину озера и высоту колокольни приходилось горевать, пока не скрывались они из озору, за озором.
В тех местах говорят изредка: озор, что подходит озеристому краю по звуку и пространной необозримости.
Тогда, в уже давности, добравшись до Ферапонтова, мы лишь снаружи оглядели знаменитый монастырь, благоговейно дивясь его стройной внушительности. В дальнейшие дни и лета бессчетно наведывались мы в его пределы и на прилегающее к нему кладбище.
Миновав почти не раздельные деревеньки и озера, с прибрежными огородами и баньками, достигли Ускова, легко нашли Колю Андронова, Наташу и Джокера. Когда, предводительствуемые Колей, подъехали к избушке тети Дюни, увидели, что дверь подперта палкой. «Куда же Дюня делась? – удивился Коля. – Ведь обещала ждать».
Она и ждала – затаившись в недалекой сторонке, опершись на свою «ходливую» палку, с предварительной зоркой тревогой вглядываясь в незнакомых гостей.
– Ну, с прибытием вас, – строго сказала, неспешно приблизившись, тетя Дюня, – пожалуйте в мою хоромину.
Крыльцо, сенцы с полкою для тщеты припасов, для пользы трав, налево – две комнаты, в первой – стол под иконами, лавки, при входе – печка, кровать за ситцевой занавеской. Вторая – готовая спаленка, где мы быстро обжились и надолго прижились.
Я упомянула вскользь сторожкую зоркость впервые поджидавшей нас тети Дюни, вскоре смягчившуюся до ласкового, заботного выражения. Подобную проницательную зрячесть видела я у деревенских жителей, у особо урожденных, наособь живших людей (Шукшин, Вампилов), у тех, чье избранное урожденье умножено и усилено безошибочным опытом больших испытаний (Солженицын). Так, думаю, взглядывал и глядел или не глядел Пушкин, наипервее, наиболее – так.
Тетя Дюня остро и ясно видела и провидела – и напрямик, и назад, и вперед. Ярко видимое ею давнее прошлое, оставшееся позади, я жадно присваивала, «присебривала», предстоящее, без хорошего ожиданья, с хорошим пожеланьем молитвенной опеки, относила она к тем, кого любила, без горечи оставляя себе – известно, что.
В этом году тете Дюне исполнилось бы сто лет – точно или около первого марта, многозначного дня Евдокии: имя одно, прозвищ несколько, все с приметами, с предсказаньями. Поговорка: «с Евдокеи погоже – все лето пригоже» ко многим летам тети Дюни могла быть применима в обратном, пасмурном, смысле. С подлинной датой рождения приходилось «недомеком мекать»: церковное свидетельство не сохранилось, паспорт, запоздавший на большую часть жизни, день, да, кажется, и год указывал наобумно, «по-сельсоветовски», документ редко надобился, я его не читала.
Когда для других чтений я надевала очки, тетя Дюня жалостливо говорила, приласкивая мою голову: «Ох, Беля, рано ты переграмотилась, не то что я».
Вскорости и постепенно мы с тетей Дюней близко и крепко сдружились и слюбились. Наш первый приезд и все последующие теперь слились для меня в одно неразлучное свидание, хотя долгие перерывы тех пор были обеими ощутимы и утешались через Андронова – Егоршину, много жившими в деревне.
Тетя Дюня, чем дальше, тем открытее передо мной не таилась, не «утаймничала». Я, по ее допуску, проникалась ее жизнью, но даже не пытаюсь вполне передать складность и «таланность» ее речи, тоже не соблюдавшую порядок летосчисления возрастов и событий.
Младенчество и детство ее были не балованные, но светлые, счастливые. «Тятенька-маменька, нежьте, пока маленька, вырасту большинская – занежат бесчинствия». Может, и другие так говорили, но многие слова сама рассказчица сочиняла. Повторяла, имея в виду свою малую бесплотность и потомственные поколения: «Глянь, Беля, какая я плохая-никакая, а какой большинский народ наплодила».
Грамотой ее сызмальства были разные рукоделия, молочная и печная стряпня, пастушество, дойка, обихаживание скотины и птицы. Множилось приданое: кружева, полотна, насережные камушки. «Придано – не отдано».
Еще девочкой выглядела Дюня приметного, норовистого, опасного Кузьму Лебедева, уже вошедшего в «наусье», и он ее цепко выбрал. Сказал: «Ты пока спей, но знай – я от тебя не отзарюсь».
– Я и знала, – вспоминала старая Дюня, Евдокия Кирилловна, – сразу поверила, что недолго мне хороводить, лентами баловаться, не миновать судьбы-Кузьмы, не глядя на родительский запрет. У других девок – посиделки, припловухи… – а что это: припловухи? – а это, когда отец с матерью дочерей-невест на показ на ярмарку в Кириллов или в Белозерск возили. Там по озеру на лодке, груженной приданым, плавают, а фуфыры-девки на берегу сидят, очи долу, а женихи ходят, глядят, промышляют себе добычу. Да, мной не плыто, а Кузьмой добыто.
Когда, после ранения, вернулся с войны бравый Кузьма, жили они поначалу ладно, слюбно и сытно. Хозяин плотничал, кожевничал – больше по конскому, упряжному делу. Держали лошадей, двух коров, другую живность. Но дошли и до них напасть и разор, начав с начала: с Ферапонтова монастыря. Тетя Дюня ярко помнила, горько рассказывала, как мужики – топорами и вилами, бабы – воплями пытались оборонить свою святыню и ее служителей и обитателей, да куда монаху против разбойника, топору против ружья. В это лютое время родился старший сын Николай. И потом все дети рождались словно не от любви, а от беды и ей же обрекались.
Но самая лютость еще гряла: раскулачиванье. Бедными были и слыли эти пред-северные места, а губили и грабили – щедро. С непрошедшим страхом, горем и стыдом скупо рассказывала тетя Дюня про отъятие живого и нажитого добра, про страдания скотины. Многажды крестилась при нечистом имени председателя, всех подряд заносившего на «черную доску», быть бы на ней и топористому Кузьме, да откупалась Дюня, как могла, мужниными и своими уменьями-рукодельями, остатками былого имущества. Приходилось, сломив гордость, словесно угодничать, лебезить: «Была Дюня Лебедева – стала дура лебеЗева». Но и председатель не до конца добровал: из вины ушел в вино, снизился и кончился.
Уже в сороковые годы, глухой ночью, постучался к Дюне в окно, назвался знакомым именем один из бывших соседей, сосланных в Сибирь, хоть и ближе север был. В избу не просился, попросил хлеба: лучше в окно подать, чем под окном стоять. Тетя Дюня проверила занавески, пригасила коптилку, завела неузнаваемого гостя в дом. У нее ничего, ни настольного, ни отстольного, не было – только гороховый кисель. Кормила тем, что было, выслушала страшный доверительный сказ. Давний этот «нетчик» (в отсутствии бывший) такой был бедяга, словно и не белосветный человек. Ушел до свету – и канул.
В двадцатые – тридцатые лихолетья родились Вера, Александр, известный округе и мне как Шурка, и – под самый конец бабьего долга, с позднего горяча, – поскребыш, любимец Алексей.
Кузьма работал хорошо, но пил и буянил – не хуже. Загуливал по дням и ночам, потом оттруживал.
Худшей из всех его прохуд для тети Дюни была его привадка к моложавой заманистой вдовице, мелкой, да ученой, колхозной начальнице – счетоводу или близко к этому чину.
С неутешным удовольствием, с гордым чувством правого поступка поверяла мне тетя Дюня, как еще без-палочным пехом, по-воински пошла она к разлучнице на пост при счетах и в зачарованном кругу свидетелей выдрала из ее счетоводно-греховодной головы крашенный белым, а снизу рыжий клок волос. После этой битвы Кузя – как очнулся, навсегда вспомнил: кто ему жена, а кто – счетовод. Загоревал, завинился, закаялся – «как старый черт, что по схиме заскучал, да в музее-то не замонашествуешь». Перед смертью тосковал, хворал, жался к Дюне, как свое же дитя.
Я его видела только на фотографическом настенном портрете, с которого он зорко и враждебно глядел на снимателя и прочую скуку. (Были и немногие маленькие блеклые карточки, не передающие его характера.)
Из Кузиных и Дюниных детей первым увидела я меньшого, любимейшего – Алексея, но не живого, а тоже портретного, рядом с родителем, который хоть и сдерживал привыкшую воевать и бедовать свирепость для насильного торжественного момента, не обещал привечать будущего незваного созерцателя. «Так-то, Кузя, еще на день я к тебе ближе», – прощалась с ним по вечерам тетя Дюня. Алексей же, не тяготясь мирной солдатской одеждой, как веселым нарядом, открыто сиял доверчивыми глазами, пригожим лицом, всей молодой беспечной статью. «Эх, Лексеюшка, заупокойная головушка, ймется ли тебешеньке на Господних небесех?» – причитывала, кратко всплакивала тетя Дюня, имея для этого бесконечного случая сбереженный и питаемый прибылью горести запас двух аккуратных слезинок.
Уже позже, сильно попривыкнув ко мне сердцем, закатными и стемневшими в ночь вечерами, ведывала мне тетя Дюня о любимом отдельно от всех, «последышном» своем дитятке:
– Вот, Беля, ты, что ни день, видишь, каковы мои Николай и Шурка: один смурый, другой – суматошный, сыздетства такие были. И то сказать, на худом молоке росли, мякиш суслили, травой подпитывались. Николая полуночица мучила (плакал по ночам), Шурка – и при груде озоровал: уже у него недопой начинался.
– А Лексеюшка, заупокойная его головушка, словно нарозни от всех уродился, да так и было: стыдилась я, немолодица, брюхо деревне предъявлять, потычищем стала. (Пальцем тыкали.) Кузя тоже тупился, даром что ни с кем наравне не жил. Надо мной насмешничал: «Я тебя не просил семейство большить». Я ему тоже смехом отвечала: «Твое дело постороннее, и я не просила, а Бог послал». И взаправду – в утешенье послал и не взял бы до времени, да люди направили. У Кузи своя была собь – Верка, ей дитем добром жилось, уж потом злом отдалось, да ты знаешь. А Лешенька – мой собственный считался, как в чреве был, так и дальше близко держался: все при мамке ютится, все к мамке ластится.
Замуж Дюня пошла, как она говорила, а я повторила: «самоходкою», – а детей крестила тайной «самоволкою», с затруднениями и ухищрениями, за что тоже грозила пространная «черная доска», в деревне секретов не бывает.






