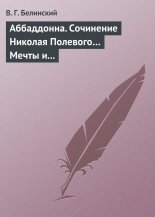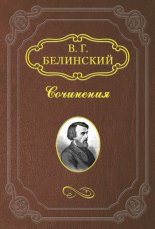Другая наука. Русские формалисты в поисках биографии Левченко Ян
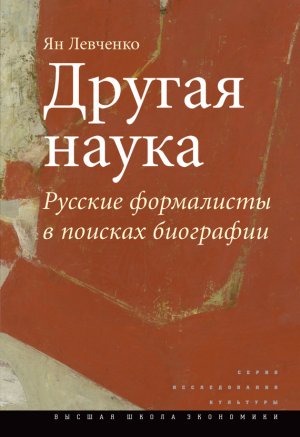
Что предполагает возвращение на родину помимо удовлетворения, которое получает мастер от процесса делания вещи? Быть может, было бы естественно видеть в возвращении Шкловского предвестие примиренчества, которое сначала его спасало, а много позднее портило ему репутацию. Однако более существенным представляется выявление русской специфики формализма, не могущего обойтись без конфликта с сущностью и бесформенностью. Западничество Шкловского – свойство, мгновенно выявляющее его неприспособленность к Европе. В этом смысле неслучайно, что Роман Якобсон, никогда не проявлявший идеологического тяготения к Западу, осознанно выбрал эмиграцию и смог вписаться в европейский и далее мировой контекст, симпатизируя евразийству (ср., в частности, пражский период его общения с князем Николаем Трубецким). Шкловский же, если отвлечься от чисто литературного эффекта возвращения, предпочел быть западником в России. Это более рискованно и более значимо, чем быть славянофилом на Западе, который не воспринимает подобную позицию как идеологическую провокацию.
В заключение этого экскурса небезынтересно вспомнить один примечательный пассаж Шкловского. «Развитие литературой факта должно идти не по линии сближения с высокой литературой, а по линии расхождения, и одно из главных условий – это определенная борьба с традиционным анекдотом, который сам по себе в рудименте носит все свойства и все пороки старого эстетического метода» [Шкловский, 1929, с. 250]. Местоположение этого фрагмента в тексте дважды отмечено. Он завершает статью «Очерк и анекдот» и одновременно венчает итоговый сборник «О теории прозы» (1925), после которого следует отточие в виде «Третьей фабрики» (1926) и далее – новый абзац литературной биографии Шкловского. Если учесть постоянное внимание Шкловского к семантике финала, то данный фрагмент оказывается чем-то вроде символической концовки в теоретической истории раннего формализма, оказавшегося репрессивным в своем безоглядном иконоборчестве. После «Теории прозы», материал которой был написан в 1916–1923 годах, Шкловский больше не возвращался к научной поэтике. Именно эмигрантский опыт, а точнее, пересечение границы туда и обратно способствовало тому, что выбор между наукой и литературой был сделан в пользу последней. Имея в сознании субъективный образ Запада, Шкловский в 1914 г. ушел в науку, чтобы после демифологизации образа Европы вернуться в Россию «своим», т. е. писателем, а не ученым. Между тем обратный перевод не тождествен исходному тексту, с чем и был, вероятно, связан выбор Шкловского в пользу третьей позиции, предполагающей постоянное пересечение границы между наукой о литературе и собственно литературой.
VII. Числа и чувства. Двоичные и троичные модели в текстах (и) биографии Шкловского
В связи с мировоззренческими установками, которые Борис Пастернак имплицировал в «Докторе Живаго», Александр Пятигорский писал в середине 1980-х, что люди двадцатых годов, «люди нового искусства и новой науки жили как бы одновременно на двух не сводимых друг к другу уровнях мироощущения и мировоззрения. <…> На уровне мироощущения они были великими познавателями и трансформаторами вещей, образов и понятий. Их конкретный чувственный опыт был уникален, потому что уникален был материал. На уровне мировоззрения они были создателями концепций» [Пятигорский, 1996, с. 218]. На обоих уровнях они были равны себе, культивируя «иллюзию органичности», которая есть «оборотная сторона любого конструктивизма». Поколение революции, по которому прошел разлом времени, двигалось вперед, постоянно оглядываясь, и праздновало свои победы с необъяснимой тоской. Интеллектуалы возрастного диапазона от Блока до Эйзенштейна понимали, что революция была очередным обострением русской эсхатологии. Еще одной, пусть и невиданной по радикальности реализацией дуалистической модели с ее кругом катастроф и бесконечностью отказа от прошлого [Лотман, Успенский, 1994, с. 220–221]. По той же модели действовал и отождествивший себя с революцией ранний русский формализм.
При всем декларативном сциентизме у формалистов была в чести не собственно аналитика, а познавательная ценность творческого делания, ранее отстаивавшаяся символистами, а до них – немецкими романтиками[125]. Делание в искусстве положительно противопоставлено узнаванию; это общее место формалистской теории. Ученый должен стать субъектом делания, синтезирующим роли наблюдателя и участника. Иначе все останется по-старому, как при дореволюционном академизме, где никому нет дела до «ощутимости» жизни, и «автоматизация» съедает все. Первичность поэтического языка, заостряющего внимание на своей структуре, и вторичность «естественного», которому структура безразлична, выражалась, что не менее хорошо известно, в концепции остранения, которая для Шкловского была модусом мышления, а не равноправным элементом в системе приемов. Его интеллектуальная биография – это маршрут вечного переосмысления идеи остранения от витализма в духе Анри Бергсона и дифференциальных ощущений Бродера Христиансена к своеобразному симбиозу структурализма и марксизма, где «произведение понимается как звено “самотрицающего процесса” <…> художественного развития» [Gunther, 1994, р. 25]. Для марксиста отрицания во второй степени, конечно, недостаточно. Но полное соответствие какой-то идеологической модели редко встречается в литературоведении, если встречается вообще.
Остранение определяет искусство, искусство пронизывает жизнь. Революция и была этим актом жизнетворчества. Интеллектуалы признали ее в ироническом ключе; коротко этот тип иронии пояснил Шкловский: «Беру здесь понятие «ирония» не как «насмешка», а как прием одновременного восприятия двух разноречивых явлений или как одновременное отнесение одного и того же явления к двум семантическим рядам» [Шкловский, 2002, с. 233]. Это перифраз «романтической иронии» по Фридриху Шлегелю. Мировоззрение деятелей ОПОЯЗа было сознательно аналитическим или, как сказал бы Борис Эйхенбаум, «специфицирующим». Мироощущение, напротив, было целостным, исходящим из имплицитной уверенности в органической связи между явлениями. Поэтому формалисты круга ОПОЯЗа и в особенности Шкловский создавали себе исследовательское поле, которым занимались в силу личной заинтересованности, включенности науки в биографию. Обнажая чужой прием, они говорили о себе. Их убежденность в том, что литературные факты имеют отношение друг другу, а не к реальности, была связана с напряженным вниманием к этой последней. И, конечно, своим местом в этой актуальной комбинации.
Шкловский с его участием в революции на стороне левых эсеров, неакадемической наукой, литературной обработкой эмиграции как вставной новеллы в романе жизни, с уходом в кино (дабы смотреть на литературу извне), и «мнимой сдачей»[126]формалистского фронта на рубеже 1930-х годов культивировал образ «фаустовского» героя. Раздвоенность – что в контексте революции синонимично ее дуализму – осознавалась им как травма и в то же время служила ресурсом перехода от одного этапа развития к другому. Тот, в чьей груди (впрочем, совершенно здоровой) живут две души, – «друг другу чуждые, и жаждут разделенья», вынужден тягаться с историей. Внутренний конфликт заставляет выбирать, т. е. порождать события. Любой объект рассматривается как результат действия противоположностей в той же мере, в какой им является и сама наблюдающая инстанция.
Филологи круга ОПОЯЗа строили свою концепцию объекта на непременном противодействии. Такова идея доминанты у Эйхенбаума в «Мелодике стиха», сознательно заострившего и упростившего тезис Кристиансена о том, что объект должен как принадлежать фону, так и непременно от него отличаться [Ханзен-Леве, 1985, с. 16–17]. Аналогична идея приема у Шкловского: объект должен быть результатом деформации, обнажающей структуру формы. В том же духе решена и востребованная в будущем (по меньшей мере, в структуралистском контексте) проблема синфункции и автофункции, поставленная в книге «Проблема стихотворного языка» (1924) Тынянова. Объект должен принадлежать одновременно двум системам, взаимодействовать с ближайшим контекстом и тем самым подчеркивать свое от него отличие (формировать своего рода негативную идентичность). Возвращаясь к мысли о пронизывающей и организующей двойственности, следует подчеркнуть, что она является, говоря словами Тынянова, ресурсом «борьбы и смены» в истории литературы. Но сами петербургские формалисты последовательно вписывают себя в историю литературы в отличие от, например, Якобсона, не менее последовательно строившего научную карьеру и никогда после футуристических увлечений юности не игравшего.
По мере отдаления от революционного взрыва, резко поделившего мир на два цвета, бинарные структуры уступают место более сложным тернарным отношениям[127]. В частности, формалисты с середины 1920-х годов активно вводят в оборот кружковую коммуникацию, которая не сводится ни к собственно бытовому общению, ни к теоретической работе, а составляет альтернативное, «третье» поле интеллектуального бытования. Это форма существования научного сообщества, где наука неотделима от биографии, неизменно выраженной в тексте. Забегая вперед, можно воспользоваться терминологией Шкловского из книги «Третья фабрика» (1926) и констатировать, что трое коллег пошли по третьему пути. Деление на три – мотив, не менее популярный, чем раздвоение. Еще в 1921 г. Эйхенбаум, преуспевший в метафорических номинациях, назвал свой ближний круг «ревтройкой» [Эйхенбаум, Дневник, 244, 61][128]. Ближе к концу десятилетия терминология эпохи военного коммунизма сменилась культурно фундированным «триумвиратом». Аналогия была прозрачной: «бесценный триумвират» Александра Дружинина, Василия Боткина и Павла Анненкова, к которому мечтал примкнуть Лев Толстой в 1850-е годы [Эйхенбаум, 2009, с. 266]. Обстоятельства творческой биографии Толстого, которую пристально изучал Эйхенбаум, не могли не подтолкнуть к подобной аналогии. «Артистическая» теория Дружинина и его круга самим фактом своего существования ставила под сомнение социально заряженную идеологию журнала «Современник». Так же и формалисты, свысока оценивавшие крайне прямолинейные опыты марксистской и социологической поэтики, оказались в этом споре осознанными «архаистами» еще до появления известного сборника Тынянова (1929), чье название было подсказано Шкловским. Сам по себе факт активной переписки на троих (своего рода заочная мини-конференция, альтернативная опубликованным работам) значительно усложнял научное поведение формалистов, противопоставляя его узкой специализации, которой требовали от деятелей культуры производственный ЛЕФ и тем более РАПП. Кстати, именно в «год великого перелома» Шкловский делится с Якобсоном своим «формальным» видением тройственного союза (письмо от 16.02.1929): «Представь себе, что нас двоих [Тынянова и Шкловского] недостаточно. Борис Михайлович [Эйхенбаум] в последних работах разложился до эклектики. <…> Вывод: ОПОЯЗ можно восстановить только при твоем приезде, т. е. ОПОЯЗ – это всегда трое» [Фрейдин, 1992, с. 180–181]. Тяготение к формальной условности почти абсурдное – настолько велика сила инерции.
Если традиционный критик ставит себя в позицию над литературой, чем себя нередко и дискредитирует, то формалисты в большей или меньшей степени совмещали позиции критика и литератора, стирая между ними зазор. Литература для них, с одной стороны, была приватным делом в духе пушкинского «Арзамаса», с другой – именно в таком качестве она устремлялась за пределы узкого круга посвященных, транслировалась в широкий культурный контенкст (ср. разработанную до этого на внешних примерах идею «канонизации младших жанров»). Ведь в любой интимности, получившей текстуальное воплощение, проступает лукавство: за ней неизбежно наблюдает кто-то со стороны (читатель, зритель) и тем самым ее отменяет. Быть над и быть вместе – прерогатива литератора в роли критика. При этом «сделанное», выраженное немедленно отчуждается и становится предпосылкой иронии. В точности по Шлегелю: ироничное творчество внутренне возвышенно, внешне снижено (или наоборот)[129].
Вследствие переезда Шкловского в Москву формалисты начали общаться на расстоянии, литературно обрабатывая дистанцию и упрочивая символическую связь внутри «триумвирата». Особые темы их обсуждения – стагнация интеллектуального поля, губительность самой перспективы построения карьеры, ревность учеников и кризис профессии на фоне усиливающейся несвободы литературы. «К тебе и Юрию приближается проклятый пушкинский возраст – мне очень больно за вас. <…> Мое счастье, что в ваши годы я попал в разгар революции и при светильне писал “Молодого Толстого”» [Панченко, 1984, с. 201]. Эйхенбаум пишет эти строки Шкловскому в апреле 1929 г., т. е. накануне кончины формализма, если традиционно рассматривать в качестве ее маркера статью «Памятник научной ошибке», выпущенную Шкловским годом позже. Своим не раз заклейменным отречением Шкловский попытался выйти из-под власти своих ранних открытий и преодолеть ранний кризис среднего возраста, пусть и ценой непонимания последователей. На отношения внутри триумвирата этот поступок не повлиял, до самой смерти Тынянова формалисты остаются втроем и постоянно рефлектируют о своей связанности работой, дружбой и случаем. «Трое нас, трое вас. Господи, помилуй нас, – пишет Эйхенбаум Шкловскому в марте 1940 г., цитируя рассказ Толстого “Три старца”. – Помнишь ли ты, что номер твоей квартиры 47, моей – 48, а Юры – 49? Это поразило меня раз и навсегда» [Кертис, 2004, с. 324]. Личное отношение к истории на фоне утверждений о ее, истории, независимости от этоса – основная мировоззренческая интрига формальной школы. При всей глубокой искренности и эмоциональной заряженности внутрицеховой переписки нельзя забывать, что это жанр «интимной» коммуникации. При этом даже инсайдеры формалистского круга, в частности, ученики, строившие свой миф об учителях, полагали, что дружба литературная и повседневная – это одно и то же[130].
Биография и автобиография – форма бытования монологической самости, способ ее идентификации и выражения, достраивающий диалогическую переписку, своего рода недостающее третье звено в структуре научной коммуникации. Эйхенбаум завершил эру своего позднего взросления «Временником», начав путь к себе от «Молодого Толстого». В стилизаторском сознании Тынянова рефлексия над своей эпохой и своим в ней местом прозрачно реализовалась в «Кюхле», фактически завершившем теоретический цикл его работ от «Достоевского и Гоголя» до «Проблемы стихотворного языка». Но более других темой своих отношений с русской литературой был озабочен Шкловский. Он никогда не испытывал недостатка в индивидуальной биографии. Точнее, выстраивал ее так, чтобы она была интереснее литературы и, тем более, исследования. Его конкиста продолжалась с 1916 по 1923 г.: война, революция, вновь война, военный коммунизм и террор в Петрограде (параллельно подъем ОПОЯЗа), преследования чекистов, эмиграция, не вполне внятная причина возвращения и цена, которую за него пришлось заплатить. Так состоялись путешествия по России (на западный и на восточный фронт), одно за границу (бегство и эмиграция) и по возвращении из Германии переезд из Петрограда в Москву. Примечательно, что этим перемещениям соответствуют три фазы в истории формального метода: 1) декларативная (статья «Воскрешение слова» на волне футуристских увлечений); 2) аналитическая, реализующая идею «поэтики» (одноименные сборники 1919–1921 гг.); 3) синтетическая, сталкивающая уровни объекта и метаязыка (с 1923 г. и до конца десятилетия).
Этот синтетический тип письма Шкловский начинает разрабатывать сначала в травелоге «Сентиментальное путешествие», затем в эпистолярном романе «ZOO, или Письма не о любви» и, наконец, в мемуарно-автобиографическом романе-коллаже «Третья фабрика». Три опыта переосмысления прозаических жанров в движении от ортодоксальных твердых форм к слабой, раздробленной форме, воскресающей бессюжетную литературу в духе Василия Розанова, которому Шкловский посвятил программный очерк в 1921 г., составили теоретическую трилогию. Здесь также следует отметить чувствительность к тернарному порядку и даже просто делению на три. «Сентиментальное путешествие» было трилогией, одна из частей книги называлась «Три года», книга «ZOO» имела подзаголовок «Третья Элоиза» и состояла из 29 писем и одного пространного эпиграфа в структурной роли предисловия, т. е. из 30 глав. Наконец, «Третья фабрика» – это итог, обнажающий структуру биографии. Он имеет трехчастную структуру и создан в 33-летнем возрасте, на чем автор настойчиво заостряет читательское внимание. Следует учесть, что между ним и эмигрантскими романами, полемически осмысляющими классические формы жанра, был выпущен приключенческий роман «Иприт», написанный в 1925 г. в соавторстве с Всеволодом Ивановым и пародирующий, подобно Мариэтте Шагинян в «Месс-Менде», массовый вкус[131]. Здесь предпринимается опыт снижения и расшатывания жанра, который «Третья фабрика» доведет до конца и даст начало новому проекту – книгам, сшитым из лоскутков, где научное письмо чередуется с литературным. При этом монтажный принцип «Третьей фабрики» восходит к радикальной повествовательной технике Бориса Пильняка, чью повесть «Третья столица» (1922) Шкловский внимательно разбирает в отдельной статье 1925 г., позднее вошедшей в сборник «Пять человек знакомых» (1927)[132].
«Третья фабрика» буквально сшита нитками отсылок с двумя предыдущими книгами. Она переводит осмысление теории формального метода в эмоциональный регистр, продолжая линию «ZOO». В предисловии, которое так и называется «Продолжаю», Шкловский говорит, что начинает с куска, лежащего на столе. Как в фильме к началу приклеивают ракорд, так «я прикрепляю кусок теоретической работы. Так солдат при переправе поднимает вверх свою винтовку» [Шкловский, 2002, с. 337]. С одной стороны, здесь подхватывается мотив сдачи, которым завершается 29-е, финальное письмо «ZOO», где описываются трупы аскеров с поднятой правой рукой – знаком капитуляции. Конечно, «поднять руку, сдаваясь» и «поднять винтовку на переправе», – это не одно и то же, прагматика этих жестов различна. Но спасение оружия оказывается следствием поражения – измены себе и главному делу, усталости от фельетонов и кино, в которое повествователь – quasi-ego Шкловского – погружается после переезда в Москву. С другой стороны, фраза отсылает к началу первой части «Сентиментального путешествия», где говорится о фольклорной истории, услышанной повествователем в трамвае: «Рассказ этот прикрепляется то к Варшаве, то к Петербургу» [Шкловский, 2002, с. 21]. Надо отметить, что прием «прикрепления», заметный здесь в сильной (инициальной) позиции текста, почти не встречается среди терминов поэтики Шкловского в отличие от «развертывания», «нанизывания», «задержания», «ступенчатого» и «параллельного строения». В «Теории прозы», суммирующей работы 1916-1924-х годов, речь о «прикреплении» заходит только в связи с Андреем Белым, в отношении которого Шкловский испытывает чувствительную общность[133]. Имеется в виду «Котик Летаев», где «механически построенное применение одного выражения к ряду, понятию <…> прикрепляется к традиционным тайнам. Здесь тайна дана как бессмыслица, как невнятица, невнятица чисто словесная, в которой упрекали Блока (и Белый упрекал), – невнятица, которая, может быть, нужна искусству» [Шкловский, 1929, с. 220]. Прикрепление выглядит и проще, и сложнее приемов, создающих каузальное единство текста. Этот прием, расшатывающий внутритекстовые связи, дает выход волюнтаризму автора и обнаруживает способность примыкающих фрагментов к взаимной ассимиляции (своего рода аналог «эффекта Кулешова» в кино, когда произвольный монтаж кадров придает изображаемым предметам тот или иной смысл).
Автор сам решает, что с чем будет связано – он и есть гарантия повествовательного единства[134].
«Третья фабрика» завершает трилогию и открывает новый раздел биографии: далее появятся «Гамбургский счет» (1928), «Поденщина» (1930) и «Поиски оптимизма» (1931), связи между которыми слишком ослаблены, чтобы считать их частями другой трилогии, но вместе с тем достаточны, чтобы видеть перекличку мотивов, диагностика которых началась уже в «Третьей фабрике». Поденная работа, или халтура, дала имя одной из упомянутых книг. Саморазоблачение можно и нужно превратить в литературный прием, что Шкловский и сделал, но «веселая наука» закончилась[135]. Процесс этот начинается именно в «Третьей фабрике», пропитанной ощущением кризиса. Здесь замолкает эхо революции. В главе «Вторая фабрика», закономерно соответствующей периоду «бури и натиска» ОПОЯЗа, есть футуристы, учеба на скульптора, Кульбин и Бодуэн де Куртенэ, есть война, быстро состарившаяся за одну страницу, описание угарного газа в гараже броневого дивизиона и знакомство с семейством Брик, но нет скорости, на которой построена наррация «Сентиментального путешествия». Напротив, в начале книги прямо говорится: «Мы любим ветер революции. Воздух при 100 верстах в час существует, давит. Когда автомобиль сбавляет ход до 76, то давление падает. Это невыносимо. Пустота всасывает. Дайте скорость» [Шкловский, 2002, с. 340].
Революционную энергию вытесняет чувственная, эротическая. Шкловский совершает провокационную подмену в духе почитаемого им Розанова. В финале «Второй фабрики», т. е. лирического обзора ОПОЯЗа, много внимания уделено семье Бриков, в которую «приходил Маяковский» и где кормили деликатесами. Шкловский, рассказывая о вечерах у Бриков, перечисляет: «На столе особенно помню: 1) смоква, 2) сыр большим куском, 3) паштет из печенки» [Там же, с. 359]. Возможно, эта троица случайна, и все же чувственный инжир убедительно соотносится с женщиной, а большой сыр и мягкий паштет с окружающими ее мужчинами – сильным и слабым. Намек на расстановку сил в тройственном союзе Бриков и Маяковского более чем прозрачен и композиционно соседствует с главой-письмом Роману Якобсону, которая содержит отчетливые гомосексуальные мотивы: «мы были как два поршня в одном цилиндре»; «тогда, когда мы встретились на диване у Оси, над диваном были стихи Кузмина» [Там же, с. 361] и т. д. Сюда же можно отнести сравнение себя с льном на стлище – побиваемым, пассивно страдающим. Жертва нужна жизни, а не искусству: «Лен не кричит в мялке. Мне не нужна сегодня книга и движение вперед, мне нужна судьба» [Там же, с. 349].
Мотив тройственного союза и бисексуального влечения отразится в киносценарии «Третья Мещанская», над которым Шкловский работает в том же 1926 г. Уже начиная с названия это была попытка третьего пути, о котором в подчеркнуто селекционных терминах говорит третья часть «Третьей фабрики». «Путь третий – работать в газетах, в журналах, ежедневно, не беречь себя, а беречь работу, изменяться, скрещиваться с материалом, снова изменяться, скрещиваться с материалом, снова обрабатывать его, и тогда будет литература» [Там же, с. 369]. Здесь эротические коннотации получают прямо-таки ритмично-производственный характер. По всей видимости, третий путь – это отказ от жестких оппозиций, от борьбы (революции), погружение в повседневность как в лоно частной жизни. Эта тема находится в центре фильма по сценарию Шкловского.
Картина «Третья Мещанская» (второе название «Любовь втроем») в постановке Абрама Роома, получившая в зарубежном прокате названия Bed & Sofa (Англия) и Trois dans ип sous-sol (Франция), изучена с различных точек зрения[136]. Исследователи сходятся на том, что эта экранная провокация типичной для России патриархальной сексуальности отражает социальные и ментальные сдвиги пореволюционной России. В своем сценарии Шкловский выстроил не только аллюзию на брак втроем в исполнении Бриков и Маяковского, хорошо согласующийся с ранней социалистической моралью (отмена брака вместе с институтом частной собственности). Здесь отчетливо заявляет о себе гомоэротический подтекст, ранее вытеснявшийся из текстов Шкловского нарочитой мужественностью[137]. Герои фильма – двое мужчин, никак не могущих поделить женщину, в итоге остаются вдвоем, чтобы спокойно и безмятежно существовать в квартире на Третьей Мещанской улице. Автономия равноправных полов, исчезновение иерархий ведет к нейтрализации оппозиций. Третий член разрушает контрастную пару и создает новую, где оба члена идентичны. Совершенно безразлично, живут ли на Третьей Мещанской мужчина и женщина, двое мужчин и одна женщина или мужчина с мужчиной. Третий путь, который избирает женщина, отказавшаяся как от одного, так и от другого мужчины, ломает саму идею семьи. Картина, собственно, и концентрирует внимание на симптомах этой ломки. Наряду с аллюзией на «семью» Бриков и Маяковского вполне уместен акцент на дружеской семье формалистов, из которой выброшен за границу Якобсон, а в Москве пропадает, «как мясо в супе», зачем-то вернувшийся из-за границы основатель школы. «Письмо Якобсону», включенное в «Третью фабрику», отражает беспокойство автора, ощутившего кризис единства – круга друзей, метода и собственного тела, его ощущений. Нереализованность интеллектуальная получает ироническое отражение в сексуальной неудовлетворенности. Неслучайно повествователь «Третьей фабрики» живет «тускло, как в презервативе» [Там же, с. 372]. Кстати, этой фразой начинается главка с характерной пассивной конструкцией в названии: «Что из меня делают».
Мотив троичности, разрушающей бинарные отношения, заострен в фильме с физиологической отчетливостью. Шкловский играет с числом 3 не только названием и числом персонажей, но и на уровне мотивов. Так, титр сообщает, что «два дня прожил Фогель у Баталовых», а на третий приударил за Людой, чей муж Коля отправляется в служебную командировку. Когда чужой мужчина – фронтовой товарищ мужа – только появляется в доме, супруги выделяют ему диван, а сами живут на кровати. После измены жены законный муж ненадолго уходит жить на службу, где спит на столе, – это «третье» ложе отсылает к образу жестокой изнурительной работы, который Шкловский живописует в «Третьей фабрике». Наконец, в ходе воскресной прогулки будущий любовник предлагает женщине три вида развлечений, каждое из которых сублимирует чувственную близость. Это зрелище парада, куда включена экскурсия на аэроплане (полет любви[138]), катание на автомобиле с проездом сквозь арку (обряд перехода) и вечерний поход в кино с его темнотой и атмосферой острой интимности на фоне телесного соседства с посторонними людьми. После этой тройной ретардации любовникам остается вернуться домой и реализовать метафору: во время гадания на картах валет покрывает даму. Следует затемнение.
Такая откровенность возмутила консервативную (вариант – мещанскую) часть критического большинства. «Валет, покрывающий даму, методическое волнение воды в стакане, в такт движениям на кровати за ширмой, ставшей <…> непременным аксессуаром роомовских лент, двуспальная кровать… Картина не бытовая и не советская!» [Яковлев, 1927, с. 3]. С явным недовольством отозвался о фильме почуявший неладное Осип Брик: «Самый конфликт дан не резко, не принципиально. <…> Нет ничего специфически характерного для советской бытовой обстановки» [Брик, 1927, с. 2]. В связи с отзывом несгибаемого ЛЕФовца сложно не вспомнить также вряд ли приятную для него главу из «Третьей фабрики». В ней Шкловский вспоминает, как «варился у Бриков», «среди туркестанских вышивок, засовывая шелковые подушки за диван, пачкая кожей штанов обивку, съедая все на столе» [Шкловский, 2002, с. 359]. Эта раблезианская телесность на фоне буржуазной обстановки приписывается в «Третьей Мещанской» законному мужу Людмилы – Коле. Он сочетает в себе признаки брутального, но нервно-холодного Маяковского и «грязного», но чувственного Шкловского. Нашлись среди рецензентов и коллеги-«попутчики», которые высоко оценили культурный потенциал фильма: «Если еще не ленинским прожектором, то хотя бы с карманным фонарем А.П. Чехова пытались осветить мещанский уголок В. Шкловский и Абрам Роом» [Херсонский, 1927, с. 3]. Обращает на себя внимание попытка вписать формалистов в культурную традицию, характерное для второй половины 1920-х (ср. критические обзоры Михаила Бахтина (Павла Медведева), Бориса Энгельгардта) и принимающее здесь характер чисто литературной генеалогии.
Фильм достроил то, что осталось недосказанным в «Третьей фабрике», куда был, среди прочего, почти целиком включен литературный сценарий «Бухты зависти» – предыдущей совместной картины Роома и Шкловского. Семья и служба, заполняющие третий период литературной биографии Шкловского, осмыслены в «Третьей Мещанской» с горькой иронией. От предсказуемости и бессобытийности жизни можно сбежать, как это делает героиня фильма Людмила. Но от себя не убежишь – Шкловский, уехавший от своих единомышленников в Москву, хорошо это знает. Уместно было бы различить в любовном треугольнике «Третьей Мещанской» отношения Шкловского к друзьям и коллегам по науке. Триумвират, оставшийся в России, плюс заграничный Якобсон образуют параллель к любовному треугольнику фильма, к которому добавляется участвующая в сюжете кошка – символ мещанского уюта. Наконец, есть еще одна параллель с «квартетом», описанным у Маяковского, где к трем человеческим персонажам добавляется собака ЕЦеник [Зоркая, 1999, с. 212]. Эти наблюдения не означают, что герои фильма точно соответствуют каким-либо прототипам. В Людмиле, оставившей дом, узнаются черты как самого Шкловского, бежавшего за границу и в конце концов уехавшего в Москву, так и Якобсона, нежность к которому – следствие его романтически переживаемого отсутствия. В то же время «Третья фабрика» включает и письмо Льву Якубинскому, который не входит в «триумвират» из-за своих лингвистических интересов, но осознается как свой. Шкловский обращается к нему с попыткой научной программы и критики «нового учения о языке» Николая Марра, последователем которого в это время ненадолго становится Якубинский. Обращение к нему Шкловского, оформленное в жанре дружеского письма, является исключительно декларацией, маркирующей отличие формалистов от прочих школ. Таким образом, формалистский круг описывается в книге по той же схеме «3+1», которая сохраняется и в фильме, если считать кошку, заменившую собаку Щеника. Отъезд в Москву заставил Шкловского изменить профессию, но он задним числом пытается найти в этом симптомы позитивных перемен, тогда как его петербургские друзья Эйхенбаум и Тынянов остались дома отвечать за науку и развивать ее. Шкловскому жалко этой потери, но однозначно признать ее он не согласен.
По мере развертывания автобиографического текста, Шкловский конструирует уже не дуалистический (если угодно, революционный), но сложный трехслойный образ самого себя. Он реформатор науки о литературе, ученый нового типа. Он же – романтический герой, «бурный гений», индивидуалист, имморалист и «фрейдовец». Наконец, и этот образ особенно актуален для второй половины 1920-х годов, т. е. по возвращении из эмиграции он интеллектуал-производственник, страдающий от рутины, нереализованности и сплина, обычного для разочарованного романтика. И если два первых образа выражают трагическую и продуктивную двойственность человека революции, то третий, который их нейтрализует, соответствует пассивности и слабой теоретичности формалистских разработок середины 1920-х годов. В 1926 г. еще не оформлена идея «литературного быта», которая объяснит как ее создателю Эйхенбауму, так и его близким друзьям, какова логика их интеллектуальной эволюции. Кружковое, интимное общение ее кажется уступкой, симптомом «мещанского» сознания. Но уже в 1928 г. отход от жесткой контрастности революции будет адаптирован и осознан как естественный: «Я говорю, что у одного писателя не двойная душа, а он одновременно принадлежит к нескольким литературным линиям» [Шкловский, 1928, с. 40].
В заключение стоит остановиться на самой кинофабрике, давшей название книге. Известно, что третья фабрика Госкино была образована на базе киноателье Иосифа Ермольева – одного из ведущих дореволюционных кинопредпринимателей, чьи ключевые успехи были связаны с тандемом Якова Протазанова и Ивана Мозжухина. Такие картины, как «Пиковая дама» (1916) или «Отец Сергий» (1918) отличало высокое качество работы с литературным материалом и ориентация конечного продукта на самого широкого потребителя, ставка на звезд и внимание к техническим новинкам. Реорганизованная по советскому плану фабрика Ермольева также должна была поставлять интеллектуально доступный, т. е. массовый товар. Художники, «творцы» советского авангарда с их штучными работами (Лев Кулешов, Сергей Эйзенштейн) группировались на первой фабрике (ранее собственности Александра Ханжонкова). Шкловский же работал на третьей фабрике как редактор, автор надписей и сценарист, как человек литературы, «вырывающий» кинематограф из тьмы невежества. Это был вынужденный шаг, который он вскоре оценил как благотворно повлиявший на судьбу формального метода, на динамику его изменений. В первоначально пренебрежительном отношении Шкловского к кинематографу легко убедиться, обратившись к первым опытам кинокритики, созданным в эмигрантский период (см. главу XIV). Шкловский невольно «спустился» в кино сверху вниз, несмотря ни на какие декларации о демократическом иконоборчестве раннего формализма. Инерция восприятия кино сквозь линзы словесности, тем более в русском литературо-центричном контексте, была велика. Понадобилось практически погрузиться в контекст, увидеть фабрику изнутри, чтобы понять неизбежность собственных изменений и отказа от радикальных научных концепций в пользу слабой, разочарованной в теории, но живучей и сложной повседневности.
VIII. Интермедия. Автор как герой. Литературная репутация Виктора Шкловского
В данной главе рассматривается феномен, который даже с учетом чувствительности литературы 1920-х годов к метафикции и литературной игре можно расценить как уникальный. Немного найдется литературоведов, которые бы столько раз становились героями литературных произведений, как Виктор Шкловский. Его литературная репутация и будет предметом настоящего экскурса. Упомянутый термин можно понимать двояко. С одной стороны, литературная репутация – это совокупность мнений, вычлененных из писем, дневников, записных книжек, салонных альбомов, воспоминаний и отзывов современников. Это больше историческая, нежели собственно литературная репутация; формирующие ее суждения лишь со временем могут создать литературный ансамбль, оставаясь материалом социологического исследования. В этой области пионерскую работу издал в 1928 г. московский историк литературы Иван Розанов. Его книга «Литературные репутации» вдвойне интересна в контексте изучения формалистов, представляя собой опыт теории литературных отталкиваний – жеста, крайне важного для самоидентификации формальной школы и в первую очередь Шкловского[139].
С другой стороны, литературную репутацию можно понимать и в более прикладном, если не буквальном смысле, как портрет литератора, который описывается или даже воссоздается в фигуре литературного персонажа. Репутации здесь формируется из воспроизведенных и/или пародированных черт прототипа, будь то стиль письма, поведение, речь, внешность. В роли метаязыка здесь выступает другой текст, уже представляющий собой факт литературы, а не ее «сырой» материал.
Среди петербургских формалистов лишь Виктор Шкловский сделал репутацию частью профессии. Если авторефлексия Тынянова и Эйхенбаума служила, как правило, научным целям, то для Шкловского изучение литературы часто выступало как повод для контрастного или, напротив, комплементарного моделирования своей биографии, причем биографии беллетризованной. Подобная концентрация на себе не была вызвана одной лишь узостью профессионального горизонта, но была следствием продуманного уничтожения уровневых границ между героем, писателем и читателем (в данном случае профессиональным). Шкловский был воплощением сознающей и пишущей себя литературности. Вполне типично раздражение Романа Гуля, в рецензии на сборник «Ход коня» пеняющего на то, что «у “резвого коня” будущие комментаторы остались без места» [Гуль, 1923 (а), с. 25]. Иронизируя на тему конфликта таланта и бездарности, исключительно метко высказался о феномене Шкловского его друг и коллега: «Дело доходит до того, что у Шкловского учатся, чтобы научиться его же ругать. <…> Он существует не только как автор, а скорее как литературный персонаж, как герой какого-то ненаписанного романа и романа проблемного. В том-то и дело, что Шкловский – не только писатель, но и особая фигура писателя. В этом смысле его положение и роль исключительны. В другое время он был бы петербургским вольнодумцем, декабристом и вместе с Пушкиным скитался бы по Югу и дрался бы на дуэлях. Как человек нашего времени – он живет, конечно, в Москве и пишет о своей жизни, хотя, по Данте, едва дошел до ее середины» [Эйхенбаум, 1987, с. 444].
Помимо своего решающего значения в деле адекватного восприятия личности Шкловского отзыв Эйхенбаума ценен еще и тем, что помещен в состав книги «Мой временник» (1929), практически целиком посвященной парадоксам и закономерностям писательских репутаций, конъюнктуре литературного рынка, взаимоотношениям внутри литературных объединений и журнальных редакций. Шкловский, таким образом, удостоверяется как писатель, сыгравший заметную роль в самой истории литературы, а не только в деле ее изучения.
Несомненно, что, видя в Шкловском «особую фигуру писателя» и вместе с тем «литературного персонажа», Эйхенбаум опирается на вполне конкретные предпосылки. С одной стороны, в этом определении отчетливо проступает теоретический пласт статьи Тынянова «Литературный факт». Имеется в виду концепция «литературной личности», во многом опиравшаяся на живой пример Шкловского [Dohrn, 1987, S. 88–89], которому, как известно, формалисты намеревались посвятить коллективный сборник[140]. С другой стороны, начиная со второй половины 1920-х годов литературное двойничество Шкловского усваивается аудиторией и во многом становится определяющим фактором формирования социальной репутации формализма. Выбор в пользу фикции, сделанный Шкловским еще в «Сентиментальном путешествии», лишь слегка опередил симптомы канонизации его литературной личности, начавшейся со знаменитой пародии Зощенко 1922 г., о которой среди прочего и пойдет речь в настоящей главе. Предполагаемый читатель эйхенбаумовского «Временника» должен был знать, по крайней мере, три жанра литературной репутации Шкловского: собственно пародии, самостоятельные стилистические карикатуры (Михаил Зощенко, Александр Архангельский), пародийные рецензии на тексты Шкловского (Александр Бахрах, Константин Федин) и, наконец, крупные прозаические формы, где Шкловский выведен в качестве пародийного персонажа, указывающего на свою связь с прототипом (Михаил Булгаков, Ольга Форш и Вениамин Каверин).
Образцы каждого из трех указанных жанров существенно отличаются друг от друга. Даже при весьма поверхностном взгляде на пародийные рецензии, кстати, обе посвящены сборнику «Ход коня», видно, что Бахрах не ставит принципиальные вопросы, ограничиваясь ироническим перифразом Шкловского: «Синтез… Концепция… Лейтмотив… Мотивировка… вещь и Вещь и вещность… Анаксимандр учит… прототип Лизы заимствован из Панчатантры» [Бахрах, 1923 (а), с. II][141].
Федин же, напротив, интересуется больше концептуальной стороной манеры Шкловского, хотя и не пренебрегает аллюзиями на его суггестивный, просящийся на пародию синтаксис. Среди «Серапионовых братьев» Федин разместился на «правом, консервативном литфланге» [Фрезинский, 2003, с. 124] и был сторонником умеренной преемственности литературной традиции, к экспериментам не тяготел. Его попытка вывернуть наизнанку манеру письма и микросюжеты «Хода коня» является следствием глубокого несогласия с «легкомысленной» радикальностью Шкловского. Косвенно об этом свидетельствует обилие популярных антиформалистских штампов:
«Во сне меня назначили инструктором в литературную студию.
Я отбивался кулаками.
Даже во сне.
Я очень не люблю студии. Не люблю студизма.
Всякий раз, когда я слышу о нем, думаю: в какой студии учились Гоголь, или Толстой, или Горький, Лесков, Щедрин?
Эпидемия литературных студий закончится исчезновением с лица земли писателей» [Федин, 1985, с. 292].
В отличие от пародийных рецензий, в задачу которых входит отзыв на текст, пусть и творчески преображенный, традиционная пародия ориентируется на «радость узнаванья» и эксплуатирует весьма ограниченный набор экспрессивных особенностей пародируемого идиостиля. Но жанровый состав таких имитаций неоднороден. Наряду с распространенными пародиями Зощенко и Архангельского, которые были, несомненно, известны читателям «Временника» Эйхенбаума, важную роль в создании репутации Шкловского мог сыграть и рассказ Андрея Платонова «Антисексус», написанный в 1926 г., но так и оставшийся неопубликованным вплоть до появления в журнале «Russian Literature» (1981, № 9). Включенная в рассказ пародия на Шкловского должна была восприниматься на фоне начатой традиции и способствовать расширению самого понятия пародии, в результате чего возникли те «большие формы» пародии, о которых речь пойдет несколько ниже.
Рассматривая пародию Платонова, довольно легко отделяемую от основного текста благодаря монтажному примыканию его частей, нельзя не заметить, насколько плотно крошечный фрагмент компрессирует цитаты из работ Шкловского: «Женщины проходят, как прошли крестовые походы. Антисексус нас застает, как неизбежная утренняя заря. Но видно всякому: дело в форме, в стиле автоматической эпохи, а совсем не в существе, которого нет. На свете ведь не хватает одного – существования. Сладостный срам делается государственным обычаем, оставаясь сладостью. Жить можно уже не так тускло, как в презервативе» [Платонов, 1989, с. 174].
Платонов прибегает к изощренной технике цитации. Так, сравнение женщин с крестовыми походами представляет собой воспроизведение ложной цитаты из Розанова, открывавшей очерк Шкловского о бессюжетной прозе Горького, Ремизова и Алексея Толстого. «Газеты когда-нибудь пройдут, как прошли крестовые походы», – писал Розанов. Знание, что мир проходит, отличает человека от обывателя» [Шкловский, 1990, с. 197][142]. «Неизбежная утренняя заря» корреспондирует с цитатой из Хлебникова, приведенной Шкловским в той же статье: «Никто так хорошо не исполняет приказаний, как солнце, если приказать ему встать с востока» [1990, с. 205]. И, наконец, последние три предложения лаконично воспроизводят магистральную тему «Третьей фабрики»: недовольство собственной жизнью, поиски компромисса с эпохой в ожидании надвигающегося «конца барокко», эпохи интенсивной детали. Платонов заинтересован в мгновенном опознании источника, поэтому почти прямо отсылает к тексту оригинала: «Я живу плохо. Живу тускло, как в презервативе. В Москве не работаю. Ночью вижу виноватые сны» [Шкловский, 2002, с. 287]. Таким образом, пародия Платонова направлена на самую фигуру Шкловского, представляющую собой своего рода живую цитату, растворяющую человеческую идентичность в литературности.
Наряду с травестированием стилистической маски в рассказе отводится место и для более сложной операции. Если пародия служит, как правило, материалом для формирования литературной репутации, то сюжетный «Антисексус» развертывает самостоятельное повествовательное событие, в структуре которого конструируется репутация пародируемого персонажа. В предисловии, написанном от лица вымышленного переводчика, имя Шкловского отсылает к финалу, где серия отзывов о фантастическом приборе «антисексусе», созданном в качестве управляемого заменителя сексуальных отношений, завершается пародийным пассажем, приведенным выше. Полностью соблюдая жанровую логику, «переводчик» оговаривается, что, «конечно, тов. Шкловский, тонко сыронизировавший посредством формального метода над всей этой ахинеей, из этого правила исключается» [Платонов, 1989, с. 168], имея в виду восторженные отзывы об «антисексусе» подавляющего большинства западных знаменитостей. Помимо очевидного использования излюбленного формалистами приема обрамления Платонов стремится развернуть против Шкловского его основное критическое оружие – иронию. Выходит, что тонко как раз не то, как Шкловский иронизировал над некой ахинеей при помощи формального метода, а то, как Платонов попытался представить ахинеей этот самый формальный метод, используя один из его базовых приемов. С этим же напрямую связано и появление Шкловского в списке «уважаемых авторитетов», носителей негативных ценностей. В рассказе с предельной ясностью выражено неприятие «искусственности». Многократно повторяется одна и та же мифологема: искусственное напрямую связано с чужеродным и лживым началом, почему «антисексус» и рекламируется в основном иностранцами. Таким образом, Шкловский предстает объектом своеобразной культурной ксенофобии; метод его «западный», т. е. отчужденно-рациональный, хотя и стремящийся к искусственному самоодушевлению при помощи иронии. Результатом этой попытки является лишь самокопирование (отсюда такая плотность аллюзий на малом пространстве текста).
В отличие от ранних пародий Платонов уже намечает контур персонажа, в дальнейшем завершенный в романах, обыгрывающих личность Шкловского. Персонаж существенно отличается от объекта пародии: у Платонова осуществляется (пусть даже эпизодический) переход от перволичной речевой маски к третьему лицу повествования, описывающему героя со стороны. Следуя схемам консервативной теории литературы, можно счесть платоновский «конспект личности» Шкловского «переходной формой» от обычной пародии к построению пародийного персонажа, осуществленному в романах «Белая гвардия» и «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове».
Показательно, что литературная личность Шкловского начала жить отдельной жизнью именно в форме романа. Конец этого жанра настойчиво провозглашался (в том числе Шкловским) на протяжении 1920-х годов – эпохи распада больших форм и актуализации маргинальных (записная книжка, дневник и т. д.). Сказалось нередкое для литературы парадоксальное взаимодействие теоретических моделей и их создателя, остающегося якобы неподвластным открытому им закону. Это, в частности, эффектно использовал Бахрах в своей уже упомянутой рецензии: «Можно без преувеличения сказать, что облик “Я” удается Шкловскому великолепно, и в русскую литературу он смело может войти сотоварищем Онегина, Печорина, Рудина и иже с ними, т. е. именно ненавистным автору ненаучным эпохальным типом» [Бахрах, 1923 (а), с. 12].
Эта вовлеченность в литературу сродни парадоксу формализма, который, по мнению позднейшего критика, заключается «в обращении к литературе как модели духовной целостности (алхимический подход, по словам Б.М. Энгельгардта) с научным методом, требующим методологически абстрактного разъятия предмета» [Парамонов, 1997, с. 29]. Ничего не остается, как признать, что Шкловский сам просился в историю, всякий раз добавляя к высказыванию мысль о том, как это высказывание сделано. Герой автобиографических романов-пособий СП и Ц, герой, вытесняющий свой прототип, оказался равно привлекательным и для столь разных прозаиков, как Булгаков и Каверин, увидевших в фигуре Шкловского готовый «текст», созданный в лучших традициях русского модернизма.
В «Белой гвардии» (1923) состоялся дебют Шкловского в роли полноценного литературного персонажа, и уже здесь со всей отчетливостью проявилось влияние этого «художественного эквивалента» на фабульную ситуацию. Несмотря на то что Михаил Семенович Шполянский, несущий узнаваемые черты Шкловского, играет в тексте далеко не главную роль, именно он персонифицирует порочный авантюризм, которому чужда идея покоя и гармонии, столь важная для Булгакова. Шполянский не просто выводит из строя броневики гетмана Скоропадского, что существенно ускоряет и упрощает взятие Киева войсками Петлюры, но разрастается в фигуру мифически чудовищную, пусть ее появление и введено в роман посредством бреда помешавшегося на религии сифилитика – первого пациента Турбина, вернувшегося к практике перед самым приходом большевиков: «…злой гений моей жизни, предтеча антихриста, уехал в город дьявола.
– Батюшка, нельзя так, – застонал Турбин, – ведь вы в психиатрическую лечебницу попадете. Про какого антихриста вы говорите?
– Я говорю про его предтечу Михаила Семеновича Шполянского, человека с глазами змеи и с черными баками. Он уехал в царство антихриста в Москву, чтобы подать сигнал и полчища аггелов вести на этот Город в наказание за грехи его обитателей. Как некогда Содом и Гоморра…
– Это вы большевиков аггелами? Согласен. Но все-таки так нельзя… Вы бром будете пить. По столовой ложке три раза в день…
– Он молод. Но мерзости в нем, как в тысячелетнем дьяволе. Жен он склоняет на разврат, юношей – на порок, и трубят уже, трубят боевые трубы грешных полчищ, и виден над полями лик сатаны, идущего за ним» [Булгаков, 1966, с. 337].
Фигура Шполянского, кардинальным образом повлиявшая на способ авторской интерпретации событий, вмешалась в процесс подготовки рукописи в начале 1923 г., когда Булгаков познакомился с вышедшим в Берлине СП [Чудакова, 1988; Михайлик, 2002][143]. Трудно было не соотнести с известными Булгакову киевскими событиями исповедальные показания хвастливого террориста, в промежутке между бомбометаниями и гонками на автомобиле празднующего победу формального метода. Шполянский восполнил пробел, став связкой эпизодов, лежавших доселе черновым балластом, – в первую очередь это относится к хитроумному засахариванию системы подачи топлива в двигатели броневиков, технологию которого Шкловский не без демонстративного шика обнародовал в СП. Наряду с известной отсылкой к фамилии критика Аминада Петровича Шполянского (в эмиграции – писатель Дон Аминадо [Чудакова, 1985, с. 78]) персонаж Булгакова отсылает к фигуре киевского футуриста Юлиана Шполы [Лесскис, 1999, с. 99], что симптоматично, учитывая органическое неприятие Булгаковым новейших литературных течений.
Гипертрофированная активность Шполянского на литературном поприще оформляется в качестве отдельной темы, причем апелляции к прототипу не только не маскируются, но всячески выпячиваются по образцу излюбленного Шкловским самообнажения. Булгаков наделяет Шполянского внешностью Онегина, не столько имея в виду реальные бакенбарды, наличие которых Шкловский ностальгически подтверждал, сколько формируя эпохальный тип, о котором говорил Бахрах в уже дважды цитированной рецензии. В главе, саркастически обыгрывающей литературную деятельность Шполянского, содержится масса легко выявляемых аллюзий. Идея мультипрофессиональности окончательно оформится у Шкловского лишь во второй половине 1920-х годов. Булгаков же не просто эксплицирует, но гротескно высмеивает присущее Шкловскому стремление всюду демонстрировать свою универсальность. Шполянский – превосходный чтец собственных стихов «Капли Сатурна», отличнейший организатор, не имеющий себе равных оратор, председатель городского поэтического ордена «Магнитный триолет». Он управляет любыми машинами, а на рассвете, т. е. после всего вышеперечисленного, пишет труд «Интуитивное у Гоголя». Обращают на себя внимание две немаловажные детали. Во-первых, название футуристического сборника «Капли Сатурна» содержит намек на стихотворение в прозе, озаглавленное «Свинцовый жребий» и выпущенное Шкловским в 1914 г. в дар лазарету деятелей искусств. В терминологии алхимиков «Сатурн» означает «свинец»; алхимия же иронически намекает на особенности первых работ Шкловского (квазиэзотеричность, непоследовательность), аналогичным образом охарактеризованные позднее и в более академических трудах [Эрлих, 1996, с. 69–84][144]. Во-вторых, «Магнитный триолет» не только воспроизводит имя Эльзы Триоле – героини романа Ц и название сложной стихотворной формы [Лесскис, 1999, с. 103], но и указывает на возможность знакомства Булгакова со статьей «Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля» (1917), где Шкловский пишет, в частности, следующее: «Триолет представляет, по моему мнению, явление весьма близкое к тавтологическому параллелизму. В нем, так же, как и в рондо, прием канонизирован, т. е. положен в основу создания “плетенки” и распространен на все произведение. Эффект триолета отчасти заключается в том, что одна и та же строка попадает в различные контексты, что и дает нужное дифференциальное впечатление» [Шкловский, 1929, с. 37]. Аналогичным образом «магнитный триолет» Шполянского притягивает к себе литературные силы Киева, что описывается у Булгакова с активной неприязнью. Прототип героя постоянно «попадает в различные контексты», «тавтологически» воспроизводя везде одну и ту же поэтику и подчеркивая «параллелизм» жизненных и литературных ситуаций.
Речь Шполянского, представленная в тексте весьма скупо, все же достаточно красноречива, чтобы передать легкость, с которой его прототип определялся в текущей ситуации, страсть к отступлениям, а также цинизм денди, от скуки ввязавшегося в революцию: «Все мерзавцы. И гетман, и Петлюра. Но Петлюра, кроме того, еще и погромщик. Самое главное, впрочем, не в этом. Мне стало скучно, потому что я давно не бросал бомб» [Булгаков, 1966, с. 216][145].
Как большинство современников, особенно противников Шкловского, Булгаков принял СП за искреннюю, достоверную, хотя и несколько самоуверенную книгу о войне[146]. Позиция человека, постулирующего свою принципиальную внеположность происходящим событиям, несмотря на свое в них активное участие, осталась многими незамеченной. Бросилось в глаза лишь раздражающее фрондерство и позерская скука. «Путешественник» Шкловского говорит, что никакой он не социалист, а фрейдовец [Шкловский, 2002, с. 76], дабы подчеркнуть свою равную удаленность от любых идей и четкое понимание причин их распространения. Это подкрепляется и упоминавшейся в главе V метафорой «падающего камня», и повторяющимся мотивом тоски как реакции на хаос, и темой инвертирования искусства и жизни.
Фатализм Шкловского, воспринятый Булгаковым как доказательство душевной пустоты, ассоциирующейся с популярными представлениями о производимом формалистами «выхолащивании» литературы, был сродни романтическому трагизму, конечно, в сниженных и автопародийных тонах. Ирония Шкловского так и не была переведена на язык булгаковской иронии. Естественно, Булгаков менее всего был заинтересован в неподчинении пародируемого персонажа, функция которого – представлять заведомо страдательный залог в грамматике жанра. Возможно, поэтому Шполянский в «Белой гвардии» остается неразвитым персонажем, или «серым кардиналом», редко выходящим на подмостки управляемого им спектакля.
Мнимая гибель, разыгранная Шполянским, является прикрытием, но не для перехода на сторону Петлюры, а для исчезновения в никуда, в своеобразный третий мир, откуда ему предстоит вернуться сначала в роли провозвестника смуты, а затем в роли ее символа. Так, в сутолоке стихийного митинга на главной площади города, занятого Петлюрой, бывший подпрапорщик Щур, доложивший когда-то в штаб Белой армии о гибели Шполянского, уже готовится затянуть с толпой «Интернационал», как вдруг происходит нечто непредвиденное (и типичное для Булгакова-рассказчика): «Черные онегинские баки скрылись в густом бобровом воротнике и только видно было, как тревожно сверкнули в сторону восторженного самокатчика, сдавленного в толпе, глаза, до странности похожие на глаза покойного прапорщика Шполянского, погибшего в ночь на четырнадцатое декабря. Рука в желтой перчатке протянулась и сдавила руку Щура» [Булгаков, 1966, с. 316].
Осторожность воскресшего Шполянского более чем понятна. Не нужно гадать, почему вместе появляются онегинские баки, «бобровый воротник» (который, как известно, «морозной пылью серебрится») и дата декабрьского восстания на Сенатской площади. Не стоит приписывать Булгакову вклад в реконструкцию замысла десятой главы «Евгения Онегина», но здесь очевидно проведение смелой параллели между смутами, в последней из которых «новый Онегин», а точнее, старый индивидуалист Шполянский, тем не менее, переходит на сторону сильнейшего, переворачивая онегинскую модель и превращая никчемное благородство «лишнего человека» в циничную расчетливость.
Завершается тема Шполянского уже цитированным выше бредом турбинского пациента «в козьем меху», «замаравшего» себя когда-то писанием богохульных футуристических стихов и умолявшего Господа избавить его от Шполянского еще до исчезновения последнего. Наслушавшись откровений больного, Турбин наносит визит своей спасительнице Юлии Александровне Рейсс, бывшей возлюбленной Шполянского, имя которой прозрачно отсылает к Ц, книге, имеющей подзаголовок «Третья Элоиза». На столе у Юлии (тезки любимой Шкловским героини Руссо) Турбин замечает карточку Шполянского, осведомляется, кто это, и получает ответ, что это двоюродный брат, уехавший в Москву (по версии турбинского пациента, царство Антихриста).
«Что-то дрогнуло в Турбине, и он долго смотрел на черные баки и большие глаза… Неприятная, сосущая мысль задержалась дольше других, пока он изучал лоб и губы председателя “Магнитного Триолета”. Но она была неясна… Предтеча. Этот несчастный в козьем меху… Что беспокоит? Что сосет? Какое мне дело. Аггелы… Ах, все равно…» [Булгаков, 1966, с. 338–339].
Намек на персонификацию Антихриста в фигуре Шполянского лишен прежних сатирических оттенков. С точки зрения Булгакова, Шкловский ведет себя не просто как носитель чуждых взглядов, но как человек принципиально враждебной культуры или даже антикультуры, представляющей серьезную опасность. Одновременно в романе постоянно развенчивается ореол фальшивого демонизма, создаваемый Шполянским и его окружением. Для Булгакова Шполянский еще не Антихрист, но уже один из тех самых «бесов», которые суть «предтеча», что еще раз подтверждает наблюдения [Михайлик, 2002].
Практически не пересекаясь с кругом Шкловского и получая основную информацию с помощью текстов-посредников, Булгаков, конечно, не имел в виду игру на соотношении далекого и близкого знакомства с личностью прототипа. Это выйдет на передний план уже в романе Каверина. Но, рассматривая феномен Шкловского через удаляющие линзы, Булгаков смог создать законченный образ, чья ценность состоит не в пародийной историзации прототипа, а в мифологизации некоего типа, родившегося после революции носителя новых, неведомых и враждебных категорий. Обыгрывая в начале детали, узнаваемые практически любым образованным читателем, Булгаков пришел к вписыванию нового смысла в найденную нишу литературной личности. Каверин же, напротив, создал роман кружковый, жестко отбирающий аудиторию, но не идущий дальше личных претензий автора к прототипу одного из ключевых героев своего кружкового романа – известного, скандального, запутавшегося и растерянного филолога Некрылова.
Теме «Шкловский – прототип Некрылова» посвящено несколько работ: [Piper, 1969; Чудакова, Тоддес, 1981; Shepherd, 1992; Erlich, 1994]. Их наличие избавляет от необходимости останавливаться на деталях, формирующих образ Некрылова, и позволяет обратиться к стратегии, которую взял на вооружение Каверин. В отличие от Булгакова как приверженца классического романного повествования Каверин как типичный «Серапион» и западник широко пользуется вновь полученным правом автора действовать в сюжете наравне со своими героями. Его ранняя повесть «Хроника города Лейпцига» (1922) следует советам персонажей, а неопубликованное вступление к «Концу хазы» (1923) отсылает к мнимым фактам общения автора с героями. Что же касается романа «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове» (1929), то он был задуман как аргумент в реальном споре между Кавериным и Шкловским, убежденным в невозможности написания полноценного романа в период господства «младших жанров». Каверин же, пытаясь развернуто доказать противоположное, даже много лет спустя не уставал повторять, что его целью было доказать возможность и успешность романа в эпоху его конца, провозглашать который так нравилось некоторым критикам [Каверин, 1997, с. 40]. Одним из этих некоторых, если не самым главным, был, разумеется, Шкловский, чья книга «Третья фабрика» послужила месторождением цитат для «Скандалиста».
«Театр марионеток», типичный для Каверина-неоромантика [Чудакова, Тоддес, 1981, с. 173], быстро обнаружил свою вторичность и потребность в апелляции к ближайшему жизненному материалу. Его начинает вытеснять принцип «создания характера». В частности, роман становится возможен только в том случае, если его структуру организуют персонажи, адекватно воспринимающие его романные признаки. Сколько бы Шкловский, по мнению Каверина, ни просился в роман, его собственная литературность все равно будет богаче литературности текста, его приютившего. Это следствие заведомой установки протагониста, спорадически возникающего уже в ранних статьях Шкловского и окончательно оформившегося в прозе 1923 г. Отсюда ни в коем случае не вытекает пейоративная оценка «Скандалиста», в котором ранние стилистические принципы мастерски «переводятся» на язык пародийного романа. Некрылов хоть и действует в пародийном контексте, но сам пародией не является. Внетекстовая мотивация не преодолевается внутритекстовой мотивировкой: реальные претензии Каверина к Шкловскому заслоняют возможность их игрового воплощения в отношения повествователя и Некрылова. Исключение составляет лишь встреча сюжетных линий Некрылова и студента Ногина, которого Каверин сделал своим поверенным в романе, наделив автобиографическими чертами (увлечение немецкими романтиками, занятия арабистикой, первые прозаические опыты). Каверин один раз на протяжении всего действия переключает внимание с самого Некрылова на внутрисюжетную ситуацию. В остальном же Некрылов – словно роман в романе. Его фигура совершенно самодостаточна и не вписана в текст до конца, что отражает оторванность его прототипа от литературы и нацеленность на конструирование собственной биографии.
Личные счеты дают о себе знать с первым появлением героя, чей прототип имеет заведомо неважное реноме. «Со времени первой книги, которой исполнилось уже пятнадцать лет, его больше всего тяготило то обстоятельство, что его имя – Виктор Некрылов – выглядело плохим псевдонимом. <…> Покамест ему удавалось легко жить. Он жил бы еще легче, если бы не возился так много с сознанием своей исторической роли. У него была эта историческая роль, но он слишком долго таскал ее за собой в статьях, фельетонах и письмах: роль истаскалась, начинало казаться, что у него ее не было. <…> Его нельзя было назвать фаталистом. Он умел распоряжаться своей судьбой. Но все-таки в фигуре и круглом лице его было что-то бабье» [Каверин, 1977, с. 283].
Откровенно апеллятивный характер (в том числе злободневность) пассажей, посвященных Некрылову, практически стирает границу между героем и прототипом. Инсценировав бунт материала против условности, Каверин пародирует Шкловского так точно и узнаваемо, что теряется эффект снижения.
Некрылов не просто говорит, но делает это в сопровождении авторской оценки с момента своего появления в купе скорого поезда, везя под головой свои книги которые «никогда не получат ученой степени в университете» [Там же, с. 245]. Такой подход заметно контрастирует с общей установкой «Скандалиста» на ироничное, местами безжалостно-сатирическое письмо. Например, эпизод, описывающий присутствие профессора Ложкина на докладе своего ученика в исследовательском институте и гротескно, с показной жестокостью описывающий нелепых, впавших в маразм ученых стариков: «Едва начался доклад, как все уже спали. Все!
Даже те, которые еще красили усы и считали себя молодыми. Как будто сонный ветер раскачивал над круглым столом эти седые, полуседые и лысые головы. Гном, закрыв единственный глаз, откровенно храпел носом. Вязлов тихо дремал, опершись кулаками на палку, подбородком опершись в кулаки. Жаравов, как нищий, мотался над столом, мощно сопя, шлепая губами. Рыхлый, похожий на бабку незнакомый старик-хохотун беззаботно улыбался во сне и чмокал губами воздух.
И только Ложкину не спалось. Он невольно прослушал часть доклада. Заслуженный, но растерявшийся историк литературы с наигранной уверенностью убеждал, что все гоголевские типы делятся на небокоптителей чувствительных, небокоптителей рассудительных, небокоптителей активных и небокоптителей комбинированных» [Там же, с. 265–266].
Пародийность романа, на фоне которой выделяется почти прямое цитирование литературной личности, созданной Шкловским в автобиографических повествованиях (имеется в виду «Третья фабрика»), особенно подчеркивается фигурой Драгоманова. В нем встретились черты друзей и коллег Шкловского, которые, по мнению Каверина, оставили его наедине со своей биографией. У Поливанова были позаимствованы гениальность ученого-лингвиста, пристрастие к опиуму и безрукость, трансформированная в хромоту; у Тынянова – несогласие с халтурами и стремлением «уступить давлению времени»; у Эйхенбаума – имя (Борис) и обостренное «чувство истории»[147].
Впрочем, из всех аллюзий откровенно комична лишь отсылка к Роману Якобсону, отличавшегося, как известно, заметным косоглазием: «Борис Драгоманов смотрит на меня одним глазом, – говорит Некрылов на вечеринке, устроенной по случаю его приезда. – Другой он оставил в резерве. Он шутит» [Там же, с. 313]. Эта вечеринка и предшествующий ей литературный вечер, в котором спонтанно участвует Некрылов, является контрапунктом романа, стягивающим линии внешнего конфликта Некрылова с литературной средой и его внутреннего конфликта с Драгомановым. Здесь в исполнении одного из подвыпивших аспирантов звучит шуточное стихотворение, репрезентирующее одновременный комизм и трагизм Некрылова и тем самым обнажающее цель несмешной пародии на Шкловского.
Как замечают авторы статьи о прототипах романа, «“человеческие судьбы” и “личные отношения” в “Скандалисте” включены в литературный быт, но он дан не как у самого Шкловского, шедшего за Розановым, а именно как быт в традиционном социально-психологическом романе» [Чудакова, Тоддес, 1981, с. 177]. Каверин повел себя по отношению к Шкловскому в духе теории «литературных отталкиваний» Ивана Розанова, чьи принципы были через пятьдесят лет независимо сформулированы и развиты Харольдом Блумом в его классической работе «Страх влияния» (1973). Для автора «Скандалиста», погруженного в атмосферу литературности, опыт возвращения к традиционному психологизму был бунтом против сформировавшегося в его сознании формалистического канона.
Каверину не удалось представить Некрылова иначе, как героя плутовского романа, на метауровне «продергивающегося» через сюжет и служащего единой мотивировкой его развертывания[148]. Раздражение Каверина растет по мере того, как текст, призванный высмеять героя, начинает обнаруживать зависимость от концепций его прототипа. Сыграла свою роль, вероятно, и память жанра, предписывающая герою плутовского романа выходить из любой затруднительной ситуации победителем. Другими словами, «эксцентрический герой» ранней прозы Каверина находит в «Скандалисте» свое наиболее осмысленное воплощение, встретив в Шкловском идеальное соответствие своей интеллектуальной сделанности [Костанди, 1987, с. 178].
Если Булгаков имел консервативный литературный вкус и наблюдал за современными течениями без особой симпатии (что в случае Шкловского усугублялось причастностью к киевским событиям), то Каверин проявил себя как разочаровавшийся ученик, уязвленный покровительственным отношением учителя и не сумевший отойти от обиды на необходимую дистанцию. Тема превосходства Шкловского, послужившего толчком к написанию «Скандалиста», становится для Каверина частым мотивом его многочисленных мемуарных книг, во многом повторяющих одна другую. Трудно сказать, насколько в этих самоповторах сказалось прямое влияние Шкловского, косвенное – со стороны Лидии Гинзбург или кого-нибудь еще. Мемуарному тексту свойственно недооценивать свои литературные возможности: так и Каверину-мемуаристу Шкловский представляется живым человеком (чуть-чуть не дотягивающим до вересаевского «Пушкина в жизни»), претензии к которому трансформируются, но не устаревают и не исчезают. Как справедливо замечает автор монографии о русской метафикции XX в., для позднего Каверина 1980-х Не Крылов окончательно слился со Шкловским и словно бы уступил ему свое место в романе, в результате чего реальный Шкловский вновь оказывается чисто фикциональным звеном, следствием обратной проекции романа на жизненный материал [Shepherd, 1992, р. 134].
Наряду с демонизацией и снижением персонажа в ряду примеров репутации Шкловского выделяется также чистая травестия, которая по своей природе ближе всего декларируемой самим Шкловским «внежалостности» искусства. Портрет Шкловского, выведенного Ольгой Форш в «Сумасшедшем корабле» (1931) под фамилией Жуканец, – это также портрет-конструктор, собранный из прямых или косвенных аллюзий на тексты своего прототипа. Учитывая год выхода романа, эта стилистическая игра выглядит вызывающе литературной, цеховой, а стало быть, несвоевременной. Форш избегает дежурных, замешанных на идеологии упреков по адресу своего героя. В фабульном времени эти речевые фрагменты, играющие «уликовую» роль, оказываются анахронизмами. Несмотря на то что в романе идет речь о временах военного коммунизма, совпавшими с расцветом ДИСКа, речь Шкловского-Жуканца наводнена отсылками не только к «развертыванию сюжета», но и к более поздней автобиографической прозе, и критике ЛЕФа. Автор вкладывает в речь персонажа то, что его прототипу еще предстоит сказать. Поспешность и противоречивость высказываний персонажа – следствие собирательной речевой маски. Этот диахронический портрет как нельзя лучше передает свойственную Шкловскому манеру перебивать самого себя (в том числе перекраивать когда-то сказанное).
Говорящая фамилия Жуканец не оставляет сомнений в том, что автор не слишком симпатизирует прототипу. Проворный жук отягощен суффиксом, актуализирующим эмоционально заряженные понятия от «молодца» до «засранца» включительно, и их карнавальная неразличимость здесь вполне принципиальна. «Юный» Жуканец сидит в своей комнате, естественно, «с малынтоком в руках» [Форш, 1988, с. 79]. Это намек на пребывание Шкловского в учениках скульптора Леонида Шервуда, причем явно маркирующий западничество первого (варваризм «малынток» вместо «кисть»). Тут же всплывает и другая линия: «Сохатый, я сердечный банкрот!», – восклицает герой, заставляя вспомнить ламентации Ц и укрепляя читателя в этом воспоминании дальнейшими жалобами о потере жилплощади в результате неудачного романа. Автор муссирует мотив символической схватки футуристов с Блоком, к которой Шкловский имел более чем косвенное отношение. Для Форш главное – это показать, насколько Шкловский и персонифицированный в его фигуре формальный метод близок русскому нигилизму: «Вырастая в полосе восприятий романтического, аналогичной той, когда молодой человек Писарев бранил Пушкина, Жуканец разбирал “сюжетно” и там, где сюжет был несказуем и в попытках его оформления зиял пустым местом» [Там же, с. 86].
Жуканец – Фауст пореволюционного мира, раздвоенный и не вполне понимающий себя. Его явная приверженность лозунгам производственного искусства уживается со скрытой, едва заметно выраженной тоской по романтической любви, умершей вместе с Блоком. «С ним кончилась любовь. Будут, конечно, возвращения, но так воспеть, как воспел ее он, никто уже не сможет и… не захочет воспевать. Эта страница закрыта с ним навсегда. И еще скажу – прочитанная вашим поколением поколению нашему она уже совсем не зазвучит» [Там же, с. 90]. Выраженная затем Жуканцем твердая уверенность в том, что все заменит коллектив, оказывается не столь уж твердой за счет этого «так» и мнущейся паузы между «сможет» и «захочет».
В продолжение актуальной для Шкловского-персонажа любовной темы в романе возникает аллюзия на неофициальный гимн ОПОЯЗа, который Каверин приводит в «Скандалисте»: «Любовь, как всякое явленье Я знаю в жанрах всех объемов, Но страсть, с научной точки зренья, Есть конвергенция приемов…» [Каверин, 1977, с. 316]. В игру намеками вовлекается предыдущий текст-посредник: «Любовь как личная склонность примет иную форму, и сила ее будет, не разрушая, не поглощая, только множить собою тонус жизни» [Форш, 1988, с. 91]. Здесь очевидна отсылка к витализму, который в своей упрощенной интерпретации сыграл большую роль в становлении мировоззрения формалистов.
В финале «Волны шестой» (главы романа названы «волнами») автор резко выводит повествование в плоскость настоящего, вновь обнаруживая себя в лучших традициях излюбленного Шкловским метаромана. Более того, это уже не просто метароман, его в незаконченном виде застает врасплох и начинает читать собственный персонаж. «Амба! – хлопнул на этом месте Жуканец по столику кулаком, пробегая черновик “Сумасшедшего корабля”» [Там же, с. 98]. Форш использует прием исторического контраста: «Жуканец уже больше не юный. Он издает свой том пятый, он прославлен, мастит». Это ироничная отсылка одновременно к двум книгам Шкловского: «Пять человек знакомых», целиком посвященной современной литературе, и «Гамбургский счет», пятой в ряду «кентаврических» книг Шкловского. Далее следует пассаж в духе рекламного клише, обыгрывающий поденную работу Шкловского в киноиндустрии: «Кто желает в наше сегодня, пожалуйте, скушайте символ-викторину. Вот он, послушайте-с! В антрактах культур-фильма “Научэкспедиция в тайгу” его распевают мальчишки».
Провозглашенная формалистами ориентация на биографию и проблему «как быть писателем» невольно подрывается описанием Горького в «Волне седьмой»: «Крупный, своенравный человек, он не хлопотал о собственной биографии» [Там же, с. 99]. Для Жуканца, который также больше печется о своей
биографии, а не о предмете занятий, «целая лекция по русской литературе» – это «скучно» [Там же, с. 114]. Захватывающие, писаные по другому поводу и вложенные в уста Сохатого слова о петербургском периоде русской литературы вызывают у него комичную реакцию: «Нет, я больше вместить не могу. <…> Давай заключение». В совокупности все это образует настоящий водоворот почти неупорядоченных, крепко увязанных с синхронной литературной ситуацией аллюзий. Буквальная реализация идей коллажа и варьете, выдвинутых прототипом Жуканца в Ц, доходит до гротеска и самопародии. Впрочем, этот буквализм далек от развенчания прототипа, скорее, речь идет о сгущении литературной мифологии, что еще было возможно на заре 1930-х годов.
Литературная репутация Шкловского в период расцвета и кризиса формальной школы – пример тесного взаимодействия литературы и быта, получающего в это же время теоретическое освещение в трудах первого и второго поколения петербургских формалистов (о нем подробнее см. главу XII). Так же как конструктивный принцип новой литературной формы создается за счет ошибок, выпадений системы из режима нормального функционирования, «литературная личность» сначала проступает как отклонение, объект высмеивания и носитель сатирического гротеска, который задним числом переосмысляется как доказательство влиятельности и мифогенности реального человека – прототипа литературной личности. Шкловский не дирижировал русской литературой 1920-х годов, но оказался лидером по части раздраженного интереса к своей персоне, которую так легко превратить в персонаж, тем более после СП и Ц, где граница между документом и фикцией пришла в движение, а главный герой был тем «падающим камнем», который освещал себе путь. Писателям, шедшим в фарватере Шкловского, оставалось только ввести «говорящее» имя и типологически узнаваемое поведение. Литературная репутация тянулась вслед за Шкловским в ответ на им же придуманную литературную личность.
Шкловский-персонаж остается в литературе и после выхода формальной школы из поля литературной современности. Но время Шкловского в этих текстах всегда одно и то же – это годы войны и революции, ранних статей ОПОЯЗа, литературной борьбы и острой полемики первой половины 1920-х годов. В пародийной, цитатной, насыщенной как общими местами, так и нестандартными контекстами «Повести о пустяках» (1934) Бориса Темирязева (псевдоним Юрия Анненкова) прослеживается путь авторского alter-ego Николая Хохлова из революции в эмиграцию. На этом пути ему (и читателю) пару раз попадается «крутолобый Толя Житомирский», не герой даже, но яркий и тотчас узнаваемый статист. Он комментирует «Воззвание к русскому народу» Николая II: «Стиль определяет собой содержание. <…> По существу, безразлично, что в данном случае подлежит анализу: этот идиотский манифест, Дон Кихот Ламанчский или “Тристрам” Стерна. Мы объявляем новый метод анализа, построенный…» [Анненков, 2001, с. 75]. Здесь используется уже упоминавшийся риторический обрыв – любимый самим Стерном апосиопезис, скрывающий за многоточием то, что требуется отгадать. Этот прием дополнительно структурирует отсылку к расхожим цитатам из ранних работ Шкловского. Его заместитель в повести Анненкова появляется еще несколько раз в качестве корреспондента главного героя и автора филологических брошюр, изданных в пореволюционном Петрограде. Правда, к этому моменту Житомирский как бы невзначай превращается в Виленского, Анненков множит аллюзии на еврейские местечки в западных губерниях. Завершенность исторического этапа обеспечивает условия для панорамного взгляда и меняет его масштаб. Вследствие этого Шкловский теряет черты, характерные для актуальной полемики. Его заместитель в тексте – это лишь яркий фрагмент исторической мозаики.
Новейшая русская литература продолжает вдохновляться драматическими событиями первой половины XX в. В романе Дмитрия Быкова «Орфография» (2003) в условно-фантасмагорической форме, наследующей цитатному модернизму Юрия Анненкова, рассказывается о революционном Петрограде рубежа 1910-1920-х годов. Быт, идеи, события даны через собирательного героя по имени Ять – символа старого мира, разом отмененного революцией и реформой орфографии (для Ятя последняя, конечно, куда более волнительна, чем любая революция). Десятки страниц объемистого романа, чей жанр сам автор определил как «опера», посвящены филологу Льговскому (привет Житомирскому и Виленскому). «Маленький, крепкий, лысый, весь в черной коже» [Быков, 2003, с. 268], Льговский создавал интересные теории, правда, «без божества, без вдохновенья» [Там же, с. 96]. Ять так и не осилил его статью «Проблемы структуры» (чего – не важно), но с неизменным интересом слушал его выступления в различных обществах и на диспутах, мастером которых Льговский заслуженно слыл. Об истории литературы он отзывается с узнаваемым пренебрежением. От эпохи революции ничего не останется так же, как от эпохи Ломоносова. «Да и мало фактов уцелеет, – говорил он, блестя глазами и посылая в разных направлениях заговорщицкие улыбки. – Никто не пишет прозы, и хорошо, если от этой эпохи останутся хотя бы дневники. Ведите дневники, это литература будущего! Проза действительно сейчас бессильна, ее напишут нескоро. Нельзя уже написать “Иван Иванович пошел”, “Антон Антонович сказал”… Мера условности превышена» [Там же, с. 123]. Быков намеренно радикализирует ориентацию Шкловского на современность. Его персонаж целиком принадлежит настоящему и часто говорит о будущем, беря за основу ранние тексты прототипа «Искусство как прием» и «Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля» и постоянно срываясь в полемику: «Льговский не очень понятно заговорил о том, что комический эффект продуцируется в таких стихах помимо авторской воли и возникает по принципу средневекового карнавала, когда на место сакрального символа помещается символ непристойный. Он заметил также, что поэзия вообще не для чтения, не для услаждения приказчиков. <…> Поэзия существует для изучения» [Там же, с. 128–129]. Успевая всюду, как Шполянский у Булгакова, этот человек несколько анахронично организует в Петрограде кружок «Левей!» (ЛЕФ появится чуть позднее) и делает все, чтобы оставаться «знаком-Льговским, а не приват-доцентом Льговским» [Там же, с. 162], – намек на хроническое взаимное отторжение Шкловского и академической науки. Это и есть эпоха, удачно воплотившая свою энергию, вкусы, идеи, слова и жесты в одной фигуре. Ять не устает поражаться его мозаичному и парадоксальному мышлению, упоминая и крылатые формулы героя, и создателей его репутации – учеников и конкурентов, прямо указывая на Каверина: «Слово воскрешалось за счет низких жанров; высокого и низкого больше не было. Пафос не работал; работали ирония или полный наив. Еликберг говорила об этом подробнее, Льговскому было скучно развивать собственные теории. Он их раздаривал. Крошка
Зильбер смотрел ему в рот и все записывал, чтобы потом писать о Льговском гадости» [Там же, с. 585].
Литературная репутация Шкловского – следствие его собственной установки на слияние с литературой. Он не существует вне текста ни как бытовая, внесистемная единица, ни, тем более, как историческое лицо. Универсальный механизм пародии в большинстве рассмотренных текстов был средством усложнения критической рефлексии и одновременно способствовал созданию мифа о персонаже, научившемся не только описывать себя, но и программировать свою литературную репутацию.
Часть третья
Борис Эйхенбаум. Поиск себя в истории литературы
IX. Конструирование биографии. От устройства текста к строительству быта
В 1929 г. недавний студент восточного отделения Ленинградского университета Вениамин Каверин выпустил дебютный роман «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове». В нем описывался ближайший круг молодого писателя – университетская и писательская среда, в первое пореволюционное десятилетие переживавшая бурный творческий расцвет. Ключевым персонажем романа был выведен Виктор Некрылов, переехавший в Москву ленинградский литератор, некогда влиятельный глава новой критической школы, мастер эпатажа и реформатор науки о литературе, а ныне генерал без армии, претендующий на лидерство, но слабый, запутавшийся, охваченный кризисом среднего возраста. В этом противоречивом виде Каверин вывел Виктора Шкловского, с которого началась так называемая формальная школа в русском литературоведении. Общество изучения поэтического языка (ОПОЯЗ) под началом Шкловского обратилось к строению словесного текста и средствам его выразительности, отдаляясь от академической истории литературы с ее путаными основаниями, стихийным психологизмом и биографическими спекуляциями. «Академики» отвечали «формалистам» высокомерной неприязнью, за которой маячила тоска по утраченному покою и страх перед небездарной и небезопасной молодежью.
Каверин достоверно воспроизводит это настроение: «…своим делом формалисты занимались с неприятной поспешностью, с мальчишеской развязностью и непостоянством. Мальчишки, которым революция развязала руки! Еще не справившись с магистерскими экзаменами, они меняли историю литературы на – смешно сказать! – синематограф. Слабые, но, быть может, не безнадежные теоретические рефераты они бросали для болтовни, для беллетристики. Они писали романы. Даже, кажется, стихи?» [Каверин, 1977, с. 255–256]. Для «традиционных» ученых, которых отчасти придумали сами формалисты, чтобы было с кем сражаться и от борьбы с кем подзаряжаться, они были «людьми падшими, покинувшими привычный, надежный академический круг для жизни бродячей, развратной, беспокойной» [Там же, с. 256]. Здесь еще один сквозной персонаж повествования профессор Ложкин, размышлявший в этом академически-охранительном ключе, вдруг задумывается: а кто же, собственно, падший? Ему припоминаются «тонкое лицо, пенсне, седеющая бородка, нет, теперь он, кажется, сбрил бородку и очень похудел, не так давно встретил его в трамвае…»
Недавний обладатель знаковой «ученой» бородки – это, вероятно, самый академичный среди формалистов, Борис Михайлович Эйхенбаум. Сын воронежского врача и несостоявшийся врач, одаренный музыкант-любитель, он поступил в 1907 г. на славяно-русское отделение университета, сблизился с германистами, но в результате защитил в 1917 г. диссертацию по русской литературе. Его первая печатная работа «Пушкин-поэт и бунт 1825 года» вышла в первом номере журнала «Вестник знания» за 1907 г. В то время Эйхенбаум еще числился студентом Военно-медицинской академии. Инициатором публикации, на пять с лишним лет опередившей регулярную писательскую практику, стал двоюродный брат автора Михаил Лемке. В 1909 г. Эйхенбаум бросил музыкальную школу и начал изучать словесность. С 1912 г. его критические заметки появляются в журналах «Запросы жизни», «Северные записки», «Заветы». В январе 1914 г. Эйхенбаум познакомился с кругом акмеистов. Это вылилось в многолетнее увлечение и еще одно основание противопоставлять прогрессивных петербургских филологов 1910-1920-х годов москвичам, ориентированным на футуристов, несмотря на петербургского «футуриста» Шкловского [Кертис, 2004, с. 82]. Уже в формалистскую пору эта связь отразилась в книге «Анна Ахматова. Опыт анализа» (1923). Примечательно, что через месяц после этого знакомства Эйхенбаум отправляется на диспут в Тенишевское училище, ознаменовавшийся футуристическим скандалом. В письме к отцу Эйхенбаум изложил свои отрицательные впечатления. В частности, отметил появление «маленького приземистого студента с широкой черной головой, большим ртом и грубым голосом» [Чудакова, Тоддес, 1987, с. 12]. Это был Виктор Шкловский, в недалеком будущем ближайший друг Эйхенбаума. Если Шкловский пришел в науку, чтобы мыслить ее в формах революции, то Эйхенбаум вскоре принял революцию, с расстановкой преодолевая предрассудки и рефлектируя каждый свой шаг, признавая неизбежность преобразования в первую очередь для собственной биографии.
Профессор Ложкин в романе «Скандалист» не случайно вспоминает пенсне и легкую седину одного из «падших». Остальным членам ОПОЯЗа Эйхенбаум годился в старшие братья. Ему было 32 года, когда вышла его программная для формального метода статья «Как сделана “Шинель” Гоголя» (1918). Основателю школы Виктору Шкловскому было тогда 25, еще не присоединившемуся Юрию Тынянову – 24, еще не уехавшему за границу Роману Якобсону – и вовсе 22 года. Вдобавок, и это намного важнее биологического возраста, Эйхенбаум начинал как дореволюционный критик, серьезно увлекавшийся Николаем Лосским и Семеном Франком, озабоченный миссией культуртрегерства, испытавший большое влияние яркой книги молодого Виктора Жирмунского «Немецкий романтизм и современная мистика» (1914). Это был тип если не академический, то интеллигентский, понятный академикам и обитающий в том же пространстве. Встреча со «скандалистом» Шкловским нарушила это внешне предсказуемое течение, и случайность обернулась предопределением. В 1922 г. Эйхенбаум подытоживает свое отречение от устаревшей парадигмы: «Интеллигентская критика и интеллигентская наука стали одинаково оцениваться как дилетантизм» [Эйхенбаум, 1921 (b), с. 14].
В этом смысле показательны отношения Эйхенбаума с Виктором Жирмунским – блестящим, но традиционно академическим германистом, чьи симпатии к формалистам не простирались далее признания их близости немецкой теории литературы. В начале 1922 г., в процессе подготовки к публикации в берлинском издательстве Зиновия Гржебина книги «Молодой Толстой» Эйхенбаум записал в дневнике: «В сочельник (6-го) был у Жирмунских. Благодушно и сентиментально (жена), но перед уходом, в передней, заговорили о главном. Он в душе озлоблен, оскорблен. Называл меня “сектантом”, упрекал в придирчивости к мелочам, говорил прекраснодушные фразы о “вечных ценностях” и т. д. <…> Думаю, что совсем разойдемся – и может быть, скоро» [Эйхенбаум, Дневник, 244, 59]. И уже через месяц, 2 февраля 1922 г., следует красноречивая запись: «наша ревтройка (Тынянов, Шкловский и я) выступает 9-го в Инст. жив. слова о Некрасове, а 19-го – в Вольфиле о Пушкине». Показательна риторика, отражающая актуальную терминологию («ревтройки» были главными инструментами «красного террора» 1919–1921 гг.) и боевой дух новой научной школы. Остается добавить, что уже в марте 1922 г. Шкловский вынужден бежать за границу от революционного правосудия, добравшегося до левоэсеровской оппозиции. Таким образом, обстановка вокруг формалистов была боевой не только в переносном смысле.
Осознаваемая, хотя и не всегда управляемая реализация метафоры сопровождала формалистов на всем протяжении их профессиональной и обыденной жизни. Перспективу взаимных и непосредственных проекций между теоретическими концепциями и жизнью задала, безусловно, революция, которую и после исчезновения советской утопии с карты мира продолжают считать ключевым событием XX в. [Хобсбаум, 2004, с. 67]. Виктор Шкловский в мемуарной книге «Сентиментальное путешествие» (1923) писал: «Эйхенбаум говорит, что главное отличие революционной жизни от обычной то, что теперь все ощущается. Жизнь стала искусством» [Шкловский, 2002, с. 260]. Эта фраза датирована более или менее точно весной 1922 г. Заканчивая примерно той же датой краткие мемуары, которые вошли в итоговую для периода 1920-х годов книгу «Мой временник» (1929), сам Эйхенбаум пунктирно намечает вехи своего перерождения: «Октябрьский переворот. Голод, холод, смерть сына. Жизнь у окопной печки. <…> Виктор Шкловский, остановивший меня на улице, Юрий Тынянов, запомнившийся еще в Пушкинском семинарии. ОПОЯЗ. Это все были исторические случайности и неожиданности. Это были мышечные движения истории. Это была стихия. Настало время тратить силы» [Эйхенбаум, 2001 (а), с. 59–60]. «Ощутимость» – важнейшее понятие в теории остранения, выдвинутой Виктором Шкловским на этапе зарождения формальной школы. Это ли не признак непривычного для дореволюционной науки «практицизма» теории, ее прямой обусловленности повседневной жизнью? Последняя по причине своей катастрофичности видится более литературной, чем сама литература.
Предпочтение проблем технологии и морфологии произведения, поисков ответа на вопрос, как оно «сделано», были связаны не только и даже не столько с жаждой научного реформаторства, сколько с поисками языка, который был бы адекватен новому режиму существования. Реальность как будто «ушла вперед», обнаружила резкое расширение художественного поля и превращение в искусство и литературу того, что ранее могло не всегда распознаваться как культурный продукт (в этом смысле объясним всплеск таких практик, как скетчи агитпоездов, плакаты РОСТА, пролетарская календарная поэзия и разнообразная «переписка из двух углов»). Догнать эту реальность означало сменить оптику, провозгласив основополагающими те идеи, которые до революции казались периферийными[149]. Нет сомнения, что проблемы технологии, полемически поставленные в ранних изданиях ОПОЯЗа – «Сборниках по теории поэтического языка» (1916–1921), должны были вскоре вылиться в очередную постановку вопроса о литературной истории. Об этом размышлял Тынянов в программной работе 1924 г. «Литературный факт». Та же логика руководила Эйхенбаумом, который после статьи «Как сделана “Шинель” Гоголя» обращается уже не к выразительным приемам, а к самому ходу писательской работы[150]. Начиная с 1918 г. формируется его интерес к Льву Толстому, чья биография позволит вскоре представить литературу как труд. Уже в книге «Молодой Толстой» (1922) реконструкция процесса письма в контексте повседневности писателя и эволюции его мировоззрения будет отчетливо доминировать [Any, 1994, р. 57–58].
Среди своих друзей-единомышленников Эйхенбаум единственный занимался систематическим изложением основ, отвечал за методологическую рефлексию. Тому способствовали его дореволюционные увлечения: немецкая классическая философия, эстетика романтиков, «интуитивизм» Семена Франка [Кертис, 2004, с. 87–104], а также «витализм» Анри Бергсона (см. главу II настоящей книги). Иначе говоря, Эйхенбаума отличало возникшее на предыдущем этапе интеллектуального взросления тяготение к фундированным взглядам, какими бы радикальными они ни были. Выше уже упоминалось выступление Эйхенбаума в 1922 г. на заседании Вольной философской ассоциации с докладом о новых подходах к изучению художественного слова. Развитие его положений продолжалось в течение 1923 г., что отразилось в статье «Вокруг вопроса о формалистах», с которой Эйхенбаум принял участие в дискуссии о формализме и марксизме, организованной редакцией журнала «Печать и революция» в № 5 за 1924 г. Еще через год в словесном секторе Института истории искусств Эйхенбаум прочитал доклад, который лег в основу широко известной статьи «Теория формального метода» (1926). В ней Эйхенбаум в намеренно тенденциозных формулах изложил исходные принципы нового знания о литературе и логику их изменений. «Мы должны были разрушить академические традиции и ликвидировать тенденции журнальной науки… основной пафос нашей историко-литературной работы должен был быть пафосом разрушения и отрицания… Нас интересует самый процесс эволюции, самая динамика литературных форм, насколько ее можно наблюдать на фактах прошлого. Центральной проблемой истории литературы является для нас проблема эволюции вне личности – изучение литературы как своеобразного социального явления» [Эйхенбаум, 1987, с. 402–405].
В кратком введении к этой обзорной работе Эйхенбаум диагностирует связь русского формального метода с западноевропейским искусствознанием, в частности с «историей искусства без имен» Генриха Вельфлина – одного из самых значительных теоретиков венской школы. Нетрудно заметить сходства между этим известным понятием и «эволюцией вне личности», которая является историей литературы, представляющей «не столько особый по сравнению с теорией предмет, сколько особый метод изучения литературы, особый разрез», как писал Эйхенбаум в «самоанализе» формальной школы [Там же, с. 406; курсив автора. – Я.Л.].
Вскоре Михаил Бахтин поможет Павлу Медведеву развернуть его заметку «Ученый сальеризм» (1924) в книгу «Формальный метод в литературоведении» (1928), где с раздражением обрушится на формалистов, безосновательно противопоставляющих себя европейскому оригиналу. Критика Бахтина воспроизведет общие места формалистской репутации, в частности их пресловутое равнодушие к идеологии, непростительное на фоне движения их венских предшественников «к высшей конкретности в изучении художественной конструкции» [Медведев, 2000 (b), с. 232]. Не уточняя, в чем специфика «высшей» конкретности, оппонент и конкурент формалистов выступит со своими инвективами уже после того, как члены формалистского кружка решительно обратятся к литературной социологии, а в более широком смысле – к истории идей, бытующих в формах литературы.
Этой трансформации способствует, в первую очередь, наблюдение над «литературным сегодня» (под таким названием в начале 1924 г. выходит статья Тынянова, с редкой точностью расставившая акценты литературного ландшафта). Если Шкловский уходит с головой в журнальную критику и киносценарии, то Эйхенбаум и Тынянов, оставшиеся в Ленинграде со своими учениками и кабинетной работой, осуществляют разовые, но всякий раз знаменательные рейды в критику. Излишне говорить, насколько трудно было Эйхенбауму-критику донести свою четкую, интеллектуально выдержанную позицию до незрелой и поспешной аудитории, настроенной отнюдь не на толерантное принятие или, по крайней мере, корректную полемику. Путь журнальной критики сквозь 1920-е годы – путь от многообразия и творческого вызова к единому стандарту и автоматизму. Но для середины десятилетия участие Эйхенбаума в актуальной полемике естественны. Еще живы привычки к открытому диалогу и публичной ответственности за свое дело.
В рецензии на «Москву» Андрея Белого (1926) Эйхенбаум переворачивает истертую тогдашней журналистикой категорию «социального заказа», дерзко оставляя литературе право на внутренний заказ, не зависящий от читательского и «даже государственного» [Эйхенбаум, 1987, с. 425]. Рецензия кончается риторическим вопросом, который мог послужить эпиграфом к собственным поискам автора: «анкета или история?» [Там же, с. 426]. Анкета – служебный список достижений, чья условность предписывает вытеснить человека за рамки выполняемых им функций. История же, напротив, неотделима от человека, это культурно-антропологическая категория. Она не подчиняется линейной каузальности, а «образуется простым фактом смерти и рождения», как неожиданно будет замечено в 1929 г. в мемуарной части «Временника» [Эйхенбаум, 2001 (а), с. 50]. Поддержка «сомнительного» писателя-попутчика, высказанная Эйхенбаумом, вызвала резкую критику со стороны Иннокентия Оксенова, призвавшего различать «простые вещи». Их Эйхенбаум поминает в заголовке заметки, которой реагирует на выпад «служилой» критики. Будучи в отличие от своего оппонента искушенным в деталях и риторике, Эйхенбаум переносит акцент с простых вещей на «азбучные истины», которые чаще всего сводятся к тому, что о литературе судят люди, не имеющие к ней отношения. Позер и скандалист Виктор Шкловский прямо говорил: «Разве я возражаю против социологического метода? Ничуть! Но пусть это будет хорошо!» [Гинзбург, 2002, с. 31]. Столь же театральный в своей старорежимной учтивости Эйхенбаум вскоре выберет демонстративный эскапизм, предприняв неудавшуюся попытку реформировать метод с учетом новой актуальности.
Весной 1927 г. в центральном печатном органе РАППа – журнале «На литературном посту» – выходит статья Эйхенбаума «Литературный быт». Это продуманная вылазка на «чужую» территорию. Ведь именно пролетарская критика все активнее солидаризуется с «академической» неприязнью к формалистам, абсолютизируя свой мелкобуржуазный вкус. Эйхенбаум настаивает на открытой полемике, хотя понимает, что сам факт принятия его статьи в такой журнал заслуживает уважения. История публикации начинается с заявки на книгу «Литературный труд», которую Эйхенбаум составил осенью 1925 г. под впечатлением от разговоров со Шкловским, начавшихся летом 1924 г. Их общий смысл сводился к тому, что формалистам нужно начинать работать по-новому. К этому времени уже готова статья Тынянова «Литературный факт», ознаменовавшая начало новой фазы в истории школы. Работа, к которой планирует приступить Эйхенбаум, должна быть «о другом (не о поэтике), быть «свежей» (т. е. вводить новый материал и быть неожиданной по языку) и в то же время отклониться от «чистых и высоких» (т. е. чисто теоретических) тем (но по-прежнему противостоять элементарным утверждениям о прямой социальной обусловленности)» [Чудакова, 2001 (а), с. 437]. В этот период с особенной (и предельно осознанной) силой проявился диалогический характер формалистского теоретизирования, о чем свидетельствует участившаяся и выросшая в объеме переписка. Подчиненные жанры, о которых писал Тынянов в «Литературном факте», заполняют литературную жизнь самих формалистов. Они не изменяют своему практицизму или, лучше сказать, теоретической перформативности. «Невозможно и бесполезно изолировать отдельные голоса этого диалога и оценивать их относительно друг друга. Также невозможно чисто исторически зафиксировать характер этого диалога. Необходимо вступить с ними в диалог и оценить вопросы и ответы формалистов с точки зрения современной науки о литературе, для которой большинство этих вопросов остаются актуальными. Только такой подход делает осмысленным исторический экскурс» [Streidter, 1989, р. 19].
Современники оказались к такому диалогу по преимуществу не готовы, восприняв новую модель литературной социологии как измену принципам[151]. Многих читателей статьи о литературном быте смутил резкий поворот Эйхенбаума к литературной современности и поставленный ей диагноз: «Литературная борьба потеряла свой прежний специфический характер: не стало прежней чисто литературной полемики, нет отчетливых журнальных объединений, нет резко выраженных литературных школ, нет, наконец, руководящей критики и нет устойчивого читателя» [Эйхенбаум, 2001 (а), с. 63]. Этот негативизм нужен автору как риторический прием: несколькими строчками ниже он формулирует новый вызов литературной современности: не как писать, а как быть писателем. В этом смысле литературный быт не равен бытовой обстановке. Напротив, он может ей противостоять, будучи производной писательского самоощущения, его осознанного поведения в системе социальных связей своей эпохи. Исследовательская установка Эйхенбаума подчеркнуто ангажирована. Прошли времена, когда Шкловский запальчиво писал, что «литературное произведение есть чистая форма, оно есть не вещь, не материал, а отношение материалов» [Шкловский, 1929, с. 226]. Кризис, который, по мысли Эйхенбаума, переживает социальное бытование литературы второй половины 1920-х годов, приводит к переустройству науки о литературе. Важно выстроить систему исторических аналогий, чтобы наметить пути выхода из кризиса. Стало быть, нужно учиться у истории, которая «есть особый метод изучения настоящего при помощи фактов прошлого» [Эйхенбаум, 2001 (а), с. 62].
Ангажированный формализм – казалось бы, противоречие в терминах. Однако Эйхенбаум уточняет, что литература остается специфичным явлением, которое не сводимо к внешней по отношению к нему реальности. Литература остается литературой и по-прежнему изучается как прием, но во взаимодействии и соответствии с культурным контекстом. Под таким углом зрения исследователь не ищет имманентных отличий Пушкина от Некрасова, но учитывает, что первый лишь предвещал появление профессиональной литературы, а второй работал и по договору, и сам был издателем. Точно так же понимание позиции Толстого невозможно вне прочтения его яснополянского проекта как «реакционного» вызова помещика разночинным профессионалам. Эйхенбаум не скрывает, что ищет параллели окружающей его реальности в литературном быту 1860-х годов с его развитием прессы, снижением высоких жанров и борьбой классов не на уровне идеологии, а на уровне их приватизации теми или иными писателями. Не реальная личность, но идеологически, социально и экономически обусловленный образ писателя оказывается основным материалом новой истории литературы. А примитивный каузальный социологизм, с которым оппоненты и ученики Эйхенбаума отождествили его проект, продолжает плавать среди констатаций бытовых условий писательской работы в поисках «первопричин» литературной эволюции, незаметно для себя впадая в метафизику.
Проблематику программной статьи о быте продолжила заметка «Литература и писатель», опубликованная практически одновременно в журнале «Звезда». Эйхенбаум настаивает, что «при желании всю литературную эволюцию можно понимать как непрерывную серию кризисов, поскольку непрерывно меняется и переходит с одних элементов на другие сам знак литературности; но эволюционное значение этих кризисов всегда разное» [Эйхенбаум, 2001 (а), с. 71; курсив автора. – Я.Л.]. Выделенное понятие сегодня читается как латентно-семиотическое, по своей теоретической продуктивности ничуть не уступающее положениям «Тезисов к проблеме изучения литературы и языка», которые спустя полтора года опубликуют в «Новом ЛЕФе» Тынянов и Якобсон, эксплицитно ссылаясь на семиологию Фердинанда де Соссюра. У литературы нет устойчивых признаков, есть лишь реляционные, и в этом смысле формалисты остаются верны приклеенному на них ярлыку «внеидеологичности». Существует, однако, среда (в первую очередь, повседневная), в большем или меньшем отношении к которой функционирует институт литературы. Иногда он притворяется, что распался, растворился в среде (Эйхенбаум вводит термин «литературная домашность»), а иногда (в качестве синхронной реакции на домашность), напротив, настаивает на своей масштабности, сложности и значимости. Далеко за примером ходить не надо: среда, в которой функционирует сам Эйхенбаум, отчетливо двусоставна, и ее составляющие все более отчетливо отдаляются друг от друга. Уже наметился тренд 1930-х годов: писатели заняты «черной» работой (переводы, газетные очерки) и высказывают сокровенные мысли в дневниках, а литература год от года крепнет как официальная безличная инстанция.
Непонимание, которым была встречена новаторская концепция Эйхенбаума, во многом объяснялась тем, что терминологическая омонимия не сработала как проблема. Даже Тынянов однозначно истолковывал быт как внесистемное, рудиментарное явление, имея в виду узуальное значение слова и употребляя его так же, как создатели «Ассоциации по изучению современного революционного быта», Маяковский в поэме «Про это» и Бабель в «Конармии». Быт сводится к вещественной интимности, царящей в пространстве дома, его уютном бессознательном[152]. В критической статье «О поколении, растратившем своих поэтов» (1930) Роман Якобсон первым указал на то, что советский поэт разбивается о быт, подобно любовной лодке из его предсмертного стихотворения. Быт – изгой официального дискурса, самим фактом своего наличия требующий преодоления, но не имеющий альтернативы. «Новый» быт быстро обнаруживает свою утопичность и превращается в травму осознанного лицемерия, коммунистического по форме и буржуазного по содержанию. По замечанию позднейшего исследователя, «вследствие парадоксальной инверсии понятий, механизм которой впервые начали выяснять именно русские формалисты, быт из профанной сферы попал в негативно сакральную – стал восприниматься как субстанция Иного по отношению к заложенным в стране основам нового строя» [Зенкин, 2004, с. 808]. Упомянутая «инверсия понятий», связанная с дефицитом квалификации культурных агентов и усиливающейся тенденции вытеснять знание чисто идеологическими манипуляциями – это и есть причина, по которой Эйхенбаум спешит с ревизией своего теоретического инструментария. Спешит для себя и готовится к худшему – к 1928 г. он уже уволился из ЛГУ где его планомерно понижали в должности с 1925 г.
Книга о литературном быте, черновиком («брульоном») которой Эйхенбаум прямо назвал заметку «Литература и писатель», так и не была доведена до конца. Втягиваясь в работу над «литературно-бытовой» биографией Толстого, ученый сознавал, что риторические тревоги, которыми он начинал свою ревизию формального метода, все больше становятся фактом не литературного, но обыденного существования, и «формализм» превращается в ругательное слово независимо от того, развивается он в ногу со временем или нет. Идеи ненаписанной работы рассеялись по новой книге «Лев Толстой. Кн. 1. 50-е годы» (1928), которую легко можно было счесть консервативным историко-литературным демаршем. Между тем в предисловии к ней Эйхенбаум уточнял: «литературный быт» частично привел меня к изучению биографического материала, но под знаком не «жизни» вообще («жизнь и творчество»), а исторической судьбы, исторического поведения. Таким образом, биографический «уклон» явился как борьба с беспринципным и безразличным биографизмом, не разрешающим исторических проблем» [Эйхенбаум, 2009, с. 148].
Другая, отчасти игровая форма реализации идей, не востребованных эпохой, получила название «Мой временник». Эта книга, вышедшая в 1929 г., носила подзаголовок «Словесность. Наука. Критика. Смесь» и подавалась как «журнал одного автора», отсылка к любительской кружковой литературе начала XIX в., образцовый жест «архаиста-новатора» (в том же году под похожим названием вышел итоговый сборник статей Тынянова). Форма была двусмысленной: с одной стороны, провокационной, с другой – заведомо не рассчитанной на внешний резонанс. Помимо мемуаров, которыми Эйхенбаум ответил на ряд вопросов, с необходимостью выпадающих из горизонта научных публикаций, в книгу вошли статьи о литературном быте и тематически близкие им критические заметки. С последними произошла любопытная контекстуальная трансформация. Например, первоначально изданный в 1926 г. текст «Декорации эпохи», посвященный роману Ольги Форш «Современники», помещен здесь сразу вслед за программной статьей «Вместо резкой критики», где постулируется отсутствие литературной борьбы в современном культурном поле. Так от безымянности как приема истории литературы Эйхенбаум переходит к безымянности литературы как симптому социального неблагополучия. Пусть в заметке «Декорация эпохи» автор настаивает на «историческом романе “мемуарного” стиля – с деталями жизни, с вещами, с человеком, без стилистической напряженности, без декораций» [Эйхенбаум, 2001 (а), с. 132]. Читатель может не сомневаться, что это заявление не обращено ни к автору романа «Современники», с заглавием которого когда-то иронически поиграл рецензент, ни к потенциальному оппоненту. Теперь оно обращается внутрь литературы, маркируя ее переход на самообслуживание. С этого времени Эйхенбаум предпочитает давать на теоретические вызовы негативные ответы, т. е. заниматься микроанализом биографии Толстого и текстологией академических изданий.
Вследствие вызывающей незавершенности и обилия межеумочных, мерцающих интуиций теория литературного быта остается актуальной и сегодня в отличие от концепций остранения, затрудненной формы и даже литературного факта, занявших достойное место в истории филологической науки. В трактовке Эйхенбаума литературный быт – междисциплинарное понятие; он проявляется только в контакте литературы с внеположными ей контекстами и в этом смысле перекликается с рядом концепций, во второй половине XX в. изменивших интерфейс гуманитарного знания. Среди них «насыщенное описание» антрополога Клиффорда Гирца, не побоявшегося признать в своем программном сборнике «Интерпретации культур» (1973), что культуру приходится зачастую описывать исключительно в ее внутренних терминах, заведомо соглашаясь на неполноту и логические провалы конечного результата. Затем испытавший влияние Гирца «новый историзм» 1980-х годов (Стивен Гринблатт, Луи Монроуз), нашедший в себе силы отказаться от главенства метода над материалом, который часто и совершенно легитимно приносится в жертву типологической симметрии и/ или полноте классификации. Метод так называемой микроистории, впервые примененный Карло Гинзбургом в книге «Сыр и черви» (1975), также типологически сближается с построениями Эйхенбаума – сама идея интегративного описания жизни «незамечательных» людей и их каждодневных практик перекликается с ними напрямую. Наконец, в большой мере «бытология» предвещает появление классической книги Мишеля де Серто «Изобретение повседневности» (1970), где каждодневная жизнь обитателя большого города предстает как продуктивная и расточительная, концентрированная и размытая, принципиально комбинаторная и по большей части бессознательная. Сложное переплетение официальных регуляторов и тактик приспособления к ним напоминает отношение литературы и внеположного ей, но неустранимого социального контекста. Диалектика публичного и приватного, составляющая сквозной мотив книги де Серто, была основной посылкой литературно-бытовой концепции Эйхенбаума.
Позволительно ли считать, что быт в итоге обернулся главным активом в наследии Эйхенбаума? Только сознавая историчность подобного утверждения, можно с тем же успехом говорить, что именно к этим интуициям Эйхенбаум шел всю предшествующую жизнь, и даже в дореволюционных текстах находить их очевидные предвестия. Важно понимать, что проект «бытологии» не был завершен и еще долго оставался ресурсом, питавшим «прикладную» работу Эйхенбаума с дневниками Толстого. Экспликация этапов теоретической эволюции, которую обнаруживает многотомное исследование творческой и мировоззренческой лаборатории классика, вряд ли нужна сейчас, но может понадобиться и реализоваться в любой точке будущего. Быт в интерпретации Эйхенбаума ценен как пример многослойной структуры, где личность, группа и общество расширяют друг друга, создавая эпоху. Ее целостность задана, но невоспроизводима. Для Эйхенбаума теоретически заряженным становится отказ от построения теории, а наиболее адекватным способом саморефлексии – единичные эксперименты вроде «Моего временника» и рутинные комментарии к «главному автору жизни», alter ego, в конце концов – двойнику. Для гуманитария наличие такого двойника – часто единственный способ остаться собой.
X. Сознание кризиса. Своя и чужая история
Вто время как Шкловский на протяжении 1920-х годов занимался практическими аппликациями идей металитературности, Эйхенбаум переживал свое долгожданное единение с наукой. Встреча с ОПОЯЗом, наконец, придала его биографии глубокий телеологический смысл. Дневник, которому он привык поверять сокровенные мысли, наполнен радостью труда: исчезли ювенальные стихи, напыщенные философские размышления, осталась хроника событий, которыми на четвертом десятке наполнилась жизнь. Его первая формалистская статья «Как сделана “Шинель” Гоголя» (1921) сразу стала классикой нового направления. Его первая отдельная книга «Молодой Толстой» (1922) обозначила границу нового фундаментального проекта, над которым ученый будет работать всю жизнь, срастаясь с его главным героем и сличая его биографию со своей (подробности этой многолетней проекции см. [Any, 1994]). Для Эйхенбаума очень важна идентичность профессионала – он слишком долго искал себя, чтобы, найдя, подрывать в духе Шкловского собственные основания.
Профессионализм и «спецификаторство» [Эйхенбаум, 1924, с. 2], свойственные ОПОЯЗу, предполагали четкое разделение труда. Шкловский отвечал за объектную экспансию школы и двигал вперед литературу, превращаясь в ее персонажа и служа иллюстрацией собственных положений. Тынянов раскрывал теоретические потенции идей, создавал концепции (теорию пародии, теорию тесноты стихового ряда, теорию литературной эволюции) и балансировал между скрупулезным описанием и афористической инвенцией. Из всех петербургских формалистов Эйхенбаум казался наиболее «правым», «объектным», консервативным. Консервативен его упорный историзм, лишь оттененный ярким эпизодом разбора гоголевской «Шинели», консервативно тяготение к комментарию и изучению источника (в противоположность эволюции, столь любимой двумя другими). Только консерватор с прошлым эпигона-акмеиста[153] мог в начале 1920-х годов предложить Шкловскому заменить косноязычное колючее «остранение» скучным «опрощением», сводящим на нет терминологическую провокацию [Панченко, 1988, с. 35]. Во второй половине десятилетия, когда в письмах Тынянова и Шкловского начинается вторичное брожение идеи ОПОЯЗа и обсуждается возможность «сборника максимальной теоретичности», Эйхенбаум почти не принимает участия в этих дискуссиях, переживая очередной жизненный и первый кризис «после формализма». В человеческом, дружеском смысле триумвират формалистов крепок в эти годы, как никогда, но в теоретическом отношении школа находится на распутье. Новые интересы Эйхенбаума сочувственно встречаются друзьями и решительно не принимаются учениками-ортодоксами. Личное участие в конфликте поколений, причем весьма парадоксальном, заставляет Эйхенбаума уйти в экзистенциальное переживание своей усталости от истории и биографическую рефлексию. «История как императив, как ощущаемая реальность – важнейший феномен и в определенном смысле фантом, с которым Эйхенбаум не только постоянно оперировал в работе, но который, как позволяют предполагать разнообразные его тексты, неустранимо стоял перед ним и в повседневной жизни» [Чудакова, 2001 (а), с. 433]. Так появляется книга «Мой временник», включившая Эйхенбаума в литературу наряду с «пишущим персонажем» Шкловским и уже погрузившимся в историческую беллетристику Тыняновым. Но это будет итог теоретических поисков и вкусового дрейфа второй половины 1920-х.
С осени 1927 до весны 1929 г. сквозь общую усталость и солидарно с друзьями осознаваемый кризис среднего возраста[154], прорастает ясный замысел второй книги о Толстом, далее обретают форму идеи о природе литературного быта и писательского труда. В отличие от коллег Эйхенбаум поставил проблему личной причастности истории в центр своего исследовательского внимания. Он последовательно отказывается трансцендировать историографический дискурс, делать его внеположным субъекту описания. Более поздняя статья о творчестве Тынянова (1940) не оставляет сомнений в гегельянском происхождении этого «субъективизма»: «Для современного человека вопросы личной судьбы неразрывно связаны с вопросами общественно-историческими. Я употребил слово “судьба” в том смысле, в каком оно подчеркивает наличие некоторой необходимости или закономерности и дополняет, таким образом, более безличное слово – “биография”. Чувство истории вносит в каждую биографию элемент судьбы – не в грубо фаталистическом понимании, а в смысле распространения исторических законов на частную и даже интимную жизнь человека» [Эйхенбаум, 1986, с. 207–208]. Разговор о науке со страстностью писателя[155], отличавший формалистов как от предшественников, так и от последователей, объединенных условностями академизма, со второй половины 1920-х годов превратился для Эйхенбаума из способа размышления в его предмет. Эйхенбаум понимает историю как неподвижную протяженность, вызывающе игнорируя Гегеля[156]. Но методологический архаизм, воспринятый у Толстого и в результате еще более радикальный, чем у Тынянова, неожиданно выдвинул Эйхенбаума в авангард науки о литературе.
В первом томе своего многолетнего исследования «Лев Толстой. Кн. 1. 50-е годы» (1928) Эйхенбаум еще более архаичен, чем в «Лермонтове» (1924), где даже в подзаголовке фигурирует запретное для формалиста слово «оценка». В ходе реконструкции максимально широкого контекста взросления Толстого после «бездумной» молодости Эйхенбаум не только увлекается не забытым «органическим» дискурсом, но и дает повод для обвинений в спекулятивных (не вполне научных) параллелях между описываемой эпохой и современностью. Например, «по всему фронту интеллигенции, до сих пор представлявшемуся более или менее единым, идет сложный процесс дифференциации, в котором важную роль играет новый момент – опора на свой класс» [Эйхенбаум, 1928 (а), с. 186]. Или: «Литература отброшена историей на задний план – она стала обыкновенным бытовым фактом. Круг ее воздействия невероятно сужается: писатели пишут друг о друге, превращаясь из авторов в литературных персонажей. <…> “Пасквиль” становится самым распространенным жанром» [Там же, с. 188]. В последней реплике уже невозможно было не уловить намека на деятельность «напостовцев» и других адептов власти.
Этим среди прочего объясняется тот факт, что начало «долгого» толстовского проекта не было принято другими членами «триумвирата». Шкловский: «Книга о Толстом его мне не нравится» [Панченко, 1984, с. 194]. Тынянов: «Толстой <…> как был “молодым”, так и остался» [Чудакова, 2001 (а), с. 442]. Эйхенбаум пошел здесь по пути «непреодоленности биографии», что было чревато превращением истории из науки в беллетристику. Неважно, был ли этот риск оправдан стратегически. Важно, что этот путь оказался для Эйхенбаума встроен в логику биографии, в поисках и создании которой формализм поставил не точку, но запятую. Еще в заметке 1921 г. «Миг сознания» Эйхенбаум видел
в биографии «объективный исторический закон, одновременно отрицающий и сохраняющий в человеке его прошлое и именно благодаря этой ране делающий его человеком» [Калинин, 2009, с. 42]. Летом 1925 г. он признается в письме Шкловскому: «История утомила меня, а отдыхать я не хочу и не умею. У меня тоска по поступкам, тоска по биографии. <… > Никому сейчас не нужна не только история литературы, не только история, но и самая “современная литература”: сейчас нужна только личность. Нужно человека, который строил бы свою жизнь» [Панченко, 1984, с. 189]. Таким образом, поворот в теоретическом сознании Эйхенбаума второй половины 1920-х годов был обусловлен потребностью в строителе биографии – сам он себя таковым не чувствовал, постоянно рефлектируя в дневнике о своих сомнениях и терзаниях. Это была реакция и на антигуманистическую репутацию раннего формализма, и на инфляцию «чистой» литературы, анализ которой поставили во главу угла формалисты. Иными словами, это был поворот антропологический и даже гуманистический. В процитированном фрагменте улавливается предвестие квазипародийной «авторской исповеди» Шкловского («Третья фабрика») и тонких беллетристических сублимаций Тынянова. Сделав в монографии о Толстом выбор в пользу вызывающе импрессионистичного, как бы «внеконцептуального» описания, Эйхенбаум пытается писать художественно, не выходя за пределы описательного (вернее, герменевтического) дискурса.
Автокомментарием к этому переходу от литературы к личности писателя и от метода к личности аналитика послужил «Мой временник» (1929) – нетривиальное произведение, построенное Эйхенбаумом в форме журнала и потому вбирающее самые разные формы письма: беллетристику, критические и теоретические («программные») статьи, мелкие заметки полемического свойства. В этой книге, апеллирующей к традиции «домашнего журнала» (ср. «Благонамеренный» Александра Измайлова, 1818–1826), Эйхенбаум пытается не столько объяснить, сколько показать самой структурой и ходом повествования свое понимание истории. В обращении к читателю, которым открывается текст «Временника», задается игровая, ироничная перспектива: несвобода, обусловленная границами жанра, снимает ответственность с пишущего, но на деле предоставляет ему возможность занять метапозицию по отношению к себе в процессе исследования объекта.
Если попытаться представить имплицитный индекс цитирования Эйхенбаума, то из числа работ, вошедших во «Временник», лидерами, вероятно, окажутся не однажды переиздававшиеся статьи о литературном быте, составившие раздел «Наука». Будучи самостоятельными работами, они получают в композиции «Временника» довольно неожиданную роль, выступая в функции концептуализирующего послесловия к беллетристической части, озаглавленной «Словесность». В контексте же предлагаемого Эйхенбаумом жанрового единства эта часть выступает как опыт осмысления своего бытия в истории, бесчисленные проекции которого и обусловливают подход к бытию другого[157].
Раздел «Словесность» включает автобиографию, которая написана не столько в поисках корней, сколько в попытке найти себя после очередного этапа идентификации с биографией Толстого (ведь за год до «Временника» вышел второй том этой научной эпопеи). Эйхенбаум здесь выступает как историограф собственного «донаучного», или «внесистемного» быта, развертывая – не без аллюзий на роман воспитания – путь от случайности к случайности, которые оказываются таковыми лишь в синхронии. В диахронии же Эйхенбаум, для которого история есть особый способ изучения настоящего, полагает их результатом предопределения, или необходимости, которая образует диалектическую пару со свободой. Доказательством тому служит пересказ некой родословной, являющийся прологом к автобиографии и поначалу никак не связанный с личностью рассказчика. При этом корректно открывающийся кавычками пересказ почти ветхозаветного предания преследует цели атрибуции якобы анонимной поэмы о шахматной игре, чей перевод с древнееврейского был переиздан в 1924 г. По ходу этой мастерски сделанной ретардации открывается истинное имя автора, коим оказывается дед ученого Яков Моисеевич. Несмотря на отсылку к реальному письменному источнику, отбивающую концовку пересказа, (авто)биограф пренебрегает вторыми кавычками и завершает семейную родословную уже в регистре личного повествования, окончательно ликвидируя дистанцию между научно реконструируемым и интимно переживаемым. Вернувшись на точку зрения ученого (автора обращения к читателю и вступления к пересказу родословной), Эйхенбаум иронично сравнивает панегирический текст публикатора первого русского перевода 1871 г. с аналогичным текстом 1924 г.: «Жанр предисловия мало изменился, но язык его ухудшился. Что же касается автора самой поэмы, то он превратился в научную проблему. Не так ли возникают многие научные проблемы? Не развивается ли наука на основе забвения?» [Эйхенбаум, 2001 (а), с. 33].
Итак, Эйхенбаум намеренно выпячивает смещение повествовательных модусов, дабы продемонстрировать неразделенность сфер научного и личного, вернее, их напряженное экзистенциальное взаимодействие, интерпретацию одного в коде другого и наоборот (вспомним еще раз, пусть избыточно, о русском изводе гегельянства). Забвение является мотором научной мысли resp. памяти. Осознанное в настоящем забвение сталкивает постромантического индивидуума с необходимостью истории. В этот миг (который может, впрочем, длиться ощутимо долго) история превращается из школьной дисциплины в неизбежный и необходимый элемент мыслящего «Я». Цитируя приведенный пассаж Эйхенбаума в своей статье об акмеистских перекличках с идеями Тынянова о конструктивном значении ошибки и об актуализации «подземных течений» в литературе, современный исследователь замечает: «Забвение оказывается формой исторической памяти, гарантией права на внимание науки» [Тименчик, 1986, с. 67]. Такая диалектика раскрывается лишь в первом приближении к совокупности представлений (об) истории. Эйхенбаум потому и не принимает участия в обсуждении вопроса об эволюции, так как этот вопрос для него может стать релевантным только после разрешения вопроса о причинах обращения к истории. Другими словами, насколько это важно для современности, в конечном итоге редуцируемой к «Я» (и, тем не менее, не сводимой к субъективизму)? Только мотивация (а не подчеркнуто литературная мотивировка «Шкловского» извода) в лице навязчивой современности сдвигает с места клубок истории, нарушает его целостность, путает образующие его событийные нити, в конце концов, подставляет на место одних фактов другие. Поэтому между младшей и старшей линиями, между архаистами и новаторами, между центром и периферией всегда простирается энергетическое поле современности – поле-медиум, в котором осуществляется смена одного на другое. В этом отличие эйхенбаумовского понимания диалектики от тыняновского. Эйхенбаум с его «чувством» современности близок типу романтического энтузиаста, который переживает, а затем произвольно усиливает драматическое открытие мира для себя, чтобы затем распространить его вовне. «История не принадлежит к числу бескорыстных, чисто теоретических наук (если такие вообще есть), – заканчивает он «разъясняющую» статью «Литературная домашность» в разделе «Наука». – Кто-то в шутку назвал ее “пророчеством назад”» [Эйхенбаум, 2001 (а), с. 96]. Это напускное «кто-то», за которым скрыт прекрасно известный Эйхенбауму Фридрих Шлегель, представляет собой что-то вроде минус-приема, заостряющего внимание на одном из источников эйхенбаумовской философии истории.
И еще один важный момент в связи с фигурой Тынянова как «присяжного» методолога формалистской истории. Он расставляет верстовые столбы литературной эволюции, становление для него важнее факта, в становлении растворяется конкретная, в том числе и собственная биография. Прошлое типологически соприсутствует настоящему; важны не факты, а топосы истории: телеологию явления, как и его генетические аспекты, Тынянов относит к области внесистемного [Тынянов, 1977, с. 278–281, 522–525]. Эта синхронность имплицирует культурную амнезию, забывание современниками источникакак единственный путь к истолкованию литературы. Подход Эйхенбаума иначе акцентирован. Любой факт есть следствие тотального детерминизма. Таковы факты собственной биографии, конструируемой во «Временнике» в виде «мышечных движений истории» (и чуть ниже: «Это была стихия» [Эйхенбаум, 2001 (а), с. 60]). Факты не повторяются, ибо одни влекут за собой другие и т. д. Повторяются предпосылки, вызывающие к жизни бесконечное множество конфигураций фактов. Для Эйхенбаума непреложный факт кристаллизуется внутри неподвижной истории, хранящей память о процессе подобно тому, как подкова в известном тексте Мандельштама хранит память о беге коня, а геологический скол – отпечаток доисторического животного.
Говоря о логичности своего пути к литературе через многие случайные предпочтения и разочарования, Эйхенбаум формулирует противоречивый, но важный для его концепции тезис: «Напрасно историю смешивают с хронологией. История – реальность: она, как природа, как материя, неподвижна. Она образуется простым фактом смерти и рождения – фактом природы, никакого отношения к времени не имеющим. Хронология и время – абстракция, выдумка, условность, регулирующая семейную жизнь и государственную службу» [Там же, с. 50]. Выходит, что логика истории – это логика сопротивления «здравому смыслу», настаивающему на однозначности и чаемой простоте. История не поддается концептуализации раз и навсегда, будучи реальной, а, следовательно, индивидуальной для каждого. Но уже в своей первой исторической монографии о Лермонтове Эйхенбаум убеждал, что историческая энергия как таковая – величина постоянная, а индивидуальный поступок всегда социально и культурно обусловлен. Еще раз подчеркну, что для Тынянова релевантно взаимодействие сил, имманентных литературному ряду или граничащих с ним. У Эйхенбаума же «внимание смещается со структуры артефакта и конструкта его эволюции на его трансформацию в эстетическом объекте, точнее, на закономерность этой трансформации и ее коммуникативных условий» [Ханзен-Леве, 2001, с. 283].
Постулируемая таким путем плюралистичность истории, восходящая через Бергсона к немецким романтикам, противостоит картезианскому и далее кантианскому монизму, по умолчанию принятому позитивным знанием XIX в., для которого превращение времени в пространство было неизбежной эвристической универсалией. Сдвиг истории с насиженной позитивистами каузальной линейности произошел в случае Эйхенбаума по внешней причине, состоящей в расподоблении приватной и социальной истории, к коэкзистентности которых готовило себя поколение революции. Эйхенбаум, переживший в революцию кризис среднего возраста, невольно предсказал кризис формализма, намеренно избегавшего экзистенциальной проблематики, но претендовавшего на мировоззренческий статус.
Впервые тема личного, а значит, и научного кризиса проявилась в уже упомянутой статье «Миг сознания». Сумбурные размышления о поколениях и о роли «Я» в истории послужили для Эйхенбаума мостом к своей стезе внутри формалистского движения (статье о «Шинели», чей подход был явно инспирирован восторгом новизны, было уже два года). Думается, что озарение, которое посетило здесь Эйхенбаума («А История – это мы, мы все, мы сами» [Эйхенбаум, 2001 (а), с. 534]), оказалось для него последней ступенью инициации, после которой можно говорить о превращении критика-интеллигента в историка-профессионала, чьими единомышленниками «интеллигентская критика и интеллигентская наука стали одинаково оцениваться как дилетантизм» [Эйхенбаум, 1921 (b), с. 14]. Итак, в отличие от монистической интеллигентской науки и истории опоязовская филология создается как производная плюрализма. Сопротивление со стороны монизма – это, по Эйхенбауму, борьба разных прошлых за будущее.
Для данного типа формалистской истории, исходящей из потребностей современности, теряет релевантность категория достоверности. Это историография без истории. Переиначивая формулировку Эйхенбаума о писателе и труде, можно сказать, что вопрос «как изучать историю» сменился вопросом «в чем состоит деятельность историка». Ущербность историка идей по отношению к историку событий заключается в том, что первый исходит из сделанности, написанности свидетельства о событии, для него неустранима экстра– или интрадиегетическая инстанция. Второй же прислушивается к себе изнутри становящегося события. Нельзя сравнить историю с пресловутой «правдой», которая сама есть функция рассказа, повествования. Границу между правдой и вымыслом в истории можно провести лишь внутри диегезиса, т. е., в конечном счете, фикционального текста.
XL Работа с травмой. Опыт построения автобиографического пространства
Для петербургских формалистов случай Эйхенбаума с его напряженными поисками места в истории и дальнейшим добровольным пребыванием под ее «спудом» и репрезентативный, и маргинальный одновременно. Наравне с коллегами охваченный современностью, он предпочитает «вчувствование» (имманентную включенность) Дильтея дистанционной, объективно наблюдающей «критике». Он понимает историю как глобальную недискретную протяженность, отличную от комбинаторной, испещренной разрывами эволюции в духе Юрия Тынянова. Высокая чувствительность к истории означает для Эйхенбаума проекцию своего «Я» в материал. Он «в сущности, писал то, что В.Н. Перетц предлагал называть Thistorie litteraire” (в отличие от Thistorie de la literature”) и предлагал видеть в этом результат “эволюции литературоведения”. <.. > Эйхенбаум останавливался на уровне такого “генезиса”, который служил импульсом, стимулом, – давал материал и только» [Чудакова, 2001, с. 446]. Заставить материал говорить о себе – тактика не менее радикальная, нежели произвольное манипулирование материалом. Так поступает историк, сознающий, что всякий раз начинает писать о современности, и эта спекуляция делается невыносимой. Свою и чужую историю он переживает как цепь преодолевающих усилий, позднее осознанных и отчужденных. Биография исторической персоны представляется в таком случае последовательностью травм, или необходимых рубежей самоидентификации.
Предложенный Зигмундом Фрейдом в его ранней теории неврозов термин «травма» получил многообразные, в том числе метафорические толкования в культуре. Ключевой признак травмы – ее «возвратный» характер. Субъект возвращается к тому или иному эпизоду своей жизни независимо от степени его осознанности. Это событие может быть сложным клиническим случаем и требовать внешней диагностики, а может служить важным топосом в биографии, т. е. полностью поддаваться (само)анализу. В описываемом здесь случае «травма» имеет второе значение. Это то, что переживается и впоследствии (или синхронно) компенсируется героем исторического повествования в процессе обретения своей идентичности. Осознанная травма рассматривается самим индивидом как важнейшее событие, биографический порог, аналог инициации, которая воспроизводит основную травму рождения. Эйхенбаум строил свою биографию с ранней юности, когда начал вести дневник. В 19 лет (1905 г.) он индивидуально сменил место: переехал из Воронежа в Петербург, в 31 (1917 г.) вместе со всеми сменил эпоху, в 33 (1919 г.) – сменил научный контекст и обрел свой круг – ОПОЯЗ. Но первая смена так и осталась самой насыщенной и чреватой последствиями. На старте петербургского периода Эйхенбаум пережил и временные, и социальные сдвиги, которые во многом определили его дальнейшую рефлексию над биографией. Он начал жить на новом месте в другом времени, в результате чего изменилось и его представление о себе.
Культурная репутация Петербурга делает его подходящим, если не открыто провоцирующим полем травматического дискурса [Эйхенбаум, 2001 (а), с. 533] П Именно в Петербурге, пропитанном культурной памятью, которая непропорциональна короткой истории, провинциал Эйхенбаум проделал путь в литературу сначала с намерением отождествиться с ней, стать поэтом, писателем, затем – с намерением заинтересованно отстраниться, стать критиком. Неудачная попытка закрепиться в литературе на правах хозяина обернулась службой в качестве управляющего, нашедшего приемлемую форму сублимации. Движение от медицины к музыке и далее к литературе, сомнения и метания в выборе профессии, жадное ожидание исторических случайностей, преодоление судьбы и создание биографии, которая все никак не может состояться, – все это Борис Эйхенбаум пережил и описал в Петербурге, пространство которого напрямую связано с реализацией утопии, с буквализмом отрицания прошлого. [158]
Радикальность петербургского формализма как научной школы состояла в том, что литература понималась здесь не как объект исследования, но как специфический способ собственного существования, одновременно являющийся объектом изучения. Формалисты агрессивно трактовали литературу как «родной», изначально данный язык, в работе с которым им отведена почетная законодательная роль. Их отношение к литературе принципиально эгалитарно. Для Эйхенбаума, как, впрочем, и для «программного» Шкловского, формализм не набор процедур. Это новый тип сознания и способ существования, который ученые вынуждены принять как свидетели революционного распада. Даже если единицы из них ездят по фронтам на броневике, как Шкловский. Для Эйхенбаума рубежным был уже отказ от журнальной критики 1910-х годов. Статья «Как сделана “Шинель” Гоголя», созданная на волне революции, обнаруживает несомненное вхождение в новую языковую среду. Однако в заметке «Миг сознания», написанной в решающем для страны 1921 г.[159], хорошо видны признаки некоторой растерянности, сводящейся к конфликту между упоением исторической случайностью и отсутствием языка для его описания. Он «сконфуженно молчит» в ответ на вопрос обывателя о том, можно ли найти истину в прошлом: «Ну, вот вы, историк, – скажите нам…» [Эйхенбаум, 2001 (а), с. 533][160]. Внешняя стройность научных текстов, в частности, монографий «Молодой Толстой» (1922) и «Лермонтов» (1924), не скрывает методологической шаткости, которая со временем превращается в оберегаемый художественный прием, сводящийся к своеобразной «смерти автора». Сталкивая массивы материала, историк самоустраняется и уходит от необходимости эксплицировать свою точку зрения на предмет. В результате он всякий раз оказывается «внутри» предмета, что идет вразрез с провозглашаемой в науке дистанцией по отношению к объекту. На протяжении 1920-х годов Эйхенбаум остается самым «неформальным» из всех формалистов и тяготеет скорее к феноменологической, нежели к структуралистской поэтике, разработку которой по отдельности (хотя иногда и во взаимодействии) начинают Якобсон и Тынянов.
Кульминацией такого «некритического» подхода к истории и одновременно актом его разоблачения становится «Мой временник» – опыт самоидентификации и помещения себя в исторический контекст. В предыдущем разделе шла речь о структуре, композиции и тех частях книги, которые считаются теоретическими. Ниже будет предложен опыт медленного чтения сравнительно небольшой автобиографии, помещенной в разделе «Словесность» и являющейся тренировочным полигоном для романа «Маршрут в бессмертие» (1933). Прежде чем писать беллетризованную биографии литературного чудака, «чухломского дворянина» Николая Макарова, Эйхенбаум пробует литературные силы на себе. О Макарове он напишет с сочувственной иронией, обнаруживающей борьбу с привычным превосходством над объектом – третьеразрядным писателем-архаистом, типичным неудачником из мелкопоместной среды. О себе Эйхенбаум пишет намного серьезнее, его автобиография задним числом решает острейшую проблему культурной (в том числе национальной) и профессиональной идентичности. Для Эйхенбаума собственный путь в настоящее составляет научную проблему, ибо требует детальной реконструкции прошлых переживаний. Наличие дневника – единственное спасение. А в теоретическом смысле «Временник» обнаруживает тесную связь с ранней книгой «Молодой Толстой», в предисловии к которой отчетливо формулируется научное кредо «молодого» Эйхенбаума: «Прошлое, как бы оно ни возрождалось, есть уже мертвое, убитое самим временем» [Эйхенбаум, 1987, с. 35]. Это и позволяет исследователю анатомировать себя-в-прошлом, т. е. превратиться в объект науки, который с необходимостью отольется в текст и станет частью литературы.
Автобиография Эйхенбаума озаглавлена «По мостам и проспектам», что напрямую отсылает к важным пространственным элементом Петербурга. Город оказывается для героя пространством инициации, в ходе которой он превращается в рефлектирующего историка. Появлению Петербурга с необходимостью предшествует конспективное описание Воронежа – города, где прошло детство Эйхенбаума. Здесь он столкнулся с неблагополучием собственной биографии. Искусственная фамилия еврейских врачей дисгармонирует с крепким губернским бытом. «У нас не только фамилия, но и жизнь странная: ни цветов на окнах, ни кошек, ни бутылей с наливками, ни вечернего сидения у самовара, ни гостей, ни сплетен – ничего, что полагается в Воронеже и создает уют» [Эйхенбаум, 2001 (а), с. 36]. Эйхенбаума тяготят строгость, чистота и надрыв провинциальной интеллигентской жизни. Юноша сбегает из дома, бродит ночью по городу, совершает первый поступок, обнаруживающий тоску по истории. «Я – не воронежский мальчик» – урок, вынесенный из детства. Важно, что это последняя фраза главы о воронежском периоде. Так отбивается граница между мирами и временами.
Отказ от инициальной среды и ее вытеснение формирует сознание провинциала с претензиями. За отказом следует шаг в иное пространство, вернее, проникновение из периферии в центр. Завоевание, конкиста, вкус к которой воспитала в Шкловском петербургская гимназия, раннее взросление, «Бродячая собака» и революция, Эйхенбауму-провинциалу чужда. Он прислушивается, узнает, настраивается. В одном из первых, до крайности наивных писем к родителям Эйхенбаум философствует, совсем как молодой Толстой: «Главное стремление – жить как можно сознательнее, полнее и глубже. Жизнь без дела камень. Дело без убеждения – пыль. Убеждение без миросозерцания – прах. Созерцание без созерцания мира – ничто. Созерцание мира без знания – насмешка. Отсюда – образование. <…> Образование без наблюдения исключает полноту жизни. Отсюда общение с людьми, общение возможно более широкое и разнообразное. Образование дает сознание и глубину жизни, люди и знание их – полноту жизни» [Кертис, 2004, с. 247–248].
Такая гладкость и логичность суждений должна была насторожить родителей. У сына нет убеждений, только видимости общих мест. Их легковесность вскоре подтвердится разочарованием в медицине – «твердо» намеченном пути. Петербург для Эйхенбаума – город, манящий литературным духом. Концентрация внимания на общих местах, формирующих образ города в сознании героя, лишний раз подчеркивает типичность последнего. Ему еще предстоит обрести индивидуальность ценой столкновения с чужеродной средой. Пока же город встретил его дождем, наводнением и 1905 годом. «В 12 часов я вздрогнул и проверил часы. Это было у Биржи. Петр с того берега протянул свою колдовскую руку. Я поехал снимать комнату на Петербургской стороне. Вода стояла высоко. Город вздрагивал всю ночь. Цитатой из Пушкина торчал на скале Петр. К утру все было спокойно. Вторично поэма не удалась» [Эйхенбаум, 2001 (b), с. 38]. В этом отрывке Эйхенбаум выделяет три линии: стремление отождествить себя с городом (Я вздрогнул – Город вздрагивал), сопротивление имперскому мифу (бегство из-под царской длани на Петербургскую сторону[161]) и связанное как с тем, так и с другим нежелание повторять судьбу пушкинского Евгения. В отличие от него герой не грозит властелину, а выжидает, уклоняется от агрессии: «я хочу просто жить. Не хочу ни вздрагивать, ни показывать кулак и кричать: “Ужо, строитель чудотворный!”». Манящая мифогенность Петербурга страшит, означает сопротивление и тревогу. Влечение к мифу, стремление стать его частью порождает в сознании провинциала страх перед объектом восхищения. Страх и эскапизм.
Эти переживания обусловливают первоначальную неудачу, кризис ошибочного самоопределения. Учеба в Военно-медицинской академии трактуется как инерция прошлого, вернее, как результат неполного и потому неудавшегося разрыва с ним. История опережает героя, который вместо храма науки попадает в гущу споров на общественные темы. Налицо конфликт созерцателя, погруженного в самонаблюдение на новом месте, и социальной среды, в которой личное отодвинуто на второй план. Как автор «Временника», Эйхенбаум встает в ироническую метапозицию: «Пенсне я завел в Петербурге. Оказалось, что мое воронежское зрение здесь недостаточно. Это меня смутило. Я, может быть, человек, не созданный для этих масштабов? Мне, может быть, не только зрения не хватает? Я стал робким. На митингах, вместо того, чтобы быть судьей, я чувствовал себя подсудимым. Меня судили за то, что я не думаю о государстве, за то, что я близорук, что я – человек маленьких, провинциальных масштабов». Игра с реализацией метафоры близорукости описывает распространенный психологический слом, который испытывает человек, сорванный с места. Чеховское пенсне, бывшее атрибутом земского врача, переносится в столицу в качестве инструмента (само)наблюдения. Между прочим, мотивы зрения, наблюдения, микроскопического анализа, создания психологической картины, портрета – ключевые в концепции Эйхенбаума-литературоведа. Они занимают центральное место в книге «Молодой Толстой». Абсолютизация зрения как аналитического инструмента также относится к раннему, реконструируемому в автобиографии периоду жизни Эйхенбаума. Однако индивидуалистическое зрение романтика сталкивается здесь с более авторитетной и социально выигрышной позитивистской идеей. Склонность к рефлексии только усиливает мнительность героя и приводит к упадку сил: «На меня нападала тоска. Петербург – не город, а государство. Здесь нельзя жить, а нужно иметь программу, убеждения, врагов, нелегальную литературу, нужно произносить речи, слушать резолюции по пунктам, голосовать и т. д. Нужно, одним словом, иметь другое зрение, другой мозг». Характерна настойчивая апелляция к физиологической неполноценности, которая не только передает преувеличенное восприятие собственной инаковости, но и пародирует позитивистские трактовки психологических переживаний. Столкновение с чуждой средой воспитывает индивида и задает направление его самоидентификации. Разочарованный в военных медиках, попирающих право личности на самоопределение, провинциал ищет психологическое спасение в искусстве. Тангейзер вытесняет митинг. Однако разрыв между душевными склонностями и долгом семейной профессии все еще не преодолен.
Эйхенбаум делает шаг в сторону, принимает полумеру: поступает в вольную высшую школу Лесгафта. Оппозиция академии и вольной школы прозрачно предваряет позднейший отказ, казалось бы, обретшего себя Эйхенбаума-литературоведа от традиционного академизма. Несмотря на восхищение настоящей и вместе с тем неортодоксальной наукой, Эйхенбаум настаивает на важности психологической травмы для сюжета своих поисков. Лесгафт травит его за недавнее прошлое. «“Господин доктор” – дразнит он меня или “господин классик”. Отбежав к столу и приняв опять петушиную позу, он насмешливо выкрикивает латинские названия, которые звучат позорно и неприлично. Аудитория хохочет» [Там же, с. 41]. Издевательский смех Лесгафта, уверенного в своей окончательной победе над загадкой мироздания, играет терапевтическую роль, но и усиливает сомнения в самодостаточности «чистого» структурного знания. Стремление проникнуть в смысл описанной структуры определяет упорный телеологизм зрелого Эйхенбаума-историка, но формируется именно на этапе отказа от медицины, которая не в состоянии ответить на «проклятые» вопросы: «Я брожу по городу взволнованный и полусонный. Человек построен, как мост, – но для чего?». С одной стороны, эта отсылка к Ницше знаменует проникновение «духом музыки», авторство которой уже было раскрыто упоминанием вагнеровского «Тангейзера». С другой стороны, в более широком смысле это означает отказ от науки в пользу искусства с целью постичь истинное предназначение человека. Бог ratio умирает – остается человек, перед которым вновь вырастает мост как очередной этап символической инициации[162].
Герой проходит по «фантастическому мосту», покидая училище Лесгафта и швыряя череп – атрибут не то ученого-остеолога, не то Гамлета, Принца Датского – в пространство, чтобы стать музыкантом и вступить «в дикую область ветра и гармонии». Обращение к музыке продолжает поэтику ошибки, но эта ошибка имеет психотерапевтический смысл, приводя к первому опыту самосознания в городе страхов, неуверенности и надежд. «Я – русский юноша начала XX века, занятый вопросом, для чего построен человек, и ищущий своего призвания. Я – странник, занесенный ветром предреволюционной эпохи, эпохи русского символизма, из южных степей в петербургские мансарды» [Там же, с. 44]. Здесь очевидна позитивная составляющая определения («я знаю, кто я»), отчетливо называются исторические и культурные реалии, влияющие на судьбу героя, подчеркивается культурная идентичность, которая в данном случае шире еврейского самосознания.
Но музыка – это все еще транзитная зона. Она порождает скепсис в отношении творческих способностей творца или исполнителя. Если в конфликте с медициной отчетливо имплицируется принцип «могу, но не хочу», то в конфликте с музыкой эти отношения переворачиваются. Война с роялем, который царит в комнате бедного музыканта и упорно презирает его, увенчивается не профессиональной победой, но ощущением душевного выздоровления. Грубая реальность за стенами каморки окружает явственно терапевтический сон (мечту) Эйхенбаума, в котором он свободно и счастливо играет Листа, Шопена, Скрябина в «обширном светлом зале с белыми колоннами» [Там же, с. 45]. Сон достраивает то, что недостижимо в реальности и снимает потребность в его осуществлении (это релевантно для реальности «Временника» как фикционального текста). Эйхенбаум прямо говорит об искусственности этой процедуры, которая уместна именно в призрачном, искусственном городе: «Музыкой я залечивал воронежскую обиду. На Петербургских мансардах, как в оранжерее, искусственно дозревало, превращаясь в юность, мое воронежское детство».
Фантастический мост, по которому шел Эйхенбаум от медицины к музыке, был данью фантазиям и подчеркивал последний рецидив инфантилизма перед взрослением. Возвращение в «Петербургское государство», в университет происходит уже по настоящему мосту, ведущему на Васильевский остров. Тревога перед будущим опять заставляет вспомнить эпизод приезда: «Нева – осенняя, серая, грозящая наводнением». Характерным признаком ступенчатой инициации является здесь не только возвращение исходного мотива и связанных с ним переживаний, но и полное отождествление сфер реального и символического. Реальный мост – продолжение фантастического моста, университет – продолжение Невского проспекта, по сути, это «крытый проспект», уводящий вглубь острова, население которого «живет по законам начертательной геометрии», совсем как в «Петербурге» Андрея Белого. Эйхенбаум-автобиограф констатирует вхождение своего подопечного внутрь строгой системы, ранее казавшейся закрытой и враждебной. Миф Петербурга превращается в привычку и заглушается шумом «светлого» университетского коридора с его «общественными и житейскими аксиомами». Здесь общественное не противостоит житейскому, как в сознании начинающего медика. Да и освещение под стать тому чудесному концертному залу, что снился неудавшемуся музыканту.
Для Эйхенбаума исторический факт становится таковым в телеологическом ключе. Факты его собственной биографии конструируются во «Временнике» в виде «мышечных движений истории». Обращает на себя внимание отсутствие дат – важен принцип целенаправленного движения, а не условная переменная, якобы фиксирующая событие при помощи цифры. Факты не повторяются, увлекая за собой другие в вечной смене и повторе воспоминания. Ошибочные предпочтения и пережитые разочарования далеко не случайны: иллюзия преднамеренности присутствует уже в самой ситуации последовательного выбора между естественными науками, «чистым» искусством и гуманитарной сферой. Говоря о логичности своего пути к литературе, Эйхенбаум формулирует противоречивый, но важнейший тезис своей концепции: «Напрасно историю смешивают с хронологией. История – реальность: она, как природа, как материя, неподвижна. Она образуется простым фактом смерти и рождения – фактом природы, никакого отношения к времени не имеющим. Хронология и время – абстракция, выдумка, условность, регулирующая семейную жизнь и государственную службу» [Там же, с. 50]. Выходит, что логика истории – это логика сопротивления здравому смыслу, настаивающему на однозначности и простоте явлений. История не поддается концептуализации раз и навсегда, будучи реальной, а, следовательно, индивидуальной для каждого.
Поэтому и в стенах университета продолжают происходить драмы раздвоения – уже внутри выбранного гуманитарного поприща. «Россия – страна утомительная. Я набирался сил» [Там же, с. 52]. Так оправдывает Эйхенбаум свой переход на романогерманское отделение и вновь апеллирует к эпической модели повествования. При этом Петербург остается мифологическим пространством, для которого актуальны прежние мотивы. Это враждебный город, внушающий трепет, вызывающий чувство абсурда и потери. Возвращение на русское отделение в последний год университетской учебы сопровождается стихотворением [Эйхенбаум, Дневник, 237, 3], написанным в начале 1911 г.
- Нева застыла. Мост над нею,
- Как страшный призрачный хребет,
- Дрожит и гнется. Я не смею.
- Я не решаюсь. Мне вослед
- Ужасно грохоча, метая
- Осколки искр перед собой,
- Трясущийся скелет трамвая
- Несется вскачь по мостовой.
Помимо очередного «трамвайного» примера в русской поэзии[163] этот текст является набором устойчивых ассоциаций. Он связывает угрозу от стихии, последовательность в преодолении пространства как знания (хребет – отчетливое эхо остеологии), смятение перед неизвестностью и невозможность обойти порог, приближаемый поездом истории, т. е. в данном случае трамваем.
Эйхенбаум в итоге приживается в Петербурге, созданном для проверки «чужих» на прочность. «Временник» зафиксировал версию индивидуальной истории, которая рефлектирует этапы отказа и становления, но не решает проблему идентичности, вернее, оставляет ее открытой в точке совпадения с современностью. С одной стороны, этому мешала фиксация на воспроизведении тех схем, которые сформировались в ходе освоения «взрослого» Петербурга и изживания «детского» Воронежа. Сюжет как таковой основан на повторе с вариациями, а сама по себе историческая концепция Эйхенбаума была полностью литературоцентричной. С другой стороны, «Временник» поставил точку в рефлексии очередного личностного кризиса 1920-х годов еще и потому, что с начала следующего десятилетия литературное проживание собственной истории стало уделом целиком домашней литературы. Это лишний раз говорит о развитой исторической интуиции формалистов, занявшихся этим феноменом непосредственно перед уходом идей ОПОЯЗа под спуд истории.
XII. Интермедия. Ппутание в истории. О судьбе второго поколения формалистов
Прежде чем говорить об учениках, воспитанных петербургскими формалистами, следует вновь вернуться к началу движения и «перезагрузить» проблему с точки зрения истории поколений. Сдвиг, нарушение привычных связей – все это казалось неизбежным в 1916 г., в разгар торжества футуризма в искусстве и анархо-пацифистских настроений в обществе. ОПОЯЗ, бывший обществом в узком смысле, дышал одним воздухом с революцией и создавал новую науку, изо всех сил отталкиваясь от старой, хотя и был с ней тесно связан. Члены кружка рано осознали себя как поколение и выбрали путь негативной самоидентификации. Его подсказывало время. Компромисс был неприемлем. В первой половине 1920-х годов сформировалась первая сумма методологии, нашедшая выражение в знаменитой статье Тынянова «Литературный факт» (1924): изолированных явлений не существует, их значение определяется не сущностями, а отношениями, среди которых преобладает конфликт, чье переживание и составляет историческое развитие литературы. Это было внятно и предельно точно, по крайней мере, в той системе координат, в которой ОПОЯЗ существовал вместе со всей остальной европейской культурой, все еще разбиравшейся с уроками французской революции и последовавшего за ней многонационального романтизма. Академическая наука с ее описанием «очевидных» фактов тут же превращалась в набор случайных и в конечном итоге бессодержательных наблюдений. ОПОЯЗ протер линзы очков, сквозь которые филолог силился разглядеть неподатливый текст, создал систему, способную к саморазвитию. И все благодаря отступлениям от канона «интеллигентской» критики и науки, которую деятели ОПОЯЗа («спецы») ассоциировали с дилетантизмом.
Середина 1920-х годов – это время, когда «формалисты», которых уже ругают этим намеренно неправильным словом, начинают испытывать своего рода депрессию ветерана. Проблема «быть или не быть» решена, метод создан и развивается. Эйхенбаум не столько полемизирует с оппонентами, сколько проводит разъяснительную работу, устраняет недоразумения, в общем, выполняет почти ассенизаторскую функцию. Тынянов вообще не вступает в дискуссию, за его не очень крепкой спиной «медленно растет, словно шатер иль храм», теория литературной эволюции. До прочих дела нет. Самоценную борьбу отчаянно имитирует один Шкловский, перебравшийся после эмиграции в Москву и устроившийся в дирекцию третьей фабрики Госкино. Его гложет тоска по заброшенной филологии, и он огрызается усиленной разработкой собственной биографии. В контексте исторического самоопределения едва ли не важнее всего, что Тынянов и Эйхенбаум в это время уже профессорствуют и руководят студенческими работами. Их преподавательская деятельность успешна и институционально организована. В 1923 г. их приглашают в Институт истории искусств на Исаакиевской площади, основанный «красным» графом Зубовым на волне революционной вседозволенности и в просторечии именуемый «Зубовским». Они в числе главных сил отделения словесных искусств института – быстро набирающего силу конкурента университета, где привычно сидят «академики». Конечно, ОПОЯЗ из другого теста. Институт хранит «традицию “неакадемичности”, иронического отношения к “профессорству”» [Гинзбург, 1990, с. 281], присущего не только Шкловскому, но и Эйхенбауму, Тынянову». Преподавать – это, если угодно, немножко глупо. В 1922 г. в статье, посвященной пятилетнему (!) юбилею ОПОЯЗа, сказано, что идея монизма и всеединства отравила русскую интеллигенцию, что пора становиться плюралистами и что невозможно обучить новой теории [Эйхенбаум, 2001 (а), с. 40]. И, тем не менее, этим приходится заниматься – такова логика истории, способная дезавуировать любую теорию. Популярный в середине прошлого века американский историк науки Томас Сэмюэль Кун описывал это состояние как «стадию нормальной науки», что с необходимостью сменяет «научную революцию». Но в биографии ОПОЯЗа была не только научная революция. Более того, последняя была только следствием. Стало быть, и кризис, сопровождавший переход в нормальное состояние, переживался острее. Его главным симптомом были ученики. Они оказались желанной обузой, соблазном власти и поводом для нарастающего беспокойства. Если мыслишь в категориях «борьбы» и «смены», как Тынянов в «Литературном факте», иначе и быть не может.
Нельзя утверждать, что все слушатели Высших государственных курсов искусствоведения (ВГКИ) при ГИИИ автоматически были учениками «формалистского триумвирата». Вениамин Каверин вспоминал, что «после окончания института самые способные из слушателей – Виктор Гофман, Николай Степанов, Борис Бухштаб, Лидия Гинзбург и немногие другие – стали собираться на квартире Тынянова или Эйхенбаума и образовался, так сказать, семинар высшего типа» [Каверин, Новиков, 1988, с. 247]. Характерная оговорка: вышеупомянутый плюрализм имел известные границы. Более того, иерархичность подразумевается самой структурой педагогической и, тем более, научной деятельности. Пусть творчество формалистов и близких им людей было коллективным – для начала этот коллектив должен был оторваться от остальных. 17 октября 1924 г. – наиболее раннее упоминание «семинария» в дневниковых записях Эйхенбаума. Уже к концу декабря у него на квартире были прочитаны несколько докладов. Часть из них легла впоследствии в основу сборника «Русская проза», чьим переизданием и является, по сути, настоящая книжка. Автор одной из наиболее заметных работ об учениках Тынянова и Эйхенбаума справедливо замечает: «Темы прочитанных докладов и опубликованных младоформалистами статей показывают, что опоязовцы надеялись в результате фронтального изучения отдельных явлений истории литературы, предпринятого учениками, получить подтверждение и детальную разработку на конкретном материале собственных теоретических положений» [Устинов, 2001, с. 309]. Испытание учительской критикой проходили работы, так или иначе варьирующие уже известные положения. В предисловии к «Русской прозе» Тынянов прямо говорит об учениках: «Они – как приходят новые элементы литературы – придут перерабатывать результаты наших работ» [Младоформалисты, 2007, с. 9]. Перед тем в своем кратком вступлении Эйхенбаум заявляет: «Нам нужно осознать историческую динамику традиций»[164]. Чьих традиций? Не формалистских ли?
Оглавление сборника – своеобразная формалистская хрестоматия. Следуя принципу Тынянова, сознательно уподобляющего учеников анонимным «элементам литературы», список лучше дать без фамилий в точном соответствии с венской концепцией «истории искусства без имен»: «чувствительная повесть» Николая Карамзина и формирование сентиментализма в России; литература путешествий, в том числе «стернианские» романы Александра Вельтмана; дружеская переписка 1820-х годов, с которой «триумвират» постоянно соотносил себя в ходе многоголосой переписки; записные книжки Павла Вяземского и литературные мистификации Осипа Сенковского, блестящий риторичный стиль раннего Александра Бестужева-Марлинского и фольклорный сказ Владимира Даля. Это пример образцового ученичества, идеальной кружковой поруки. Нет ничего, что выходило бы за пределы формалистской вселенной. «Младшие жанры» впервые заинтересовали Шкловского еще в статье «Розанов» (1921) и дождались глубокой разработки в работе Тынянова «Достоевский и Гоголь. К теории пародии» (1923). Письма, путевые дневники, записные книжки, романы с обнажающейся конструкцией (тот же Вельтман оказал заметное влияние на Шкловского, см. главу VI), стиль как носитель значения вообще и, в частности, сказ как способ развертывания сюжета из речевой маски героя. Библиография этого направления начинается статьей Шкловского «Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля» (1918) и основывается на ключевой статье Эйхенбаума «Как сделана “Шинель” Гоголя» (1922). Для полноты картины можно добавить, что в первом опубликованном отчете по работе отдела словесных искусств перечислялись приоритетные области исследования художественной прозы: «теория жанров, смена школ и направлений, вопрос о литературном влиянии, о массовой литературной продукции и так называемых “второстепенных” писателях, теория пародии и т. д.» [Отчет, 1926, с. 156].
Однако, как неоднократно отмечали впоследствии сами авторы сборника (Гинзбург, Бухштаб, Зильбер (Каверин)), их ученическая прилежность сыграла поучительную шутку и с ними, и с концепциями, взятыми ими на вооружение. Занятия узкими, конкретными приложениями «формального метода» наглядно выявили его слабые места. Наиболее уязвимой оказалась его претензия на тотальность, которую молодежь приняла слишком всерьез. Плюрализм, о котором так настойчиво и убедительно говорил Эйхенбаум, оставался декларацией – надо сказать, это наиболее частое его состояние. Нужно было либо пользоваться уже готовым, обрекая себя на эпигонство, либо испытывать благословенный формалистами кризис и расставаться с формализмом. Известна горько-ироничная дневниковая запись Гинзбург, сделанная ею зимой 1925–1926 гг. в ходе формирования «Русской прозы»: «Боря <Бухштаб> передал мне «по секрету» дошедшую до него фразу Тынянова о нас (об учениках, о “молодом поколении”): “Что же, они пришли к столу, когда обед съеден”» [Гинзбург, 2002, с. 33]. Замечание двусмысленное: оно может показаться проявлением участия, а может – усталого снобизма. И то, и другое одинаково верно. В этот период Тынянов уже писал «Кюхлю», ему было тесно в им же созданных рамках. Через пять лет он скажет: «Где кончается документ, там я начинаю», – и прозвучит это одновременно с капитуляциями Шкловского. У обидной остроты «мэтра» могла быть и вполне житейская причина. Воронежец Эйхенбаум и псковитянин Тынянов не могли не дорожить своим успехом в Петрограде. Это была их персональная конкиста, в которой даже педагогическая практика принимала формы конкуренции. А признать, что ученики могут и не грустить об упущенном обеде, было невероятно трудно. С учетом сложности отношений – невозможно.
«Младоформалисты» никогда не провозглашали себя группой, не подписывались под манифестами и даже не были единомышленниками в строгом смысле слова. Разве что вместе пили пиво в «Баре» на Галерной улице, противопоставляя себя мэтрам, которые предпочитали вино. «Немец» Тынянов – белое, «француз» Эйхенбаум – красное[165]. Группу молодых волновала недостаточная ясность исходных посылок усвоенного метода, озабоченность учителей собственной биографией (из этого раздражения родился, в частности, дебютный роман Каверина) и досада по поводу собственной орграниченности. Характерную историю рассказывает Гинзбург о прениях по докладу Эйхенбаума о литературном быте в конце 1928 г.: «Теорию мы встретили с неодобрением. Борис Михайлович сказал: “Семинарий проявил полное единодушие. Я в ужасном положении. Но положение могло быть еще ужаснее. Представьте себе, что так лет через пять вы начали бы говорить какие-нибудь там новые, смелые вещи, и я бы вас не понимал. Ведь это было бы ужасно! К счастью, сегодня все получилось наоборот!”» [Гинзбург, 1989, с. 357]. Заявление под стать тому, что сказал Тынянов насчет обеда. «К счастью» – открытое хамство, которое тонкий и учтивый Бум (так шутливо называли его ученики) позволил себе по слабости, из чувства самосохранения. Выйти из поединка победителем, выражаясь дворовым языком, «сделать» соперника, – амбиция в науке не то чтобы редкая. Эйхенбаум с его комплексом поздней реализации и «тоской по биографии» не сумел сдержать себя.
В одном из писем Шкловскому от 31 марта 1929 г. Тынянов высказался уже без обиняков, хотя и с настойчивыми аллюзиями на свою гастрономическую остроту: «Это поколение худосочное, мы оказались плохим питательным материалом, а они плохими едоками. Я уже давно отказался, например, от редактирования сборников молодежи по современной литературе, п. ч. с ними не согласен». Правда, он тут же признается: «Я несколько растерян, нет у меня главной работы, и я боюсь, что отвык работать по истории и по теории» [Панченко, 1984, с. 199–200]. В это время всем, кто имеет отношение к «формальному методу», живется так себе. Внутренний кризис усиливается внешним давлением – история эта знакома и многократно пересказана. Показателен сам факт последовательно негативной оценки усилий по созданию школы – так все хорошо начиналось… Вопрос «что делать?» при всей своей прямолинейности достаточно актуален для формалистов старшего поколения, не зря, видимо, Эйхенбаум именно в этом году издает свой «Временник», где предается мучительному самоанализу.
«Триумвирату» не до учеников. Каждый выплывает, как умеет. «Старшие формалисты», завороженные революцией на пороге зрелости, понимают, что их предало само время, но что виноваты в этом и они сами. Что же до следующего поколения, которое эти завороженные тащили за собой в ими же придуманное будущее, то они оказались в тупиковой ситуации. Великая утопия, «система плодотворных односторонностей» (по формулировке Гинзбург) уже реализована – куда ж нам плыть? Парадокс обозначился в том, что направление было задано, а его соблюдение
не приветствовалось. «Собственно, младоформалистам было положено быть не “умными” или “понимающими”, а волевыми, последовательными и энергичными; так, видимо, хотели их учителя. И, конечно, тотальными в реализации метода» [Кобрин, 2006, с. 68]. В результате имела место фрустрация, и метод либо отвергался (как у Бориса Бухштаба, полностью ушедшего в толщу историко-литературного комментария), либо вытеснялся «параллельными рядами» (как у Николая Коварского, ставшего киносценаристом, или Вениамина Каверина, никогда не перестававшего быть писателем). Оба пути были сложны, но только второй давал шанс активно избавиться от клички «младоформалисты» и стать, наконец, кем-то. Хотя бы для удовлетворения тех же амбиций, что двигали в свое время учителями.
На фоне когда-то декларированной общности и фактической разобщенности «младоформалистов» особенно ярким оказался опыт Гинзбург. Она не только придумала свои оригинальные поправки к историко-литературным концепциям учителей («О психологической прозе», 1971), но и сумела создать из своей скромной, почти «блеклой» биографии изощренный многожанровый текст. Во всяком случае феминистская критика вдохновляется им куда более, чем всеми военными и любовными похождениями Виктора Шкловского вместе взятыми [Pratt, 1990].
Отход второго поколения от научного мейнстрима начался именно после сборника «Русская проза», ставшего первым и единственным сплоченным выступлением молодежной формалистской группы. Последующий сборник «Русская поэзия XIX века» (1929) был не отражением работы семинара, распавшегося еще в 1927 г., а следствием издательской инерции (формалисты к этому моменту тоже покинули институт). А в 1926 г. отделение словесных искусств еще преисполнено энтузиазма, и проза прочно лидирует сравнительно с поэзией как научная и критическая проблема. Это связано с пресловутым «кризисом прозы», поисками новых форм, их быстрой ротацией в поле актуальности и жалобами на неразвитость сюжетного повествования в русской традиции. Классическая, размноженная на цитаты позиция по данному вопросу дана в статьях Тынянова «Литературное сегодня» и «Промежуток» (обе 1924 г., первая ироничная, вторая участливая). В том же 1924 г. при словесном отделении ГИИИ создается Комитет по изучению современной литературы. На одном из первых собраний Тынянов говорил, что «сейчас век
описательной прозы», что теперь «нельзя сказать: человек встал, человек сел; нужно говорить, как он встал и как сел. Мы имеем целый ассортимент запретных мест. Под запретом сентиментализм, банальность» [Гизетти, 1924, с. 77]. Чем выше запрет на бытовой, современный и совершенно стихийный «сентиментализм», тем насущнее для историка литературы обращение к сентиментализму историческому и далее к другим хорошо забытым культурным системам, в которые может отлиться сегодняшний «промежуток». Семинар по прозе отвечает насущной современности – объявляется поиск параллелей, как будто отвечающий на сварливую, но местами справедливую критику Иванова-Разумника (под псевдонимом Ипполит Удушьев): «Это длинная история – история развития форм русской прозы, история, до которой еще не скоро дойдут наши “формалисты”, плетущиеся в хвосте западной науки и с усердием, достойным лучшей участи, не замечающие верблюдов, не оцеживающие комаров. История форм русского романа, история формы рассказа и новеллы – все это они нам преподнесут через триста лет, а до тех пор – “терпение, терпение, терпение”. Правда, есть опасность, что через тридцать лет никто не будет помнить о “формальном методе”, но вдруг да авось…» [Удушьев, 1925, с. 162]. Вряд ли, конечно, коллективное обращение к русской прозе было связано с нарисованной перспективой скорого забвения формального метода, но нельзя отрицать, что Иванов-Разумник оказался «предсказателем, пришедшим вовремя» [Стайнер, 1995, с. 221]. Книга о русской поэзии XIX в., многие авторы которой были увлечены прозой в середине десятилетия, выйдет, как известно, в 1929 г. и тем самым подытожит сдвиг интересов. За редким исключением статьи непериодической серии «Поэтика», издававшейся при отделении словесных искусств именно с 1926 по 1929 г., посвящены анализу поэтических форм.
Таким образом, «Русская проза» стоит в семинарской практике «младоформалистов» почетным особняком. В исторической перспективе концептуальная нагрузка сборника только возрастает. Так получилось, что саркастичный критик оказался и здесь прав. Формалисты рискнули дать ответственный прозаический материал начинающим исследователям, оставили им его на «проработку», а сами двинулись дальше. Сборник получился значительно более интересным, чем работы советских академиков на протяжении следующих пятидесяти лет, но «старшие формалисты» все равно проиграли. Шкловский так и не написал книгу о современной литературе, ограничившись брошюркой «Пять человек знакомых» (1927). В результате своих борений с собой Эйхенбаум написал «Лев Толстой. Кн. 1. 50-е годы» – «неформалистскую книгу с формалистскими выводами» [Any, 1994, р. 123]. Тынянов неожиданно для себя превратился в беллетриста. Наконец, все трое вынуждены были оставить на бумаге замысел новой истории русской литературы как истории форм. Грубо это резюмируется так: ученики «борозду испортили».
«Русская проза» – это и ответ на критику, обернувшийся научным экспериментом. Экспериментом по апробации метода, повторению и потенциальному преодолению усвоенной методологии. Для изучения понятийной системы русского формализма эта книга полезнее многих работ «учителей». Тот, кто усваивает, а не придумывает, всегда хочет ясности. Может даже, в ущерб полету мысли. В поколении младоформалистов вызрела тактика «ритуальной» специализации, так широко распространившейся в послевоенном советском структурализме, когда даже максимально широкий по охвату теоретический труд предварялся извинительными преамбулами о том, что «автор ни в коем случае не претендует». На другом полюсе усилиями людей того же круга расположился жанр историко-литературного комментария. Он был предпочтителен, так как давал возможность иногда сказать что-то стоящее, не ссылаясь на классиков марксизма-ленинизма и не прибегая к его унылому жаргону. Что было, если бы школа младоформалистов все же состоялась, лучше не фантазировать. В состоявшейся истории Лидия Гинзбург осталась автором своих впечатляющих дневников, а Татьяна Роболи – скромным сотрудником Пушкинского дома, Вениамин Зильбер дожил до эпохи Горбачева автором «Двух капитанов» и «Открытой книги», а Виктор Гофман погиб на фронте, едва успев стать блестящим пушкинистом-комментатором.
Среди учеников, подававших и оправдавших научные надежды, фигура Бориса Бухштаба выделяется особо. Выдающийся текстолог и комментатор, специалист по XIX веку, не менее успешно занимавшийся XX столетием (его статьи о Хлебникове опубликованы лишь в 2000-е годы), ближайший друг, собеседник и корреспондент Лидии Гинзбург и Юлиана Оксмана был в числе первых, кто усомнился в состоятельности своих учителей в памятном 1927 г. Фигура Эйхенбаума была ключевой для его самоопределения, поиска себя и профессионального взросления. Дневники, которые Бухштаб вел сначала вслед, а позднее вопреки учителю в сближении с оригинальной концепцией Гинзубрг, являются важнейшим источником в изучении вопроса о младоформалистах.
«От истории не спасешься» [Бухштаб, 2000, с. 425] – так 22-летний выпускник ЛГХ научный сотрудник ГИИИ и преподаватель Курсов публичной речи начинает дневниковую запись от 20 мая 1927 г., программно озаглавленную «Антибум». Бум – прозвище его тезки и старшего коллеги Бориса Михайловича Эйхенбаума, к указанному времени пониженного в должности от профессора до внештатного доцента. Так называют Эйхенбаума ученики из «Бумтреста» (семинара по русской прозе). В отличие от второго номинального руководителя семинара Юрия Тынянова, избегавшего административной суеты, Эйхенбаум по-настоящему занимался подрастающим поколением, воспитывая в нем ключевую для формалистов «заряженность» биографией[166]. Бухштаб оказался талантливым учеником, обратившим свои умения против учителя. «Как бежит Бум от истории, как ищет “все нового”, и вдруг комичнейшим анахронизмом оказываются самые поиски нового во что бы то ни стало – не потому что старое непригодно, а потому что оно “надоело”» [Там же].
Что примечательного в этой небрежной фразе? С одной стороны, это прозорливое попадание в будущее, где исчезнет вера в предельность своего поступка, в наступление «окончательно нового». С другой – не более чем юношеская амбиция, подкрепленная идеологией «борьбы и смены», которую настойчиво внедряли «старшие» формалисты (от «Розанова» до «Литературного факта»). Реплика Бухштаба выглядит слегка отложенным резонансом известного письма от 25 июня 1925 г., в котором Эйхенбаум жалуется Шкловскому: «Писать мне сейчас очень трудно. <…> я и в самом деле с трудом обедаю, с трудом живу и с ужасом думаю о будущем. Для меня пришло время, когда люди делают странные поступки – пауза. Мне скоро 39 лет. История утомила меня, а отдыхать я не хочу и не умею. У меня тоска по поступкам, тоска по биографии. Я читаю теперь “Былое и думы” Герцена – у меня то состояние, в котором он написал главу “II pianto” (ему тогда было 38 лет)» [Панченко, 1984, с. 188–189].
Далее – столь же широко цитируемые мысли о том, что личность вытесняет не только историю литературы, но даже ее предмет, что лишь ирония может выжить под порывами урагана, который несется над головой. Забыты методологические поиски, теперь уж не до них. Одинаково легко и глупо вести речь о тонкости исторических предчувствий: что прозревали-де усталые формалисты тьму, надвигавшуюся из недалекого будущего. Но в 1925 г. все это было обычным проявлением кризиса среднего возраста, который настиг Эйхенбаума несколько позже других как следствие позднего обретения себя в науке[167]. Вышедшие ранее книги «Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки» и «Сквозь литературу» не удовлетворили автора; принятая им с восторгом логика революционной смены идей впервые обернулась против него самого, что только усилило возрастные беспокойства[168]. К 1927 г. намечаются, наконец, пути выхода из персонального кризиса: формируется концепция «литературного быта», пишется «социологический» том о Толстом в 1850-е годы. Но это уже не нужно ни оппонентам, ни ученикам, ни времени. Теперь оно индифферентно и потусторонне. Причем всерьез и надолго.
В марте 1927 г. проходит судьбоносный диспут в Тенишевском училище, где пока еще под протестующий свист громят «формалистов». Тем не менее, все понимают, что драка началась[169]. Корректнее было бы назвать эту процедуру избиением. Инерция «бури и натиска», затухавшая до середины десятилетия, сменяется периодом полураспада. Идет методичное, гипнотизирующее своей неотвратимостью превращение культуры авангарда в культуру сталинизма[170]. Казалось бы, ученики должны, как никогда, поддерживать своих учителей, выражать свою с ними солидарность. Ничуть не бывало. На фоне усилившейся внешней травли семинар Эйхенбаума выражает недовольство руководителем, отвергает его «комичнейшие» поиски новых идей, видит в этом верный признак его собственного старения. Если без сантиментов, то они, молодые, безошибочно распознают уязвимые места своего мэтра и целят в них именно как преданные (во всех значениях) ученики. Возможно, они были бы рады ему помочь, но для этого им нужно перестать быть его учениками. Ведь и они с готовностью усвоили простую, работающую на уничтожение схему борьбы «младших» со «старшими», которой формалисты в свое время осмелились возмутить тихую заводь истории литературы[171]. Характерен известный mot Лидии Гинзбург, точно подметившей, что «мэтры» любили не науку, а открытия. Действительно, тот, кто берется исполнить миссию героя, не может любить науку, это скучно. Он ничего никому не доказывает, он присваивает себе divine right (по Томасу Карлейлю), попирая само существо легитимности и убеждая всех принять на веру новый порядок. Но история литературы не политика, хотя иногда и копирует ее фигуры. Артистичная наглость ОПОЯЗа не смогла обеспечить ему лидирующие позиции так же, как безумные проекты первых пореволюционных лет – сохранить управленческие должности за художниками-авангардистами. Преемственность была невозможна – формализм строился на ее отрицании. У героя с его артистическими жестами нельзя ничему научиться, можно лишь усвоить его логику. Именно это, по мнению множества историков формализма, произошло с формалистами «второго созыва», от имени которых Бухштаб и в особенности Гинзбург выступали в своих «приватных» текстах[172].
После 1927 г. Эйхенбаум уже ничего не дождется от своих учеников, кроме нелепых разбирательств с Лидией Гинзбург по надуманному поводу (детальный разбор инцидента см. [Савицкий, 2006]). Они от него – тем более. Ему уже не до них. Эйхенбаум слишком долго ждал собственных открытий, чтобы так быстро удовлетвориться «нормальной наукой» (в терминах классической книги Томаса Куна «Структура научных революций»). Логика революции воплощает в его персональном кризисе свой жестокий каузальный сценарий. Он снова мучается, как это часто бывало в его исполненной внутренних борений биографии, что отражается на его научных занятиях. Он тянется к друзьям, которые тоже не вполне его понимают. Отчуждение доходит до того, что в 1929 г. Шкловский со злой досадой (на себя – в первую очередь) жалуется Якобсону, что Эйхенбаум «разложился до эклектики», а его «лит. быт – вульгарнейший марксизм. Кроме того, он стал ревнив, боится учеников и вообще невеселое <так. – Я.Л.»> [Чудакова, 2001 (а), с. 445].
Момент, когда в дневнике Бухштаба появляется запись «Антибум», можно считать в каком-то смысле идеальным. Еще не улеглось всеобщее волнение от «тенишевского» диспута. Главное, что последний не только оскорбил «формалистов», но ясно дал им понять: на них, не сговариваясь, напирают как заведомые противники, так и кажущиеся последователи. «Подобно квазиэдипальному бунту формалистов против Венгерова, десятилетие спустя молодое поколение под маской пролетарского движения осознавало себя и собственную культурную идентичность, предъявляя права собственности на русскую литературу» [Кертис, 2004, с. 161]. Если внимательно вчитаться в запись Бухштаба, сложно не обжечься о раскаленное раздражение, явно накопившееся за месяцы несогласия и связанного с ним недоумения, как жить дальше. «Старый Опояз, правда, <хвастался> выставлял свой прагматизм, отказываясь от философской проверки и обоснования, но прагматизму изменял ради журналистской “легкости”, которой Бум так умиляется в себе. Была ведь тенденция выкинуть из оборота идею, как только она дозреет до “алгоритмической” стадии. Что же это за позиция? Обидно, если это раскусят раньше, чем новое поколение покажет себя серьезнее и крепче их» [Бухштаб, 2000, с. 465].
При всех поправках на интимность жанра риторика весьма иллюстративная. В ломаных скобках зачеркнутое «хвастался», Бум «умиляется» журналистской легкости. Надо полагать, имеется в виду афористическая ироничность и ясность, которой Эйхенбаум добивается как раз к этому времени. И самое главное – обида, что «мэтров» могут разоблачить критики из чужих лагерей (а то и просто не мы). Эта фраза ключевая для диагностики отношений учителей и учеников в шлейфе отзвуков тенишевского диспута. Невозможно переоценить провоцирующее значение этой записи Бухштаба для распада первоначального союза поколений – союза, который был основан на взаимном любопытстве и поверхностном восторге (радости «научной инициации» у одних и радости «научного отцовства» у других). О том, что «групповой роман с мэтрами подходит к концу», Лидия Гинзбург впервые напишет только в самом начале 1928 г. [Гинзбург, 2002, с. 56]. Не менее показательны и другие цитаты из насыщенной записи молодого полемиста. Излишне говорить, что в интересах стратегии, усвоенной от мэтров, масштабы их «провинностей» преувеличиваются: «До чего довела Бума опасная игра с неопределимостью терминов (дифференциальны, мол). “Литературный быт” (стремление Языкова к тихой жизни, например), “литературный факт”, “каузальность”. Отход прикрывается расширением одних терминов и сужением других» [Бухштаб, 2000, с. 474].
Что здесь «опасного», так и остается загадкой. От чего «отход» и к чему здесь милитаристская риторика «прикрытия» – тоже. Когда же Бухштаб рассуждает о своих собственных планах, масштабности ему не занимать. В другом месте своих более чем содержательных дневников он проговаривается: «Литературоведение может опираться только на ту философию, которая синтезирует: 1) философию искусств, 2) философию языка, 3) философию истории. А все эти элементы есть далеко не во всякой системе» [Там же, с. 514]. Очевидна не столько утопичность, сколько тавтологичность заданного предела.
Хорошо известно, что амбиции Бухштаба, выступившего от лица возмущенного «Бумтреста», так и не были реализованы. Как внешние, так и внутренние причины обсуждались не раз. Ответ можно найти и в записях «блудного сына» формалистов: «Самым страшным упреком для “отцов” был упрек в эпигонстве, для нас как будто будет – в бесплодии» [Там же, с. 474]. Подзаголовок записи «Антибум» – «Обоснование эпигонства». Напрашивается вывод, что младоформалисты сначала обрекли себя на бесплодное эпигонство в науке, а затем без боя разошлись по сопредельным территориям. О каком бое в таком случае может идти речь? Только и оставалось, что перемещаться короткими перебежками от «серьезной» литературы (Каверин) до заказных повестей о пламенных революционерах (Бухштаб в 1929–1931 гг.) и редактуры киносценариев (Коварский). От кружковой интимности «младших жанров» (дневники и письма выходили у Бухштаба и Гинзбург куда увлекательнее научных монографий) до текстологии и библиографии. На этом сравнительно спокойном поле в 1930-е годы они вновь сошлись с «предавшим» их Бумом, чье научное и жизненное пространство сократилось до предела, не говоря уже о пространстве для интеллектуального маневра.
Мир тесен не только в пространстве, но и во времени. Новые люди иногда взрослеют быстрее, чем состариваются те, что пришли раньше и, с точки зрения последователей, заняли «лучшие места». Наверное, это и было не научное, но поведенческое know how второго поколения – тихо пережить современность и дождаться триумфа на суде истории.
Часть четвертая
Кинематограф и его прием
XIII. Контуры ненаписанной теории. Кинематографический сюжет русских формалистов
1. Форсирование метода: от литературы к кино
Вклад формальной школы в русскую киноведческую традицию весом и очевиден. По сути дела, осуществляя экспансию своего литературоведческого метода в смежные и пересекающиеся культурные среды, формалисты предприняли первую попытку создания систематического языка описания кино. В преодолении их литературоцентризма формировался позже структуралистский дискурс. В середине 1970-х передовая советская семиотика видела в кино уже «некоторый образец для метаязыковых механизмов современной культуры» [Лотман, 1977, с. 148]. Этой формулировки и недостаточно, чтобы описать «пикториальный» (Уильям Митчелл), «иконический» (Еотфрид Бэм) или «визуальный» (Фредерик. Джеймсон) поворот, который в современной художественной теории диагностируется по аналогии с поворотом «лингвистическим» (Ричард Рорти). И все же для связанного литературой сознания советской интеллигенции это заявление почти революционно, поскольку констатирует превосходство визуального мышления над лингвистическим. Можно себе представить, какой внутренней работы требовало за 50 лет до этого само допущение эмансипированной визуальности. «Значение эволюции приемов кино – в этом росте его самостоятельных смысловых законов, <…> они отрываются от внешних мотивировок и приобретают “свой” смысл» [Тынянов, 1977, с. 334]. Здесь кино – еще не порождающая модель, но уже суверенное искусство, пусть и недавно родившееся. Литература здесь – главный ресурс аналогий, возбудитель теоретического интереса и в то же время помеха для идентификации. В упомянутой статье Ю.Н. Тынянов говорит об автономии кинематографического приема, но обозначает его термином «слово», быть может, на тот момент у него просто нет других слов…
Кажется, уже давно установлено, что кино вызвало интерес формалистов ровно постольку, поскольку обнаруживало тесные аналогии с литературой, в первую очередь, в плане сюжетного повествования. В общих чертах сюжет известен. Основы примитивной грамматики кино были заложены В.Б. Шкловским на пороге 1920-х годов, потом через несколько лет Тынянов написал «Проблему стихотворного языка» и спроецировал ее положения в статье «Об основах кино», наконец, Б.М. Эйхенбаум в программной работе «Проблемы киностилистики» (1927) попытался систематизировать лингвистические спекуляции вокруг кинематографа, рассуждая о синтаксисе кино и его семантике [Ханзен-Леве, 2001, с. 328]. Понятие монтажа, вполне специфичное для кинематографа и уже из него пришедшее в литературу, вводится у Эйхенбаума осторожно, но последовательно. Следствием его внедрения становится осознание многолинейности кинематографической фактуры [Эйхенбаум, 2001 (b), с. 34]. Ее адекватное восприятие актуализирует куда более сложные механизмы, чем в случае с литературой. Легкость усвоения визуальной информации обманчива, ее высочайшая плотность блокирует аналитический инструментарий словесности. Эта проблема, едва намеченная у Эйхенбаума, проливает свет на методологические амбиции формалистов. На материале кино ярче, чем на материале литературы, проявляется их тяготение к анализу сложных многоязычных систем, для которых мало одной номенклатуры приемов. Это яркий пример того, как материал бросает вызов методу. Невозможно ограничиваться литературой, провозглашая революцию выразительных средств, совпадающую с революцией в обществе. Кинематограф нужен формалистам как предельно актуальное искусство, приобщение к которому гарантирует ревизию критической теории.
2. Виктор Шкловский и маятник обновления
Обрамлением формалистского сюжета в теории кино традиционно служат работы В. Шкловского. Во-первых, это крайне сумбурный опыт обращения к теме в заметке «Кинематограф как искусство» (1919), во-вторых – письмо С.М. Эйзенштейну, символично озаглавленное «Конец барокко», открытый вариант которого был опубликован в «Литературной газете» (1932). Между этими датами продолжается формирование аксиом кинематографического метаязыка. Начало 1930-х годов – это не только наступление «темных веков» советской империи, но и появление звука в кино, требующее ревизии едва ли не всей проделанной ранее работы. Деятели формальной школы считали этот переход нежелательным, трактовали техническое несовершенство раннего кино как его конструктивную особенность [Балаш, 1925, с. 22; Гармс, 1927, с. 47][173]Возможности продуктивного использования формалистских моделей для звукового кино стали очевидны уже после Второй мировой войны, тогда как в конце 1920-х годов прежние теоретические ресурсы казались исчерпанными.
Историю формальной теории можно представить как смену сопоставления словесного искусства с различными типами визуальной репрезентации – статической (живописью) и динамической (кинематограф) [Майланд-Хансен, 1993, с. 115]. Впрочем, в отличие от кино, с которым формализм работал непосредственно, живопись так и осталась лишь потенциальным объектом. Для ранних формалистских построений, нашедших отражение в манифестах Шкловского, абстрактная живопись выступает как удобный tertium comparationis, как доказательство того, что первичной задачей художника является «фактурный сдвиг», к которому и сводится содержание абстрактного произведения. Терминология Шкловского, возникающая на материале литературы, была следствием его юношеских увлечений изобразительными и пластическими искусствами[174]. Кубофутуризм Д. Бурлюка, беспредметность К. Малевича, абстракция В. Кандинского и поэтика «зауми» А. Крученых, нашедшие органичное отражение в теоретических интуициях и поэтической практике В. Хлебникова, были для Шкловского школой построения новой литературной теории. Первоначально она основывалась на отрицании образа[175] и распознавала в искусстве комбинацию технических приемов, чье применение ведет к реализации цепочки «стимул – реакция» в духе бихевиористов (отсюда критика психофизиологического примитивизма Шкловского у М.М. Бахтина и Л.С. Выготского). С эффектом прямого воздействия произведения на читателя связано широко известное понятие «остранения» (о его применении к кино см. [Масловский, 1983])[176]. Подобно тому, как кубофутуристы революционизировали принципы изображения предмета на плоскости[177], ранний русский формализм радикально переосмыслил реализацию предмета в слове и представил последнее как вещь, чье восприятие требует постоянного обновления. Это в первую очередь материальная эстетика, предпочитающая «действие» «умозрению»: «Нужно прежде всего “расшевелить” вещь, как Иоанн Грозный перебирал людишек, нужно вырвать вещь из ряда привычных ассоциаций. Нужно повернуть вещь, как полено в огне» [Шкловский, 1923 (b), с. 12].
Нетрудно увидеть в этой агрессивной риторике черты революционного поведения, целью которого является не «нахождение истины», традиционное для научной модели Нового времени, но отмежевание от актуальных и потенциальных противников и завоевание идейного пространства. Принцип автономной новизны, постоянно устаревающей и отменяющей сам себя, рельефно демонстрирует не вполне осознанную приверженность раннего Шкловского нормативному техницизму, который очень быстро вошел в противоречие с наблюдаемыми закономерностями в истории литературных форм. В 1914–1916 гг. Шкловский еще пренебрегает явными аналогиями со значимой для него самого сферой искусства, поскольку претендует на беспримесную оригинальность своего подхода. Работая уже после революции в журналистике и с профессиональной легкостью рассуждая о самых разных вещах, он уже напрямую говорит о принципах изображения в беспредметной картине и обнаруживает при этом близость идеям Г. Вельфлина о периодической смене стилей в истории искусства задолго до знакомства с текстами немецкого теоретика [Шкловский, 1993, с. 25]. В заметке «Пространство в живописи и супрематисты» (1919) Шкловский заявляет, что «во всяком случае, геометрически-кубистический стиль периодически захватывал искусство», и, делая акцент на особых заслугах супрематизма, добавляет: «я не думаю, что живопись навсегда останется беспредметной» [Шкловский, 1990, с. 98].
Требование обновления вещей взято из книги, в которой под одной обложкой собраны статьи, посвященные литературе и кино. Проблема кино как возможного коррелята литературы обнажается здесь за счет композиционного отбора ранее опубликованных текстов[178]. В первой части, так и озаглавленной – «Литература», Шкловский полностью воспроизводит агрессивный пафос своих ранних утверждений о самодостаточности формы, после чего переходит к рассмотрению собственно кинематографа. Свои рассуждения о сущности кино Шкловский начинает довольно неожиданно. Следует, по его мнению, навсегда оставить попытки литературы усвоить структурные признаки кинематографа. Искусство – мир континуальный, обыденность – мир дискретный. Прерывность впечатления, имманентная кинематографу, создает предпосылки не видения, но узнавания и тем самым противостоит остранению, понимаемому как синоним эстетической функции. Все еще выступая здесь в качестве теоретического адепта русской версии футуризма, Шкловский понимает искусство как средство возвращения ощутимости окружающему миру и, следовательно, его реального преобразования. В искусстве для него все реально, ибо остранено, в обыденности все, напротив, ирреально, поскольку автоматизировано и не может быть «пережито». Потому его и настораживает тот факт, что кино «не движется, а как бы движется. Чистое движение, движение как таковое никогда не будет воспроизведено кинематографом. Кинематограф может иметь дело только с движением-знаком, движением смысловым. Не просто движение, а движение-поступок – вот сфера кино» [Шкловский, 1923 (b), с. 25]. Выходит, кино не имеет отношения к искусству. Это жизнь, иначе говоря, скука автоматизма. Любопытно, как это «реакционное» отторжение сменяется у Шкловского «прогрессивным» принятием и далее многолетней работой в индустрии кино?
Витализм Бергсона, которым был увлечен Шкловский на рубеже 1910-1920-х годов, подтолкнул статическую дихотомию «материала» и «приема» к ее динамическому развертыванию в раннюю формалистскую теорию сюжета. Идеи автоматизации восприятия в потоке жизни, предотвращения автоматизации силами искусства, а также вытекающая отсюда мысль о прерывности и непрерывности как о характеристиках «практического» и «поэтического» мировосприятия напрямую восходила к трактату Бергсона «Материя и память» (1896) [Curtis, 1976, р. 111–112]. Первичное освоение этих понятий на материале литературы, приведшее Шкловского к концепции остранения, имело характер абсолютной проекции, пренебрегавшей неизбежным искажением объекта в его непрерывном становлении. Приветствуя прогресс искусства, Шкловский не мог не догадываться об этих недостатках своей теории, коль скоро стремился уловить движение и смену литературных форм, а не только их раз и навсегда заданное распределение. Ближайшей аналогией прогресса как развития оказался сюжет произведения, послуживший рабочей моделью динамики и смены. Скорее всего обращение Шкловского к кино шло по следам бергсоновской модели «чистого движения», описанной в трактате «Творческая эволюция» (1907).
Рассуждая о возможности зафиксировать динамику жизни, Бергсон приводит метафору кинематографа, позволяющую уловить природу перцепции. Кино знаменует собой отказ считать какой-то момент визуального восприятия привилегированным для фиксации (как это имеет место в живописи) и возвращает равноправную индивидуальность каждому моменту движения – абстрактного движения вообще [Бергсон, 1999 (а), с. 293]. В механизме восприятия Бергсон усматривает кинематографическую природу, поскольку сознание откладывает в памяти дискретные снимки реальности, нанизывая их на воображаемую ось внутреннего опыта. Бергсон описывает это следующим образом: «С непрерывности известного становления я сделал ряд снимков, которые и соединил между собой становлением вообще. Но, понятно, я не могу на этом остановиться. То, что не может быть определено, не может быть представлено: о “становлении вообще” я имею только словесное знание» [Там же, с. 295].
Констатация дискурсивной природы представления провоцирует интерес к кино, которое движется как бы само по себе, не требуя активности воспринимающего. В кино рассказ не требует посредничества письма, хотя осмысление киносюжета неизбежно прибегнет к помощи слов. Сюжет как принцип динамической организации материала оказывается концептуальным звеном, связывающим взгляд со словом. Более того, сюжет – это то, что остается неповрежденным при взаимном транспонировании видов искусства в силу своего универсального, архетипического характера. Когда Шкловский говорит о том, что «невозможен перевод» [Шкловский, 1923 (b), с. 19], он имеет в виду, что попытка пересказать «содержание» произведения другими словами или средствами другого искусства неизбежно обернется новым произведением. Сюжет, как организованная конструкция, имеет функциональную природу и потому служит базой типологического изучения искусств, на что ранний формализм налагал запрет. Проблематика сюжета отменяет этот запрет и ставит во главу угла (пока еще апофатическое) сравнение форм искусства [Ханзен-Леве, 2001, с. 327–328]. Кино демонстрирует литературе работу сюжета в чистом виде, а литература, в свою очередь, создает возможность дискурсивной рефлексии визуального опыта.
Идеи Шкловского о неопределенности кинематографа в отношении искусства и о возможных путях его дискурсивного освоения имплицируют любопытный полемический диалог с такими фигурами французской кинокритики, как Луи Деллюк и Жан Эпштейн[179]. Первый был известен в России, в 1924 г. были переведены сразу две его книги: «Фотогения кино» и «В дебрях кинематографа». Второй никогда не переводился и был, скорее, практически неизвестен. Обоих можно назвать «формалистами наоборот».
Искусство, по Деллюку, есть способ работы человека с окружающей красотой, осознать которую мешает обыденность. Однако искусство не просто фиксирует, но преображает мир, зритель в театре и посетитель музея видят перед собой результат чьей-то творческой воли. В кино дело обстоит прямо противоположным образом. «Кино правомерно стремится к подавлению искусства, обнаруживая нечто по ту сторону искусства, а именно саму жизнь» [Delluc, 1988, р. 137]. Эта стилизация жизни представляет собой ожившую фотографию. Фотография для Деллюка – это «фрагмент жизни», который хорош именно своей случайностью. «Гораздо менее привлекательна фотография, когда хотят сделать из нее искусство. Все эти позы, все эти, словно завороженные, лица перед аппаратом – это окаменевшая жизнь, это уже больше не жизнь» [Деллюк, 1924, с. 20]. Искусство здесь смешивается с искусственностью. Однако ясно, что, наделяя фиксацию жизни положительным знаком и видя за ней будущее визуальности, Деллюк отказывает в этом будущем традиционному искусству, так как полагает его репрессивным по отношению к зрителю. Кино в представлении Деллюка возможно только как бессюжетное, строящееся на смене зрительных впечатлений, которые порождаются самой реальностью, а не ее искаженным подобием. Здесь нет места обману: «Молодая девушка в кино должна быть действительно молодой. Такова логика кино» [Там же, с. 75]. Семиотические отношения не распознаются именно в структуре сверхсемиотического, т. е. самого недоверчивого и недостоверного культурного продукта. Свойству знаковости Деллюк противопоставляет идею о внутренней энергетике самой вещи, усиливающейся при попадании в кадр. Съемка трактуется Деллюком как процесс усиления, а не
репродукции, т. е. представляет собой постижение сути видимых вещей в духе платоновской феноменологии. Если смысл фотографии сводится к механической демонстрации, то смысл кино состоит в столкновении внешнего восприятия и внутреннего опыта. На этом основана теория фотогении[180], которая «возникает на пересечении некоторых свойств изображаемого на экране предмета и выразительных свойств кинематографа, проецирующих на эти предметы элементы “внутреннего видения”, ищущего истину и красоту в мире» [Ямпольский, 1993, с. 47]. Фотогения – это специфическое свойство вещи, как бы специально созданной для кино. Оно состоит не только в визуальной аттрактивности вещи, но и в некой смысловой прибавке, сводящейся к преодолению случайности фотографии и созданию эффекта творчески переосмысленного зрелища, сближающего кино с искусством. Закономерно, что первоначальное отрицание причастности кино к сфере искусства в дальнейшем[181] обернулось его пропорционально усиленным утверждением именно в этом качестве, пусть и с принципиально иным пониманием задач искусства как такового. Забегая вперед, заметим, что это обстоятельство существенно сближает Деллюка со Шкловским, а именно позволяет увидеть общность теорий авангарда в России и во Франции независимо от их конкретного наполнения. Радикальность Деллюка состояла в тотальном овеществлении человеческого лица и его превращении в некий абстрактный объект самодостаточного созерцания. Лицо на экране является носителем собственного смысла, а не передатчиком информации. При этом оно не замещает самое себя, более того, вообще не может трактоваться как знак, будучи разве что иррациональной функцией «природного языка», чьи «тексты» человек может понять лишь интуитивно[182].
Несмотря на сходное с Деллюком понимание искусства как автономной практики, Шкловский не ищет красоты и истинной сути вещей. Если Деллюк превращает актера в вещь и погружается в его созерцание, то Шкловский полагает, что вещь в кино превращается в актера и требует от нее осмысленного действия. Несмотря на то что оба теоретика сходятся в трактовке реальности как пространства автоматизации и стремятся к выработке универсальной модели его преодоления, их мысли о задачах кино как эффекта реальности противоположны. Любопытно, что превращение актера в вещь сообщает его лицу эффект маски. С этой же проблемой были связаны в начале 1920-х годов поиски русских теоретиков «эксцентризма» – группы ФЭКС и раннего Эйзенштейна во время постановки спектакля «Мудрец» в театре Пролеткульта. Типологически они перекликались с мыслями Жана Эпштейна, продолжателя Деллюка. Для него именно «чистая» выразительность лица, превращенного на экране в маску, оказывается презумпцией его знаковости: «Знаковость вещи на экране, согласно Эпштейну, приводит к усилению ее индивидуальности (видимого аспекта), но усиление видимого, дистиллируясь в объективе, умножает знаковость: возникает платоническая “идея идеи”, “квадратный корень идеи”» [Ямпольский, 1988, с. 114]. Другими словами, фотогения предмета оказывается следствием встречных процессов, а не подмены одного другим. Отсюда следует мысль о сочетании выразительных изображений, что в отличие от Эпштейна, последовательно отстаивавшего позиции феноменолога, приводит теоретиков «эксцентризма» и формализма к проблеме контекста[183].
Деллюк, изначально отделявший кино от искусства, оказывается насквозь «эстетичен» в приписывании кинематографу способности раскрыть конечный имманентный смысл вещей, тогда как Шкловский с его идеей механистической смены чистых форм, пытается защищать искусство от сближения с кино, которое «есть дитя прерывного мира» [Шкловский, 1923 (b), с. 23]. Непрерывным оно становится тогда, когда в нем проступает сюжет. Ведя свое происхождение от литературы, он сообщает своему носителю свойство текстуальности. Здесь и происходит переворачивание соотношения литературы как «реального» движения и кино как движения мнимого: знаковая (по Шкловскому, недостоверная) функция кино обратно проецируется на литературу через сюжетную аналогию и, в конечном счете, имплицирует знаковость самой литературы. Памятуя о бергсоновской идее «кинематографичности» мышления, можно предположить, что здесь Шкловский сталкивается с проблемой убедительной недостоверности искусства. Размышления в этом направлении обусловливают пересмотр раннеформалистского атомизма в пользу диалектического изучения смены художественных форм, которые отсылают уже не только к себе самим, но, по крайней мере, друг к другу. Существенной здесь оказывается и констатация невозможности перевода без кардинального изменения конструкции произведения, имеющая весьма глубокие следствия. Отсюда вырастает идея принципиальной конфликтности истории искусства, в которой наследование идет «не от отца к сыну, а от дяди к племяннику» [Шкловский, 1990, с. 121]. Разность величин, их неконтактность лишь подстегивает их взаимодействие. Непосредственно к ней восходит обогащенная опытом соссюровской лингвистики мысль Тынянова о соотнесении элементов внутри текста и между текстами, легшая в основу структурно-типологического подхода.
3. Юрий Тынянов о феноменологии кино
Переход на каждый последующий метауровень конструируемого предмета заставляет пересматривать концепцию в целом. Остановившись на констатации сюжетной природы кино, Шкловский надолго углубился в построение персональной метапоэтики [Левченко, 2003, с. 63–111]. Когда обстоятельства сложились так, что он переместился в Москву и оказался преимущественно среди практиков, а не кабинетных теоретиков кино, дальнейшие попытки построения нормативной грамматики кино не имели смысла, теория в лице других членов ОПОЯЗа ушла вперед. Двигателем этого рывка был Тынянов, ставивший во главу угла принцип соотнесения элементов, который позднее лег в основу структурного подхода. Субстанциалистская в своей основе идея «движения из неподвижности» (Бергсон) была чужда Тынянову, он полагал «смысловое движение» результатом взаимодействия соседних элементов внутри текста и соседних текстов в единстве более высокого порядка. Движение не самодостаточно, но является мотивировкой семантической трансформации. Значение элемента рассматривалось Тыняновым не в отрыве от своего носителя, а в качестве его необходимого свойства, что восходило к выдвинутой Соссюром инструментальной метафоре знака как двустороннего листа бумаги.
Для Тынянова «смысловая вещь», возникающая у Шкловского как функция остраненного сюжета[184], оказывается результатом не столько нестандартного видения (которое перестраивает фотогению самой вещи), сколько стилистической обработки материала с целью его превращения в организованное и внятное сообщение. Такой стилистической обработкой является монтаж, выдвигающий на передний план идею «конструктивного принципа». Будучи дискретным по сути, монтаж добивается эффекта континуальности в сознании воспринимающего. Монтаж как эксперимент (например, в мастерской Льва Кулешова) ценен не сам по себе, а как подготовительная фаза к созданию семантически насыщенных сообщений, совмещающих в едином потоке все многообразие формальных тематических, идеологических планов, не существующих в отрыве друг от друга (Эйзенштейн). Логика развития монтажного кино, синхронно воспринимаемая формалистами, подтверждает правомерность выдвинутой аналогии со словесностью, которая «отсылает к общему понятию языка как знаковой системы (в соссюрианском смысле), обладающей семантическим и синтаксическим планом» [Ханзен-Леве, 2001, с. 334]. Такая параллель программирует дальнейшее освоение пространства кино средствами лингвистической семиотики, в ходе которого объект описывается все более детально и с неизбежным усилением сигнализирует о своей когерентности естественному языку в его литературном бытовании.
Такая инерция обозначилась не сразу. В своей первой серьезной работе о кино, появившейся в первом новогоднем номере газеты «Жизнь искусства» за 1924 г., Тынянов еще находится во власти понятий, характеризующих ранний период развития формального метода. Он делает акцент на максимальной условности кино (называя ее «абстрактностью») и его тяготении к абстрагированию отдельных элементов визуального и акустического ряда. Тезисная форма статьи «Кино – слово – музыка» не отражает целостной концепции Тынянова, да, скорее, ее и не было. Зато для полемики это лаконичное заострение в самый раз. Кино утверждается здесь как новое, актуальное искусство, «фирменный знак» эпохи, стремящейся разложить мир на части и собрать его заново. Мимика актера и его беззвучная, активно достраиваемая речь здесь раскладываются и устремляются к пределам выразительности [Тынянов, 1977, с. 321]. Понимание кино определяется практикой эксцентризма – не пройдет и полугода, как Тынянов увидит «Похождения Октябрины», снятые силами мастерской ФЭКС, и увлечется идеей совместного проекта модернизации классики («Шинель», «СВД»).
Выход к проблеме сюжета у Шкловского и поиски Тыняновым адекватной модели, увязывающей воедино словесный, музыкальный и визуальный ритм, сняли проблему фотогении предмета, но не отменили вопроса о существе преображающего взгляда и структуре видения в кино (будь оно сюжетно ориентировано или просто остранено). В этой связи весьма значимый для формалистов резонанс обнаруживают выходившие в середине 1920-х годов работы Белы Балаша.
Его можно считать идейным антиподом Деллюка. Их роднит преклонение перед зрительной способностью (Балаш испытал влияние эстетики Карла Гауптмана), но полностью разъединяет стремление к тотальной антропоморфизации мира. Для Балаша, как и для Шкловского, всякая вещь есть участник жизненного движения (тут, несомненно, сыграло свою роль то, что Балаш учился у Г. Зиммеля и Бергсона). Вещь, обретая на экране свое выразительное «лицо», трактуется как носитель специфического языка, первоисточником которого является выразительное движение [Балаш, 1995, с. 13]. Постулируя языковую природу фильма, Балаш идет дальше Деллюка и расходится со стихийной (не языковой, но феноменологической) семиотикой Эпштейна. Центральная для Балаша категория «видимого человека» воплощает принцип одновременного присутствия «на одной поверхности различных смысловых слоев» [Ямпольский, 1993, с. 186], в чем состоит конструктивное отличие языка кино от языка литературы. Абсолютизация иконического понимания природы языка не оставляет места для дискурсивности. С точки зрения Балаша, литература отличается от кино глубиной (другими словами, возможщностью размышлять на отвлеченные темы), а кино превосходит литературу в плане экспрессивной лаконичности и плотности. «Видимый человек» призван достроить образ «человека читаемого» и сообщить ему (вернуть?) интеллектуальную остроту.
Балаш не менее, если не более противоречив, нежели Деллюк и Шкловский. Поэтому в его концепции «видимого человека» присутствует как сопротивление литературе, так и ее безотчетное принятие в качестве коррелята кино. «В кинематографе вся суть не в эпосе, а в лирике» [Балаш, 1995, с. 30], – говорит он, но почти сразу же оговаривается: «Лирика по своим выразительным средствам несравненно более богата и тонка, чем какая бы то ни было литература» [Там же, с. 37]. Терминологические перифразы часто создают почву для перекличек с формалистами, но всякий раз подчеркивают интерес к различным предметам в одном и том же объекте. В этом смысле очень показательны трактовки монтажа. Для Балаша это ритм картины, ее темп и последовательность, соответствующие стилю в литературе [Там же, с. 65], но принципиально несводимые к словесной формуле. Для Тынянова образца 1926 г. это воплощенная в сценарии организация материала, способ внесения в кино идеологии (в широком смысле) стилистическими средствами [Тынянов, 1977, с. 324].
Начавшаяся в первой половине 1920-х годов работа в области семантики стихотворной речи подтолкнула Тынянова к определению ряда важных понятий. «Ритм как конструктивный фактор стиха», «единство и теснота стихового ряда», пара «автофункции» и «синфункции», предшествующая «парадигматике» и «синтагматике» в пражском структурализме[185]. Эти понятия и их теоретический контекст заставили взглянуть на кино как аналог не прозаической, повествовательной, но поэтической речи. Она наглядно сочетает два типа соотнесенности элементов: по вертикали (ритмическое повторение сегментов, аналогичное ранним монтажным опытам остраняющего повтора) и по горизонтали (собственно сюжет, которому соответствует развертывание смысла монтажной фразы, чей синтаксис ориентирован на достижение семантического эффекта). Элементы кинотекста оказываются значимы именно как элементы многомерной структуры, которые отсылают друг к другу и одновременно за свои пределы, в мир референтов. Если Балаш со своей трактовкой видимого считает, что кино – это текст, который сводится к зрелищу чистого движения, то Тынянов, хоть и принимает концепцию «видимого человека» применительно к «дознаковому» кино, считает, что современный смысловой монтаж эксплуатирует лингвистические модели порождения знаков и характеризуется повышенной систематизацией визуального материала. Эти идеи были наиболее полно изложены Тыняновым в статье «Об основах кино», работа над которой совпала с размышлениями о литературной эволюции, выросшими из исследований по исторической семантике стиха и литературы в целом (проблема рецептивного фона, постоянство соотношения традиции и новаторства и переменный характер культурной нормы, и т. д.). Исходя из литературоцентристской модели, Тынянов пытается описать процесс обретения киноискусством своей эстетической идентичности: «Таков путь эволюции приемов кино: они отрываются от внешних мотивировок и приобретают “свой” смысл; иначе говоря, они отрываются от одного, внеположного смысла – и приобретают много “своих” внутриположных смыслов. Эта множественность, многозначность смыслов и дает удержаться известному приему, делает его “своим” элементом искусства, в данном случае – “словом” кино» [Там же, с. 334].
Таким образом, принципиальной новацией Тынянова по сравнению с начальным периодом формалистской теории кино можно считать аналогию между кино и поэтической речью, которая также тяготеет к обнажению своей структуры, но в отличие от остраняющего сюжета у Шкловского регулярно и четко делится по уровням, т. е. представляет собой систему. С другой стороны, смысловое движение монтажного кинотекста предстает как следствие определенной целевой установки автора, возникающей с учетом местоположения данного текста в ряду других текстов. Телеологический аспект движения сообщает ему качество эволюции, связывающей воедино теоретическую и историческую поэтику искусства. Кино как наиболее «горячий» объект, находящийся в процессе синхронного становления, по наглядности выгодно отличается от привычного филологического материала. Появление в 1926 г. при ГИИИ отдельного Кинокомитета под началом А. Гвоздева и при активном участии формалистов означало, что кино имеет шансы стать основной сферой приложения созданного формалистами «проекционного метода»[186] и полигоном его дальнейших коррекций.
4. Борис Эйхенбаум и спор о «главном»
Книги Деллюка и Балаша появились в русском переводе одновременно, предваряя выход программного формалистского сборника «Поэтика кино» (1927)[187], куда вошла вышеупомянутая статья Тынянова «Об основах кино». Можно предположить, что выход этих книг, вызвавших широкий резонанс в России[188], был одним из этапов конструирования поля полемики, когда сменяющие друг друга западные концепции вынужденно синхронизировались в сознании читателя, а корреспондирующие с ними оригинальные разработки выступали как успешное преодоление специально подобранного материала. Это согласуется с идеологией страны, придумывающей себе прошлое и ставящей себя на пик актуальности, но пока не нашло веских подтверждений.
Задавая дальнейшую перспективу перечтения формалистской теории кино, стоит упомянуть о старательно выстроенной синтетической позиции, которую занимает Борис Эйхенбаум. Ему было не привыкать сглаживать технологический абсолютизм Шкловского и увлечение Тынянова диалектикой. В статье «Проблемы киностилистики» (1927), опубликованной в том же сборнике «Поэтика кино», Эйхенбаум формулирует базовые положения своего подхода. Он не отрицает принцип фотогении, считая ее следствием выбора материала и признавая, что вещь в кино усиливает свою неповторимую энергетику[189]. В то же время изначальный смысл вещи может быть выражен исключительно в тексте, т. е. в процессе развертывания киноповествования. «Согласно Эйхенбауму, отельный жест в фильме может иметь разные значения, подобно слову в словаре. Но только их взаимосвязь придает им содержательный смысл или смысловое содержание. Монтаж, по Эйхенбауму, – синтаксис фильма. <…> Содержательные знаки сцепляются в кинопредложения, которые соотносятся между собой благодаря определенному типу киномонтажа» [Майланд-Хансен, 1993, с. 117]. Здесь намечаются попытки построения грамматики монтажа, которая воспроизводит классическую для словесной поэтики дихотомию описательности и повествовательности. Первый случай соответствует регрессивному типу кинофразы, «при котором зрителю приходится осмыслить детали после общего плана – вернуться к ним обратно» [Поэтика, 2001, с. 31], второй – к прогрессивному, который «ведет от общего плана к деталям, так что зритель как бы сам постепенно приближается к картине и с каждым кадром все больше и больше ориентируется в происходящих на экране событиях». Показательна сама мотивировка столь прямого прочтения кинотекста в лингвистическом коде: для Эйхенбаума кино неустанно провоцирует внутреннюю речь, чье протекание в сознании адресата зеркально отражает ситуацию восприятия литературы (и речи адресанта вообще). «Говоря в терминах семиотики Пирса, символические знаки в литературе порождают сложные иконические структуры, тогда как иконические знаки в кино стремятся превратиться в законченные символические, обозначения» [Galan, 1986,р. 124][190]. Помимо своеобразного «психолингвистического» критерия Эйхенбаум предлагает и сугубо культурное объяснение: в статье, вышедшей за год до «Проблем киностилистики», Эйхенбаум констатирует, что «кинокультура противостоит, как знак эпохи, культуре слова, книжной и театральной, господствовавшей в прошлом веке. Но тут-то и происходит естественная встреча кино с литературой» [Эйхенбаум, 1990, с. 5]. Искусство кино пересматривает всю предшествующую литературу под новым углом зрения, воспринимая ее как источник перекодировок и «прокручивая» смену литературных жанров в убыстренном темпе, который задается возрастающими техническими возможностями кинематографа.