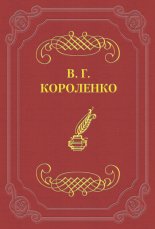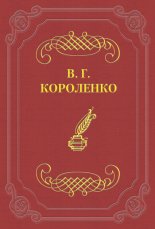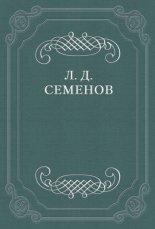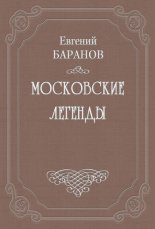Возвращение с Западного фронта (сборник) Ремарк Эрих Мария

– На сей раз, Робби, это был владелец трактира, – сказал он. – Трактирщик, который получил наследство от тетки, торговавшей оливковым маслом и уксусом. – Его передернуло. – Просто ужасно!
– Послушай, Фердинанд, – вмешался Ленц, – зачем такие сильные выражения? Разве тебя не кормит самое прекрасное из человеческих качеств – благочестие?
– Ерунда! – возразил Грау. – Кормлюсь я за счет того, что у людей иногда пробуждается сознание собственной вины. А благочестие – это как раз и есть сознание своей вины. Человеку хочется оправдаться перед самим собой за то, что он причинил или пожелал тому или другому дорогому покойнику. – Он медленно провел ладонью по разгоряченному лицу. – Ты и не подозреваешь, сколько раз мой трактирщик желал своей тетушке сыграть в ящик. Зато теперь он заказывает ее портрет в самых изысканных тонах и вешает этот портрет над диваном. Так она ему больше нравится. Благочестие! Обычно человек вспоминает о своих добрых свойствах, когда уже слишком поздно. Но он все равно растроган – вот, мол, каким благородным мог бы я быть. Он умилен, кажется себе добродетельным. Добродетель, доброта, благородство… – Он махнул своей огромной ручищей. – Пусть все это будет у других. Тогда их легче обвести вокруг пальца.
Ленц усмехнулся:
– Ты расшатываешь устои человеческого общества, Фердинанд!
– Стяжательство, страх и продажность – вот устои человеческого общества, – ответил Грау. – Человек зол, но он любит добро… когда его творят другие… – Он протянул Ленцу свой стакан. – Вот, а теперь налей мне и перестань болтать. Дай и другим вставить словечко.
Я перелез через диван к Кестеру. Меня внезапно осенило.
– Отто, сделай мне одолжение. Завтра вечером мне понадобится «кадиллак».
Браумюллер оторвался от фотографии почти совсем обнаженной креольской танцовщицы, которую уже давно и усердно сверлил взглядом.
– Ты что – научился поворачивать направо и налево? До сих пор мне казалось, что ты можешь ехать только прямо, да и то если кто-то ведет машину вместо тебя.
– Ты, Тео, помалкивай, – возразил я. – На гонках шестого числа мы сделаем из тебя котлету.
От хохота Браумюллер начал кудахтать.
– Так как же, Отто? – взволнованно спросил я.
– Машина не застрахована, Робби, – сказал Кестер.
– Я буду ползти как улитка и сигналить как междугородный автобус. Проеду всего лишь несколько километров по городу.
Полуприкрыв глаза, Отто улыбнулся:
– Ладно, Робби, изволь.
– Скажи, а машина тебе понадобилась к новому галстуку, не так ли? – спросил подошедший к нам Ленц.
– Заткнись, – сказал я и отодвинул его.
Он не отставал.
– Ну-ка, детка, покажи галстучек! – Он потрогал шелк галстука. – Великолепно. Наш ребеночек в роли жиголо – наемного танцора. Ты, видать, собрался на смотрины.
– Сегодня тебе меня не обидеть. Молчал бы! Тоже мне фокусник-трансформатор!
Фердинанд Грау поднял голову.
– Говоришь, собрался на смотрины? А почему бы и нет! – Он заметно оживился. – Так и сделай, Робби. Это тебе вполне подходит. Для любви нужна известная наивность. Она тебе свойственна. Сохрани ее и впредь. Это поистине дар Божий. А лишишься его – никогда не вернешь.
– Не принимай это слишком близко к сердцу, – ухмыльнулся Ленц. – Родиться дураком не позор. А вот умереть дураком стыдно.
– Ни слова больше, Готтфрид. – Движением своей могучей руки Грау отмел его в сторону. – Не о тебе разговор, несчастный романтик с задворок. О тебе никто не пожалеет.
– Валяй, Фердинанд, выговорись, – сказал Ленц. – Выговориться – значит облегчить свою душу.
– Ты вообще лодырь, – заявил Грау. – Да еще высокопарный.
– Все мы такие, – улыбнулся Ленц. – Все живем в долг и питаемся иллюзиями.
– Вот это точно, – сказал Грау и по очереди оглядел нас из-под своих кустистых бровей. – Питаемся иллюзиями из прошлого, а долги делаем в счет будущего. – Потом он снова обратился ко мне: – Наивность, сказал я, Робби. Только завистливые люди называют ее глупостью. Не огорчайся из-за этого. Наивность – не недостаток, а, напротив, признак одаренности.
Ленц открыл было рот, но Фердинанд продолжал говорить:
– Ты, конечно, понимаешь, о чем речь. О простой душе, еще не изъеденной скепсисом и этакой сверхинтеллектуальностью. Парсифаль был глуп. Будь он поумнее – никогда не стал бы завоевывать чашу святого Грааля. В жизни побеждает только глупец. А умному везде чудятся одни лишь препятствия, и, не успев что-то начать, он уже потерял уверенность в себе. В трудные времена наивность – самое драгоценное из всего, волшебная мантия, скрывающая от тебя беды, в которые суперумник, словно загипнотизированный, то и дело попадает.
Он отпил глоток и посмотрел на меня своими огромными голубыми глазами, вправленными, точно два кусочка неба, в обрюзгшее, морщинистое лицо.
– Никогда, Робби, не стремись знать слишком много! Чем меньше знаешь, тем проще живется. Знание делает человека свободным, но и несчастным. Давай выпьем за наивность, за глупость и все, что к ним относится, – за любовь, за веру в будущее, за мечты о счастье – за божественную глупость, за потерянный рай…
Он сидел, грузный и неуклюжий, внезапно уйдя в себя и в свое опьянение, – одинокий холм неизбывной тоски. Жизнь его была разбита, и он знал – склеить обломки невозможно. Он жил в своей большой мастерской и сожительствовал со своей экономкой. Это была бесхитростная и грубоватая женщина. А Грау, несмотря на мощное телосложение, отличался ранимостью и переменчивыми настроениями. Он все никак не мог отделаться от своей полюбовницы, но для него это, вероятно, стало безразличным. Ему исполнилось сорок два. И хотя я хорошо знал, что он просто пьянствует, всякий раз, когда я видел его в таком состоянии, мне становилось страшно. У нас он бывал нечасто. Пил обычно у себя в мастерской. А от питья в одиночестве люди быстро опускаются.
На его лице мелькнула улыбка. Он сунул мне в руку рюмку:
– Пей, Робби! И спасайся! Помни о том, что я тебе говорил.
– Запомню, Фердинанд.
Ленц завел патефон. У него была куча пластинок с записями негритянских песен. Он прокрутил некоторые из них – про Миссисипи, про сборщиков хлопка и знойные ночи на берегах синих тропических рек.
VI
Патриция Хольман жила в большом желтом доме, отделенном от улицы узкой полосой газона. Подъезд был освещен фонарем. Я остановил «кадиллак». В колеблющемся свете фонаря машина поблескивала черным лаком и походила на могучего черного слона.
Я принарядился: кроме галстука, купил новую шляпу и перчатки, на мне было длинное пальто Ленца – великолепное серое пальто из тонкой шотландской шерсти. Экипированный таким образом, я хотел во что бы то ни стало рассеять впечатление от первой встречи, когда был пьян.
Я дал сигнал. Сразу же, подобно ракете, на всех пяти этажах лестницы вспыхнул свет. Загудел лифт. Он снижался, как светлая бадья, спускающаяся с неба. Патриция Хольман открыла дверь и быстро сбежала по ступенькам. На ней были короткий коричневый меховой жакет и узкая коричневая юбка.
– Алло! – Она протянула мне руку. – Я так рада, что вышла. Весь день сидела дома.
Ее рукопожатие, более крепкое, чем можно было ожидать, понравилось мне. Я терпеть не мог людей с руками вялыми, точно дохлая рыба.
– Почему вы не сказали этого раньше? – спросил я. – Я заехал бы за вами еще днем.
– Разве у вас столько свободного времени?
– Не так уж много, но я бы как-нибудь освободился.
Она глубоко вздохнула:
– Какой чудесный воздух! Пахнет весной.
– Если хотите, мы можем подышать свежим воздухом вволю, – сказал я. – Поедем за город, в лес, – у меня машина. – При этом я небрежно показал на «кадиллак», словно это был какой-нибудь старый «фордик».
– «Кадиллак»? – Она изумленно посмотрела на меня. – Ваш собственный?
– На сегодняшний вечер. А вообще он принадлежит нашей мастерской. Мы его хорошенько подновили и надеемся заработать на нем, как еще никогда в жизни.
Я распахнул дверцу:
– Не поехать ли нам сначала в «Лозу» и поужинать? Как вы думаете?
– Поедем ужинать, но почему именно в «Лозу»?
Я озадаченно посмотрел на нее. Это был единственный элегантный ресторан, который я знал.
– Откровенно говоря, – сказал я, – не знаю ничего лучшего. И потом мне кажется, что «кадиллак» кое к чему обязывает.
Она рассмеялась:
– В «Лозе» всегда скучная и чопорная публика. Поедем в другое место!
Я стоял в нерешительности. Моя мечта казаться солидным рассеивалась как дым.
– Тогда скажите сами, куда нам ехать, – сказал я. – В других ресторанах, где я иногда бываю, собирается грубоватый народ. Все это, по-моему, не для вас.
– Почему вы так думаете? – Она быстро взглянула на меня. – Давайте попробуем.
– Ладно. – Я решительно изменил всю программу. – Если вы не из пугливых, тогда вот что: едем к Альфонсу.
– Альфонс! Это звучит гораздо приятнее, – ответила она. – А сегодня вечером я вообще ничего не боюсь.
– Альфонс – владелец пивной, – сказал я. – Большой друг Ленца.
Она рассмеялась:
– По-моему, у Ленца всюду друзья.
Я кивнул:
– Он их легко находит. Вы могли это заметить на примере с Биндингом.
– Ей-богу, правда, – ответила она. – Они подружились молниеносно.
Мы поехали.
* * *
Альфонс был грузным, спокойным человеком. Выдающиеся скулы. Маленькие глаза. Закатанные рукава рубашки. Руки как у гориллы. Он сам выполнял функции вышибалы и выставлял из своего заведения всякого, кто был ему не по вкусу, даже членов спортивного союза «Верность родине». Для особенно трудных гостей он держал под стойкой молоток. Пивная была расположена удобно – совсем рядом с больницей, и он экономил таким образом на транспортных расходах.
Волосатой лапой Альфонс провел по светлому еловому столу.
– Пива? – спросил он.
– Водки и чего-нибудь на закуску, – сказал я.
– А даме? – спросил Альфонс.
– И дама желает водки, – сказала Патриция Хольман.
– Крепко, крепко, – заметил Альфонс. – Могу предложить свиные отбивные с кислой капустой.
– Сам заколол свинью? – спросил я.
– А как же!
– Но даме, вероятно, хочется что-нибудь полегче.
– Это вы несерьезно говорите, – возразил Альфонс. – Посмотрели бы сперва мои отбивные.
Он попросил кельнера показать нам порцию.
– Замечательная была свинья, – сказал он. – Медалистка. Два первых приза.
– Ну, тогда, конечно, устоять невозможно! – воскликнула Патриция Хольман. Ее уверенный тон удивил меня – можно было подумать, что она годами посещала этот кабак.
Альфонс подмигнул.
– Значит, две порции?
Она кивнула.
– Хорошо! Пойду и выберу сам.
Он отправился на кухню.
– Вижу, я напрасно опасался, что вам здесь не понравится, – сказал я. – Вы мгновенно покорили Альфонса. Сам пошел выбирать отбивные! Обычно он это делает только для завсегдатаев.
Альфонс вернулся.
– Добавил вам еще свежей колбасы.
– Неплохая идея, – сказал я.
Альфонс доброжелательно посмотрел на нас. Принесли водку. Три рюмки. Одну для Альфонса.
– Что ж, давайте чокнемся, – сказал он. – Пусть наши дети заимеют богатых родителей.
Мы залпом опрокинули рюмки. Патриция тоже выпила водку единым духом.
– Крепко, крепко, – сказал Альфонс и зашаркал к своей стойке.
– Нравится вам водка? – спросил я.
Она поежилась:
– Немного крепка. Но не могла же я оскандалиться перед Альфонсом.
Отбивные были что надо. Я съел две большие порции, и Патриция тоже ела с аппетитом, которого я в ней не подозревал. Мне очень нравилась ее простая и непринужденная манера держаться. Без всякого жеманства она снова чокнулась с Альфонсом и выпила вторую рюмку.
Он незаметно подмигнул мне – дескать, правильная девушка. А Альфонс был знаток. Не то чтобы он разбирался в красоте или культуре человека, но он умел верно определить его сущность.
– Если вам повезет, вы сейчас узнаете главную слабость Альфонса, – сказал я.
– Вот это было бы интересно, – ответила она. – Похоже, что у него нет слабостей.
– Есть! – Я указал на столик возле стойки. – Вот…
– Что? Патефон?
– Нет, не патефон. Его слабость – хоровое пение! Никаких танцев, никакой классической музыки – только хоры: мужские, смешанные. Видите, сколько пластинок? Все сплошные хоры. Смотрите, вот он опять идет к нам.
– Вкусно? – спросил Альфонс.
– Как дома у мамы, – ответил я.
– И даме понравилось?
– В жизни не ела таких отбивных, – смело заявила дама.
Альфонс удовлетворенно кивнул:
– Сыграю вам сейчас новую пластинку. Вот удивитесь!
Он подошел к патефону. Послышалось шипение иглы, и зал огласился звуками могучего мужского хора. Мощные голоса исполняли «Лесное молчание». Это было чертовски громкое молчание.
С первого же такта все умолкли. Альфонс мог стать опасным, если кто-нибудь не выказывал благоговения перед его хорами. Он стоял у стойки, упираясь в нее своими волосатыми руками. Музыка преображала его лицо. Он становился мечтательным – насколько может быть мечтательной горилла. Хоровое пение производило на него неописуемое впечатление. Слушая, он становился кротким, как новорожденная лань. Если в разгар какой-нибудь потасовки вдруг раздавались звуки мужского хора, Альфонс как по мановению волшебной палочки переставал драться, вслушивался и сразу же готов был идти на мировую. Прежде, когда он был более вспыльчив, жена постоянно держала наготове его любимые пластинки. Если дело принимало опасный оборот и он выходил из-за стойки с молотком в руке, супруга быстро ставила мембрану с иглой на пластинку. Услышав пение, Альфонс успокаивался, и рука с молотком опускалась. Теперь в этом уже не было такой надобности – Альфонс постарел, и страсти его поостыли, а жена умерла. Ее портрет, подаренный Фердинандом Грау, который имел здесь за это даровой стол, висел над стойкой.
Пластинка кончилась. Альфонс подошел к нам.
– Чудесно, – сказал я.
– Особенно первый тенор, – добавила Патриция Хольман.
– Правильно, – заметил Альфонс, впервые оживившись, – вы в этом понимаете толк! Первый тенор – высокий класс!
Мы простились с ним.
– Привет Готтфриду, – сказал он. – Пусть как-нибудь покажется.
Мы стояли на улице. Фонари перед домом бросали беспокойный свет на старое ветвистое дерево, и тени бегали по его верхушке. На ветках уже зазеленел легкий пушок, и сквозь неясный, мерцающий свет дерево казалось необыкновенно высоким и могучим. Крона его терялась где-то в сумерках и, словно простертая гигантская рука, в непомерной тоске тянулась к небу.
Патриция слегка поеживалась.
– Вам холодно? – спросил я.
Подняв плечи, она спрятала руки в рукава мехового жакета.
– Сейчас пройдет. Там было довольно жарко.
– Вы слишком легко одеты, – сказал я. – По вечерам еще холодно.
Она покачала головой:
– Не люблю тяжелую одежду. Хочется, чтобы стало наконец тепло. Не выношу холода. Особенно в городе.
– В «кадиллаке» тепло, – сказал я. – У меня на всякий случай припасен плед.
Я помог ей сесть в машину и укрыл ее колени пледом. Она подтянула его выше.
– Вот замечательно! Вот и чудесно. А холод нагоняет тоску.
– Не только холод. – Я сел за руль. – Покатаемся немного?
Она кивнула:
– Охотно.
– Куда поедем?
– Просто так, поедем медленно по улицам. Все равно куда.
– Хорошо.
Я запустил мотор, и мы медленно и бесцельно поехали по городу. Было время самого оживленного вечернего движения. Мотор работал совсем тихо, и мы почти бесшумно двигались в потоке машин. Казалось, что наш «кадиллак» – корабль, неслышно скользящий по пестрым каналам жизни. Проплывали улицы, ярко освещенные подъезды, огни домов, ряды фонарей, сладостная, мягкая взволнованность вечернего бытия, нежная лихорадка озаренной ночи, и над всем этим, между краями крыш, свинцово-серое большое небо, на которое город отбрасывал свое зарево.
Девушка сидела молча рядом со мной; свет и тени, проникавшие сквозь стекло, скользили по ее лицу. Иногда я посматривал на нее; я снова вспомнил тот вечер, когда впервые увидел ее. Лицо ее стало серьезнее, оно казалось мне более чужим, чем за ужином, но очень красивым; это лицо еще тогда поразило меня и не давало больше покоя. Было в нем что-то от таинственной тишины, которая свойственна природе – деревьям, облакам, животным, – а иногда и женщине.
Мы ехали по тихим загородным улицам. Ветер усилился, и казалось, что он гонит ночь перед собой. Вокруг большой площади стояли небольшие дома, уснувшие в маленьких садиках. Я остановил машину.
Патриция Хольман потянулась, словно просыпаясь.
– Как хорошо, – сказала она. – Будь у меня машина, я бы каждый вечер совершала на ней медленные прогулки. Все кажется совсем неправдоподобным, когда так бесшумно скользишь по улицам. Все наяву и в то же время – как во сне. Тогда по вечерам никто, пожалуй, и не нужен…
Я достал пачку сигарет.
– А ведь вообще вечером хочется, чтобы кто-нибудь был рядом, правда?
Она кивнула:
– Вечером, да… Когда наступает темнота… Странная это вещь.
Я распечатал пачку:
– Американские сигареты. Они вам нравятся?
– Да, больше других.
Я дал ей огня. Теплое и близкое пламя спички осветило на мгновение ее лицо и мои руки, и мне вдруг пришла в голову безумная мысль, будто мы давно уже принадлежим друг другу.
Я опустил стекло, чтоб вытянуло дым.
– Хотите немного поводить? – спросил я. – Это вам доставит удовольствие.
Она повернулась ко мне:
– Конечно, хочу, только я не умею.
– Совсем не умеете?
– Нет. Меня никогда не учили.
В этом я усмотрел какой-то шанс для себя.
– Биндинг мог бы давным-давно обучить вас, – сказал я.
Она рассмеялась:
– Биндинг слишком влюблен в свою машину. Никого к ней не подпускает.
– Это просто глупо, – заявил я, радуясь случаю уколоть толстяка. – Вы сразу же поедете сами. Давайте попробуем.
Все предостережения Кестера развеялись в прах. Я распахнул дверцу и вылез, чтобы пустить ее за руль. Она всполошилась:
– Но ведь я действительно не умею водить.
– Неправда, – возразил я. – Умеете, но не догадываетесь об этом.
Я показал ей, как переключать скорости и выжимать сцепление.
– Вот, – сказал я, закончив объяснения. – А теперь трогайте!
– Минутку! – Она показала на одинокий автобус, медленно кативший по улице. – Не пропустить ли его?
– Ни в коем случае!
Я быстро включил скорость и отпустил педаль сцепления. Патриция судорожно вцепилась в рулевое колесо, напряженно вглядываясь вперед.
– Боже мой, мы едем слишком быстро!
Я посмотрел на спидометр:
– Прибор показывает ровно двадцать пять километров в час. На самом деле это только двадцать. Неплохой темп для стайера.
– А мне кажется, целых восемьдесят.
Через несколько минут первый страх был преодолен. Мы ехали вниз по широкой прямой улице. «Кадиллак» слегка петлял из стороны в сторону, будто его заправили не бензином, а коньяком. Иногда колеса почти касались тротуара. Но постепенно дело наладилось, и все стало так, как я и ожидал: в машине были инструктор и ученица. Я решил воспользоваться своим преимуществом.
– Внимание, – сказал я. – Вот полицейский!
– Остановиться?
– Уже слишком поздно.
– А что, если я попадусь? Ведь у меня нет водительских прав.
– Тогда нас обоих посадят в тюрьму.
– Боже, какой ужас! – Испугавшись, она пыталась нащупать ногой тормоз.
– Дайте газ! – приказал я. – Газ! Жмите крепче! Надо гордо и быстро промчаться мимо него. – Наглость – лучшее средство в борьбе с законом.
Полицейский не обратил на нас внимания. Девушка облегченно вздохнула.
– До сих пор я не знала, что регулировщики выглядят как огнедышащие драконы, – сказала она, когда мы проехали несколько сот метров.
– Так они выглядят, если наехать на них машиной. – Я медленно подтянул ручной тормоз. – Вот великолепная пустынная улица. Свернем в нее. Здесь можно хорошенько потренироваться. Сначала поучимся трогать с места и останавливаться.
Беря с места на первой скорости, Патриция несколько раз заглушала мотор. Она расстегнула жакет:
– Что-то жарко мне стало! Но я должна научиться!
Внимательная и полная рвения, она следила за всем, что я ей показывал. Потом она сделала несколько поворотов, издавая при этом взволнованные короткие восклицания. Фары встречных машин вызывали в ней дьявольский страх и такую же гордость, когда они оказывались позади. Вскоре в маленьком пространстве, полуосвещенном лампочками приборов на контрольном щитке, возникло чувство товарищества, какое быстро устанавливается в практических делах, и, когда через полчаса я снова сел за руль и повез ее домой, мы чувствовали такую близость, будто рассказали друг другу историю всей своей жизни.
Недалеко от Николаиштрассе я опять остановил машину. Над нами сверкали красные огни кинорекламы. Асфальт мостовой переливался матовыми отблесками, как выцветшая пурпурная ткань. Около тротуара блестело большое черное пятно – у кого-то пролилось масло.
– Так, – сказал я, – теперь мы имеем полное право опрокинуть по рюмочке. Где бы нам это сделать?
Патриция Хольман задумалась на минутку.
– Давайте поедем опять в этот милый бар с парусными корабликами, – предложила она.
Меня мгновенно охватило сильнейшее беспокойство. Я мог дать голову на отсечение, что там сейчас сидит последний романтик. Я заранее представлял себе его лицо.
– Ах, – сказал я поспешно, – что там особенного? Есть много более приятных мест…
– Не знаю… Мне там очень понравилось.
– Правда? – спросил я изумленно. – Вам понравилось там?
– Да, – ответила она смеясь. – И даже очень…
«Вот так раз! – подумал я. – А я-то ругал себя за это!» Я еще раз попытался отговорить ее:
– Но по-моему, сейчас там битком набито.