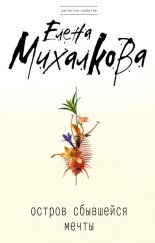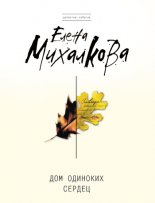Гаргантюа и Пантагрюэль Рабле Франсуа

Повесть о преужасной жизни великого Гаргантюа, отца Пантагрюэля, некогда сочиненная магистром Алькофрибасом Назье, извлекателем квинтэссенции
Книга, полная пантагрюэлизма
К читателям
- Читатель, друг! За эту книгу сев,
- Пристрастия свои преодолей.
- Да не введет она тебя во гнев;
- В ней нет ни злобы, ни пустых затей.
- Пусть далеко до совершенства ей,
- Но посмешит она тебя с успехом.
- Раз ты тоскуешь, раз ты чужд утехам,
- Я за иной предмет не в силах взяться:
- Милей писать не с плачем, а со смехом, –
- Ведь человеку свойственно смеяться.[1]
От автора
Достославные пьяницы и вы, досточтимые венерики (ибо вам, а не кому другому, посвящены мои писания)! В диалоге Платона под названием Пир Алкивиад, восхваляя своего наставника Сократа, поистине всем философам философа, сравнил его, между прочим, с силенами[2]. Силенами прежде назывались ларчики вроде тех, какие бывают теперь у аптекарей; сверху на них нарисованы смешные и забавные фигурки, как, например, гарпии, сатиры, взнузданные гуси, рогатые зайцы, утки под вьючным седлом, крылатые козлы, олени в упряжке и разные другие занятные картинки, вызывающие у людей смех, – этим именно свойством и обладал Силен, учитель доброго Бахуса, – а внутри хранились редкостные снадобья, как-то: меккский бальзам, амбра, амом, мускус, цибет, порошки из драгоценных камней и прочее тому подобное. Таков, по словам Алкивиада, и был Сократ: если бы вы обратили внимание только на его наружность и стали судить о нем по внешнему виду, вы не дали бы за него и ломаного гроша – до того он был некрасив и до того смешная была у него повадка: нос у него был курносый, глядел он исподлобья, выражение лица у него было тупое, нрав простой, одежда грубая, жил он в бедности, на женщин ему не везло, не был он способен ни к какому роду государственной службы, любил посмеяться, не дурак был выпить, любил подтрунить, скрывая за этим божественную свою мудрость. Но откройте этот ларец – и вы найдете внутри дивное, бесценное снадобье: живость мысли сверхъестественную, добродетель изумительную, мужество неодолимое, трезвость беспримерную, жизнерадостность неизменную, твердость духа несокрушимую и презрение необычайное ко всему, из-за чего смертные так много хлопочут, суетятся, трудятся, путешествуют и воюют.
К чему же, вы думаете, клонится это мое предисловие и предуведомление? А вот к чему, добрые мои ученики и прочие шалопаи. Читая потешные заглавия некоторых книг моего сочинения[3], как, например, Гаргантюа, Пантагрюэль, Феспент, О достоинствах гульфиков, Горох в сале cum commento[4] и т. п., вы делаете слишком скороспелый вывод, будто в этих книгах речь идет только о нелепостях, дурачествах и разных уморительных небывальщинах; иными словами, вы, обратив внимание только на внешний признак (то есть на заглавие) и не вникнув в суть дела, обыкновенно уже начинаете смеяться и веселиться. Но к творениям рук человеческих так легкомысленно относиться нельзя. Вы же сами говорите, что монаха узнают не по одежде, что иной, мол, и одет монахом, а сам-то он совсем не монах, и что на ином хоть и испанский плащ, а храбрости испанской в нем вот настолько нет. А посему раскройте мою книгу и вдумайтесь хорошенько, о чем в ней говорится. Тогда вы уразумеете, что снадобье, в ней заключенное, совсем не похоже на то, какое сулил ларец; я хочу сказать, что предметы, о которых она толкует, вовсе не так нелепы, как можно было подумать, прочитав заглавие.
Положим даже, вы там найдете вещи довольно забавные, если понимать их буквально, вещи, вполне соответствующие заглавию, и все же не заслушивайтесь вы пенья сирен, а лучше истолкуйте в более высоком смысле все то, что, как вам могло случайно показаться, автор сказал спроста.
Вам когда-нибудь приходилось откупоривать бутылку? Дьявольщина! Вспомните, как это было приятно. А случалось ли вам видеть собаку, нашедшую мозговую кость[5]? (Платон во II кн. De rep.[6] утверждает, что собака – самое философское животное в мире.) Если видели, то могли заметить, с каким благоговением она сторожит эту кость, как ревниво ее охраняет, как крепко держит, как осторожно берет в рот, с каким смаком разгрызает, как старательно высасывает. Что ее к этому понуждает? На что она надеется? Каких благ себе ожидает? Решительно никаких, кроме капельки мозгу. Правда, эта «капелька» слаще многого другого, ибо, как говорит Гален в III кн. Facu. natural.[7] и в XI Dе usu parti.[8], мозг – это совершеннейший род пищи, какою нас наделяет природа.
По примеру вышеупомянутой собаки вам надлежит быть мудрыми, дабы унюхать, почуять и оценить эти превосходные, эти лакомые книги, быть стремительными в гоне и бесстрашными в хватке. Затем, после прилежного чтения и долгих размышлений, вам надлежит разгрызть кость и высосать оттуда мозговую субстанцию, то есть то, что я разумею под этим пифагорейским символом, и вы можете быть совершенно уверены, что станете от этого чтения и отважнее и умнее, ибо в книге моей вы обнаружите совсем особый дух и некое, доступное лишь избранным, учение, которое откроет вам величайшие таинства и страшные тайны, касающиеся нашей религии, равно как политики и домоводства.
Неужто вы в самом деле придерживаетесь того мнения, что Гомер, когда писал Илиаду и Одиссею, помышлял о тех аллегориях, которые ему приписали Плутарх, Гераклид Понтийский, Евстафий[9], Корнут[10] и которые впоследствии у них же выкрал Полициано[11]? Если вы придерживаетесь этого мнения, значит, мне с вами не по пути, ибо я полагаю, что Гомер так же мало думал об этих аллегориях, как Овидий в своих Метаморфозах[12] о христианских святынях, а между тем один пустоголовый монах, подхалим, каких мало, тщился доказать обратное, однако ж другого такого дурака, который был бы ему, как говорится, под стать, не нашлось.
Если же вы смотрите иначе, то все-таки отчего бы вам и почему бы вам не сделать того же с моими занятными и необыкновенными повестями, хотя, когда я их сочинял, я думал о таких вещах столько же, сколько вы, а ведь вы, уж верно, насчет того, чтобы выпить, от меня не отстанете? Должно заметить, что на сочинение этой бесподобной книги я потратил и употребил как раз то время, которое я себе отвел для поддержания телесных сил, а именно – для еды и питья. Время это самое подходящее для того, чтобы писать о таких высоких материях и о таких важных предметах, что уже прекрасно понимали Гомер, образец для всех филологов, и отец поэтов латинских Энний[13], о чем у нас есть свидетельство Горация, хотя какой-то межеумок и объявил, что от его стихов пахнет не столько елеем, сколько вином.
То же самое один паршивец сказал и о моих книгах, – а, да ну его в задницу! Насколько же запах вина соблазнительнее, пленительнее, восхитительнее, животворнее и тоньше, чем запах елея! И если про меня станут говорить, что на вино я трачу больше, чем на масло, я возгоржусь так же, как Демосфен, когда про него говорили, что на масло он тратит больше, чем на вино. Когда обо мне толкуют и говорят, что я выпить горазд и бутылке не враг, – это для меня наивысшая похвала; благодаря этой славе я желанный гость в любой приятной компании пантагрюэлистов. Демосфена один брюзга упрекнул в том, что от его речей пахнет, как oт фартука грязного и замызганного маслобойщика. Ну, а уж вы толкуйте мои слова и поступки в самую что ни на есть лучшую сторону, относитесь с уважением к моему творогообразному мозгу, забавляющему вас этими россказнями, и по мере сил ваших поддерживайте во мне веселое расположение духа.
Итак, мои милые, развлекайтесь и – телу во здравие, почкам на пользу – веселитесь, читая мою книгу. Только вот что, балбесы, чума вас возьми: смотрите не забудьте за меня выпить, а уж за мной дело не станет!
Глава I
О генеалогии и древности рода Гаргантюа
Желающих установить генеалогию Гаргантюа и древность его рода я отсылаю к великой Пантагрюэльской хронике[14]. Она более обстоятельно расскажет вам о том, как появились на свете первые великаны и как по прямой линии произошел от них Гаргантюа, отец Пантагрюэля. И вы уж на меня не пеняйте за то, что сейчас я не буду на этом останавливаться, хотя история эта сама по себе такова, что чем чаще о ней вспоминать, тем больше бы она пришлась вашим милостям по вкусу, и в доказательство я сошлюсь на Филеба и Горгия Платона, а также на Флакка[15], который утверждает, что чем чаще повторять иные речи (а мои речи, разумеется, именно таковы), тем они приятнее.
Дай Бог, чтоб каждому была столь же доподлинно известна его родословная от Ноева ковчега и до наших дней! Я полагаю, что многие из нынешних императоров, королей, герцогов, князей и пап произошли от каких-нибудь мелких торговцев реликвиями или же корзинщиков и, наоборот, немало жалких и убогих побирушек из богаделен являются прямыми потомками великих королей и императоров, – достаточно вспомнить, как поразительно быстро сменили ассириян – мидяне,
мидян – персы,
персов – македоняне,
македонян – римляне,
римлян – греки,
греков – французы.
Что касается меня, то я, уж верно, происхожу от какого-нибудь богатого короля или владетельного князя, жившего в незапамятные времена, ибо не родился еще на свет такой человек, который сильнее меня желал бы стать королем и разбогатеть, – для того чтобы пировать, ничего не делать, ни о чем не заботиться и щедрой рукой одарять своих приятелей и всех порядочных и просвещенных людей. Однако ж я себя утешаю, что в ином мире я непременно буду королем, да еще столь великим, что сейчас и помыслить о том не смею. Придумайте же и вы себе такое или даже еще лучшее утешение в несчастье и пейте на здоровье, коли есть охота.
Возвращаясь к нашим баранам, я должен сказать, что по великой милости Божьей родословная Гаргантюа с древнейших времен дошла до нас в более полном виде, чем какая-либо еще, не считая родословной Мессии, но о ней я говорить не намерен, ибо это меня не касается, тем более что этому противятся черти (то есть, я хотел сказать, клеветники и лицемеры). Сия родословная была найдена Жаном Одо на его собственном лугу близ Голо, пониже Олив, в той стороне, где Нарсе, при следующих обстоятельствах. Землекопы, которым он велел выгрести ил из канав, обнаружили, что их заступы упираются в огромный бронзовый склеп длины невероятной, ибо конца его так и не нашли, – склеп уходил куда-то далеко за вьеннские шлюзы. В том самом месте, над которым был изображен кубок, а вокруг кубка этрусскими буквами написано: Hic bibitur[16], склеп решились вскрыть и обнаружили девять фляг в таком порядке, в каком гасконцы расставляют кегли, а под средней флягой оказалась громадная, громоздкая, грязная, грузная, красивая, малюсенькая, заплесневелая книжица, пахнувшая сильнее, но, увы, не слаще роз.
Вот эта книжица и заключала в себе вышеупомянутую родословную, всю целиком написанную курсивным письмом, но не на пергаменте, не на вощеной табличке, а на коре вяза, столь, однако, обветшавшей, что на ней почти ничего нельзя было разобрать.
Аз многогрешный был туда зван и, прибегнув к помощи очков, применив тот способ чтения стершихся букв, коему нас научил Аристотель[17], разобрал их все, в чем вы и удостоверитесь, как скоро начнете пантагрюэльствовать, то есть потягивать из бутылочки, потягивать да почитывать о престрашных деяниях Пантагрюэля.
В конце книги был обнаружен небольшой трактат под названием Целительные безделки[18]. Начало этой истории погрызли крысы, тараканы и, чтобы сказать – не соврать, другие вредные твари. Остальное я из уважения к древности найденного творения при сем прилагаю.
Глава II
Целительные безделки, отысканные в древних развалинах
- Вон тот герой, кем были кимвры биты,
- боясь росы, по воздуху летит.
- зрев его, народ во все корыта
- В ть бочки масла свежего спешит.
- дна лишь старушонка голосит:
- «Ох, судари мои, его ловите, –
- Ведь он до самых пят дерьмом покрыт, –
- Иль лесенку ему сюда несите».
- Иной предполагал, что, лобызая
- Его туфлю, спасти он душу мог.
- Но тут явился некий плут из края,
- Где ловят в озере плотву, и рек:
- «От этого да сохранит вас Бог!
- В сей лавочке нечистое творится.
- Не худо б вам заметить, что порок
- Под клобуком приказчика гнездится».
- Тогда прочли главу, но смысла было
- В ней столько ж, сколько у овцы рогов.
- А он сказал: «Тиара так застыла,
- Что мозг во мне закоченеть готов».
- Но у плиты, где пахло из котлов
- Душистой брюквой, он согрелся скоро,
- Возликовав, что вновь на дураков
- И полоумных надевают шоры.
- Речь шла о щели Патрика Святого,
- О Гибралтаре и щелях иных.
- Когда б они зарубцевались снова,
- Умолк бы кашель в толще недр земных.
- Зиянье этих дыр для глаз людских
- Всегда казалось наглостью безбожной.
- Вот если б удалось захлопнуть их,
- То и в аренду сдать их было б можно.
- Затем пришел и ощипал ворону
- Геракл, забыв ливийские края.
- «Увы! – Минос воскликнул разъяренно. –
- Всех пригласили, обойден лишь я!
- Они еще хотят, чтоб длань моя
- Лягушками их не снабжала боле!
- Пусть дьявола возьму я в кумовья,
- Коль пряжею им торговать позволю».
- Хромой К. Б. пришел и усмирил их.
- Он пропуск от скворцов принес с собой.
- Свояк Циклопа, гнев сдержать не в силах,
- Убил их. Каждый вытер нос рукой.
- Бывал осмеян содомит любой
- В дубильне, что стоит на поле этом.
- Тревогу поднимайте всей толпой:
- Там будет больше их, чем прошлым летом.
- Затем орел Юпитера решился
- Побиться об заклад и сверху – шасть,
- Но, видя их досаду, устрашился,
- Что рай от их бесчинства может пасть,
- И предпочел огонь небес украсть
- Из рощи, где торговцы сельдью жили,
- И захватить над всей лазурью власть,
- Как масореты в старину учили.
- Все подписали сделку, не робея
- Пред Атою, бросавшей злобный взгляд,
- И показалась им Пенфесилея
- Старухой, продающей кресс-салат.
- Кричал ей каждый: «Уходи назад,
- Уродина, чье тело тоще тени!
- Тобой обманно был у римлян взят
- Их стяг великолепный из веленя!»
- Одна Юнона с манною совою
- Из туч на птиц стремила алчный взор.
- С ней пошутили шуткою такою,
- Что был совсем изъят ее убор.
- Она могла – таков был уговор –
- Лишь два яйца отнять у Прозерпины,
- Не то ее привяжут к гребню гор,
- Подсунув ей боярышник под спину.
- Через пятнадцать месяцев тот воин,
- Кем был когда-то Карфаген снесен,
- Вошел в их круг, где, вежлив и спокоен,
- Потребовал вернуть наследство он
- Иль разделить, как требует закон,
- Ровнее, чем стежки во шву сапожном,
- Чем суп, который в полдень разделен
- У грузчиков по котелкам порожним.
- Но самострелом, дном котла пустого
- И прялками отмечен будет год,
- Когда все тело короля дурного
- Под горностаем люэс изгрызет.
- Ужель из-за одной ханжи пойдет
- Такое множество арпанов прахом?
- Оставьте! Маска вам не пристает,
- От брата змей бегите прочь со страхом.
- Когда сей год свершит свое теченье,
- На землю снидут мир и тишина.
- Исчезнут грубость, злость и оскорбленья,
- А честность будет вознаграждена,
- И радость, что была возвещена
- Насельникам небес, взойдет на башню,
- И волей царственного скакуна
- Восторжествует мученик вчерашний.
- И будет продолжаться это время,
- Покуда Марс останется в цепях.
- Затем придет прекраснейший меж всеми
- Великий муж с веселием в очах.
- Друзья мои, ликуйте на пирах,
- Раз человек, отдавший душу Богу,
- Как ни жалеет он о прошлых днях,
- Назад не может отыскать дорогу.
- В конце концов того, кто был из воска,
- Удастся к жакемару приковать,
- И государем даже подголоски
- Не станут звонаря с кастрюлей звать.
- Эх, если б саблю у него отнять,
- Не нужны б стали хитрость и уловки
- И можно было б накрепко связать
- Все горести концом одной веревки*.
Глава III
О том, как Гаргантюа одиннадцать месяцев пребывал во чреве матери
Грангузье[19] был в свое время большой шутник, по тогдашнему обычаю пил непременно до дна и любил закусить солененьким. На сей предмет он постоянно держал основательный запас майнцской и байоннской ветчины, немало копченых бычьих языков, в зимнее время уйму колбас, изрядное количество солонины с горчицей, на крайний же случай у него была еще икра и сосиски, но не болонские[20] (он боялся ломбардской отравы), а бигоррские, лонгонейские, бреннские и руаргские.
Уже в зрелом возрасте он женился на Гаргамелле[21], дочери короля мотылькотов, девице из себя видной и пригожей, и частенько составляли они вместе животное о двух спинах и весело терлись друг о друга своими телесами, вследствие чего Гаргамелла зачала хорошего сына и проносила его одиннадцать месяцев.
Должно заметить, что женщины вполне могут столько носить, и даже еще больше, особливо если это кто-нибудь из ряда вон выходящий, кому назначены в удел великие подвиги. Так, Гомер говорит, что младенец, коего нимфа понесла от Нептуна, родился через год, то есть спустя двенадцать месяцев. Между тем, как указывает в книге III Авл Геллий[22], длительный этот срок в точности соответствовал величию Нептуна, ибо Нептунов младенец только за такой промежуток времени и мог окончательно сформироваться. По той же причине Юпитер продлил ночь, проведенную им с Алкменой, до сорока восьми часов, а ведь в меньший срок ему бы не удалось выковать Геркулеса, избавившего мир от чудищ и тиранов.
Господа древние пантагрюэлисты подтверждают сказанное мною и объявляют, что ребенок вполне может родиться от женщины спустя одиннадцать месяцев после смерти своего отца и что его, разумеется, должно признать законнорожденным:
Гиппократ, De alimento[23],
Плиний, кн. VII, гл. V,
Плавт, Cistellaria[24],
Марк Варрон в сатире Завещание с соответствующей ссылкой на Аристотеля,
Цензорин, De die natali[25],
Аристотель, Da nat. animalium[26],
Гелий, кн. III, гл. XVI,
Сервий в Комментариях к Экл., толкуя стих Вергилия:
- Matri longa decem[27] и т. д. –
и многие другие безумцы, число коих умножится, если мы к ним присовокупим еще и законоведов: ff. De suis et legit., l. Intestato[28], § 13, а также: Autent., De restitut. et ea que parit in undecimo mense[29]. Наконец был состряпан по этому поводу крючкотворительный закон: Gallus ff. De lib. et posthu. et l. septimo ff. De stat. homin.[30], и еще я мог бы сослаться на некоторые законы, да только пока не решаюсь. Благодаря таким законам вдовы смело могут пускаться во все тяжкие целых два месяца после кончины супруга.
Милые вы мои сукины дети, покорнейше вас прошу: ежели попадутся вам такие вдовушки, с которыми приятно было бы иметь дело, то валяйте-ка сами, а потом приводите их ко мне. Ведь если они и забеременеют на третий месяц, то ребенок все равно будет признан наследником покойного, а как скоро они забеременеют, то уж потом действуют без всякой опаски: пузо нагуляла – поехали дальше! Вот, например, Юлия, дочь императора Октавиана: она отдавалась своим любезникам, только когда чувствовала себя непорожней, подобно тому как судну требуется лоцман не прежде, чем оно проконопачено и нагружено. Если же кто-нибудь осудит их за то, что они дают себя латать во время беременности, и укажет им, что брюхатые самки животных ни за что не подпустят к себе самцов, они могут ответить, что одно дело – самки, а другое, мол, женщины, которые отлично знают, что суперфетация таит в себе особую прелесть, а ведь именно в этом роде и ответила некогда Популия во II кн. Макробиевых Сатурналий.
Если же диавол так подстроит, что нарвешься не на беременную, то надобно только поглубже ввинтить затычку – и никому ни гугу!
Глава IV
О том, как Гаргамелла, носившая в своем чреве Гаргантюа, объелась требухой
Вот при каких обстоятельствах и каким образом родила Гаргамелла; если же вы этому не поверите, то пусть у вас выпадет кишка!
А у Гаргамеллы кишка выпала третьего февраля[31], после обеда, оттого что она съела слишком много годбийо. Годбийо– это внутренности жирных куаро. Куаро – это волы, которых откармливают в хлеву и на гимо. Гимо – это луга, которые косятся два раза в лето. Так вот, зарезали триста шестьдесят семь тысяч четырнадцать таких жирных волов, и решено было на масляной их засолить – с таким расчетом, чтобы к весеннему сезону мяса оказалось вдоволь и чтобы перед обедом всегда можно было приложиться к солененькому, а как приложишься, то уж тут вина только подавай.
Требухи, сами понимаете, получилось предостаточно, да еще такой вкусной, что все ели и пальчики облизывали. Но вот в чем закорючка: ее нельзя долго хранить, она начала портиться, а уж это на что же хуже! Ну и решили все сразу слопать, чтобы ничего зря не пропадало. Того ради созвали всех обитателей Сине, Сейи, Ларош-Клермо, Вогодри, Кудре-Монпансье, Ведского брода[32], а равно и других соседей, и все они, как на подбор, были славные кутилы, славные ребята и женскому полу спуску не давали.
Добряк Грангузье взыграл духом и распорядился, чтобы угощение было на славу. Жене он все-таки сказал, чтобы она не очень налегала, потому что она уже на сносях, а потроха – пища тяжелая. «Кишок без дерьма не бывает», – примолвил он. Однако ж, невзирая на предостережения, Гаргамелла съела этих самых кишок шестнадцать бочек, два бочонка и шесть горшков. Ну и раздуло же ее от аппетитного содержимого этих кишок!
После обеда все повалили гурьбой в Сосе и там, на густой траве, под звуки разымчивых флажолетов и нежных волынок пустились в пляс, и такое пошло у них веселье, что любо-дорого было смотреть.
Глава V
Беседа во хмелю
Потом рассудили за благо подзакусить прямо на свежем воздухе. Тут бутылочки взад-вперед заходили, окорока заплясали, стаканчики запорхали, кувшинчики зазвенели.
– Наливай!
– Подавай!
– Не зевай!
– Разбавляй!
– Э, нет, мне без воды! Спасибо, приятель!
– А ну-ка, единым духом!
– Сообрази-ка мне стаканчик кларету, да гляди, чтобы с верхом!
– Зальем жажду!
– Теперь ты от меня отстанешь, лихоманка проклятая!
– Поверите ли, душенька, что-то мне нынче не пьется!
– Вам, верно, нездоровится, милочка?
– Да, нехорошо что-то мне.
– Трах-тарарах-тарарах, поговорим о вине!
– Я, как папский мул, пью в определенные часы.
– А я, как монах, на все руки мастер: и пить, и гулять, и часы читать.
– Что раньше появилось: жажда или напитки?
– Жажда, ибо кому бы пришло в голову ни с того ни с сего начать пить, когда люди были еще невинны, как дети?
– Напитки, ибо privatio presupponit habitum[33]. Я – духовная особа.
- Foecundi calices quem non fecere disertum.[34]
– Мы, невинные детки, и без жажды пьем лихо.
– А я хоть и грешник, да без жажды не пью. Когда я, Господи благослови, начинаю, ее еще может и не быть, но потом она приходит сама, – я ее только опережаю, понятно? Я пью под будущую жажду. Вот почему я пью вечно. Вечная жизнь для меня в вине, вино – вот моя вечная жизнь.
– Давайте пить! Давайте петь! Псалмы тянуть!
– А кто это у меня стакан стянул?
– А мне без всякого законного основания не подливают!
– Вы промачиваете горло для того, чтобы оно потом пересохло, или, наоборот, сперва сушите, чтобы потом промочить?
– Я в теориях не разбираюсь, вот насчет практики – это еще туда-сюда.
– Живей, живей!
– Я промачиваю, я спрыскиваю, я пью – и все оттого, что боюсь умереть.
– Пейте всегда – и вы никогда не умрете.
– Если я перестану пить, я весь высохну и умру. Моя душа улетит от меня туда, где посырее. В сухом месте душа не живет.
– А ну-ка, виночерпии, создатели новых форм, сотворите из непьющего пьющего!
– Надо хорошенько полить эти жесткие, сухие внутренности!
– Кто пьет без всякого удовольствия, тому вино – не в коня корм.
– Вино все в кровь поступает – нужнику ничего не достается.
– Я себе нынче утром кишочки очистил, теперь нужно их сполоснуть.
– Уж я себе пузо набил!
– Если бы бумага, на которой я пишу векселя, пила так же, как я, то, когда бы их подали ко взысканию, оказалось бы, что все буквы пьяным-пьяны, все – в лежку, и суд, ничего не разобрав, не мог бы начать разбирательство.
– Смотрите за своей рукой: ее так и тянет к вину, оттого у вас нос краснеет.
– Пока это вино выйдет, сколько еще успеет войти!
– Пить такими наперсточками – это все равно что воробья причащать.
– Это называется охота с бутылочками.
– Есть разница между бутылочкой и милочкой?
– Разница большая: бутылочку затыкают пробочкой, а милочку живчиком.
– Здорово сказано!
– А предки наши вмиг выцеживали бочку.
– Славные певуны-п…уны! Выпьем!
– Зачем ходить на реку? Это лучше кишки промывает.
– Я пью, как губка.
– А я – как тамплиер.
– А я – tanquam sponsus.[35]
– А я – sicut terra sine aqua.[36]
– Что такое ветчина?
– Требование на попойку, лесенка вроде той, по которой бочки с вином спускают в погребок; ну, а по этой – вино спускают в желудок.
– А посему выпьем, а посему выпьем! Я еще не нагрузился. Respice personam; pone pro duos; bus поп est in usu.[37]
– Если б я так же умел ржать, как жрать, из меня вышел бы славный жеребчик.
– Богач Жак Кёр пивал не раз.
– Вот так поили бы и нас.
– Вакх под хмельком дошел до Инда.
– В подпитии взята Мелинда.[38]
– От мелкого дождя прекращается сильный ветер. От долгих возлияний стихает гром.
– Эй, паж, налей-ка мне еще! Теперь и я вчиню тебе иск!
– Всем хватит вина, лишь бы пили до дна!
– Я подаю жалобу на свою жажду. Паж, дай законный ход моей жалобе!
– Мне бы остаточки вон с того блюда!
– Прежде я имел обыкновение пить до дна, а теперь я пью все до капельки.
– Нам спешить некуда, давайте все подъедим!
– Уж и кишки у этого бычка, рыжего с черными полосками, – все отдай, да мало! А ну, давайте мы их подчистую!
– Пейте, иначе я…
– Нет, нет!
– Пейте, я вас прошу!
– Птицы начинают есть только после того, как их по хвосту легонечко хлопнут, а я начинаю пить только после того, как меня хорошенько попросят.
– Lagona edatera[39]. Во всем моем теле норки такой не сыщешь, где бы жажда могла укрыться от вина.
– У меня от этого вина жажда только сильнее.
– А мою жажду это вино прогонит.
– Объявим во всеуслышание под звон бутылок и фляг: коли ты потерял свою жажду, то уж внутри себя ее не ищи, – частые винные клистиры ее извергли.
– Господь Бог сотворил твердь, а вот мы уже на ногах не тверды.
– У меня на устах слово Господа: Sitio.[40]
– Не столь несокрушим камень, асбестом именуемый, сколь неутолима жажда, которую сейчас испытывает мое высокопреподобие.
– «Аппетит приходит во время еды», сказал Анже Манский[41]; жажда проходит во время пития.
– Есть средство от жажды?
– Есть, но только противоположное тому, какое помогает от укуса собаки: если вы будете бежать позади собаки, она вас никогда не укусит; если вы будете пить до жажды, она у вас никогда не появится.
– Ловлю тебя на слове, виночерпий! Будь же неисчерпаем! Еще черепушечку! Проворней, не будь черепахой! Аргусу, чтобы видеть, нужно было сто глаз, а виночерпию, как Бриарею, нужно сто рук, чтобы все подливать да подливать.
– Чем лучше вымокнем, тем лучше подсохнем!
– Мне белого! Лей все, сколько там есть, лей, черт побери! Полней, полней, у меня все горит!
– Хлопнем, служивый?
– Давай, давай! За твое здоровье, дружище!
– Ну и ну! Столько слопали, что чуть не лопнули!
– О, lacrima Christi![42]
– Это из Девиньеры, это пино!
– Славное белое винцо!
– Бархат, да и только, честное слово!
– Ах, что за вино! Карнаухое, чисто сработанное, из лучшей шерсти!
– А ну-ка, с новыми силами, приятель!
– Нам только выставь – мы все ставки убьем.
– Ex hoc in hoc![43] И никакого мошенничества. Все тому были свидетели. Я всех нынче перепил.
– Ты перепил, а я перепел.
– О пьянствующие! О жаждущие!
– Паж, дружочек, пополней, чтоб сверху коронка была!
– Красная, как кардинальская мантия!
– Natura abhorret vacuum.[44]
– После меня будет тут чем мухе напиться?
– Будем пить по-бретонски![45]
– Залпом, залпом!
– Пейте, пейте этот целебный бальзам!
Глава VI
О том, каким весьма странным образом появился на свет Гаргантюа
Пьяная болтовня все еще продолжалась, как вдруг Гаргамелла почувствовала резь в животе. Тогда Грангузье поднялся и, полагая, что это предродовые схватки, в самых учтивых выражениях начал ее успокаивать; он посоветовал ей прилечь на травку под ивами, – у нее, мол, отрастут вскорости новые ножки, только для этого перед появлением новорожденной малютки ей нужен новый запас душевных сил; правда, боль ей предстоит довольно мучительная, но она скоро пройдет, зато радость, которая за этим последует, все искупит, и о былых страданиях Гаргамелла и думать позабудет.
– Я тебе это докажу, – объявил он. – В Евангелии от Иоанна, глава шестнадцатая, наш Спаситель говорит: «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, но когда родит младенца, уже не помнит скорби».
– Ишь как это у тебя складно выходит, – заметила она. – Я больше люблю слушать Евангелие, чем житие святой Маргариты или что-нибудь еще в таком же ханжеском роде, да и пользы мне от него больше.
– Ты ведь у меня храбрая, как овечка, – сказал он, – вот и разрешайся скорее, а там, глядишь, мы с тобой и другого сделаем.
– Ну, ну! Вам, мужчинам, легко говорить! – сказала она. – Уж я с Божьей помощью для тебя постараюсь. А все-таки лучше, если б тебе его отрезали!
– Что отрезали? – спросил Грангузье.
– Ну, ну, полно дурака валять! – сказала она. – Сам знаешь что.
– Ах, это! – сказал он. – Да пес с ним совсем! Коли уж он так тебе досадил, вели хоть сейчас принести нож.
– Э, нет, избави Бог! – сказала она. – Прости, Господи, мое согрешение! Я так просто сболтнула, не обращай на меня внимания. Это я только к тому, что, если Господь не поможет, мне нынче придется здорово помучиться, и все из-за него, из-за того, что уж очень ты его балуешь.
– Ничего, ничего! – сказал он. – Об остальном не беспокойся, самое главное позади. Пойду-ка я пропущу еще стаканчик. Если тебе станет худо, я буду поблизости. Крикни что есть мочи, и я прибегу.
Малое время спустя она начала вздыхать, стонать и кричать. Тотчас отовсюду набежали повитухи, стали ее щупать внизу и наткнулись на какие-то обрывки кожи, весьма дурно пахнувшие; они было подумали, что это и есть младенец, но это оказалась прямая кишка: она выпала у роженицы вследствие ослабления сфинктера, или, по-вашему, заднего прохода, оттого что роженица, как было сказано выше, объелась требухой.
Тогда одна мерзкая старушонка, лет за шестьдесят до того переселившаяся сюда из Бризпайля, что возле Сен-Жну, и слывшая за великую лекарку, дала Гаргамелле какого-то ужасного вяжущего средства, от которого у нее так сжались и стянулись кольцевидные мышцы, что – страшно подумать! – вы бы их и зубами, пожалуй, не растянули. Одним словом, получилось как у черта[46], который во время молебна св. Мартину записывал на пергаменте, о чем судачили две податливые бабенки, а потом так и не сумел растянуть пергамент зубами.
Из-за этого несчастного случая вены устья маточных артерий у роженицы расширились, и ребенок проскочил прямо в полую вену, а затем, взобравшись по диафрагме на высоту плеч, где вышеуказанная вена раздваивается, повернул налево и вылез в левое ухо. Едва появившись на свет, он не закричал, как другие младенцы: «И-и-и! И-и-и!», – нет, он зычным голосом заорал: «Лакать! Лакать! Лакать!» – словно всем предлагал лакать, и крик его был слышен от Бюссы до Виваре.
Я подозреваю, что такие необычные роды представляются вам не вполне вероятными. Что ж, не верите – не надо, но только помните, что люди порядочные, люди здравомыслящие верят всему, что услышат или прочтут. Не сам ли Соломон в Притчах, глава XIV, сказал: Innоcens credit omni verbo[47], и т. д.? И не апостол ли Павел в Первом послании к Коринфянам, глава XIII, сказал: Charitas omnia credit[48]? Почему бы и вам не поверить? Потому, скажете вы, что здесь отсутствует даже видимость правды? Я же вам скажу, что по этой-то самой причине вы и должны мне верить, верить слепо, ибо сорбоннисты прямо утверждают, что вера и есть обличение вещей невидимых. Разве тут что-нибудь находится в противоречии с нашими законами, с нашей верой, со здравым смыслом, со Священным писанием? Я, по крайней мере, держусь того мнения, что это ни в чем не противоречит Библии. Ведь, если была на то Божья воля, вы же не станете утверждать, что Господь не мог так сделать? Нет уж, пожалуйста, не обморочивайте себя праздными мыслями. Ведь для Бога нет ничего невозможного, и если бы Он только захотел, то все женщины производили бы на свет детей через уши.
Разве Вакх не вышел из бедра Юпитера?
Роктальяд – из пятки своей матери?
Крокмуш – из туфли кормилицы?
Разве Минерва не родилась в мозгу у Юпитера и не вышла через его ухо?
Разве Адонис не вышел из-под коры миррового дерева?
А Кастор и Поллукс – из яйца, высиженного и снесенного Ледой?
А как бы вы были удивлены и ошеломлены, если б я вам сейчас прочел целиком ту главу из Плиния, где говорится о необычных и противоестественных родах! А ведь я не такой самонадеянный враль, как он. Прочтите III главу VII книги его Естественной истории – и не задуривайте мне голову.
Глава VII
О том, как Гаргантюа было дано имя и как он стал посасывать вино
Добряк Грангузье, выпивая и веселясь с гостями, услышал страшный крик, который испустил его сын, появившись на свет. «Лакать! Лакать! Лакать!» – взывал ревущий младенец. Тогда Грангузье воскликнул: «Ке гран тю а!..» – что означало: «Ну и здоровенная же она у тебя!..» Он имел в виду глотку. Присутствовавшие не преминули заметить, что по образцу и примеру древних евреев младенца, конечно, нужно назвать Гаргантюа, раз именно таково было первое слово, произнесенное отцом при его рождении. Отец изъявил свое согласие, матери это имя тоже очень понравилось. А чтобы унять ребенка, ему дали тяпнуть винца, затем окунули в купель и по доброму христианскому обычаю окрестили.
Между тем из Понтиля и Бреемона было доставлено семнадцать тысяч девятьсот тринадцать коров, каковые должны были поить его молоком, ибо во всей стране не нашлось ни одной подходящей кормилицы – так много молока требовалось для его кормления. Впрочем, иные ученые скоттисты[49] утверждали, что его выкормила мать и что она могла нацедить из своих сосцов тысячу четыреста две бочки и девять горшков молока зараз, однако это неправдоподобно. Сорбонна сочла такое мнение предосудительным, благочестивый слух оскорбляющим и припахивающим ересью.
Так прошел год и десять месяцев, и с этого времени по совету врачей ребенка начали вывозить, для чего некий Жан Денио смастерил прелестную колясочку, в которую впрягали волов. В этой самой колясочке младенец лихо раскатывал взад и вперед, и все с удовольствием на него смотрели: мордашка у него была славная, число подбородков доходило едва ли не до восемнадцати, и кричал он очень редко, зато марался каждый час, так как задняя часть была у него на редкость слизокровна, что объяснялось как свойствами его организма, так и случайными обстоятельствами, то есть особым его пристрастием к возлияниям. Впрочем, без причины он капли в рот не брал. Когда же он бывал раздосадован, разгневан, раздражен или удручен, когда он топал ногами, плакал, кричал, ему давали выпить, и он тут же утихомиривался и опять становился спокойным и веселым мальчиком.
Одна из его нянек честью клялась мне, что он к этому до того приохотился, что, бывало, чуть только услышит, как звенят кружки и фляги, и уже впадает в экстаз, словно предвкушая райское блаженство. По сему обстоятельству все няньки из уважения к этому божественному его свойству развлекали его по утрам тем, что стучали ножами по стаканам, стеклянными пробками по бутылкам или, наконец, крышками по кружкам, при каковых звуках он весь дрожал от радости и сам начинал раскачивать люльку, мерно покачивая головой, тренькая пальцами, а задницей выводя рулады.
Глава VIII
О том, как Гаргантюа был одет
Еще когда Гаргантюа находился в младенческом возрасте, отец заказал для него одежду фамильного цвета: белого с голубым. На нее положили немало труда, и была она изготовлена, скроена и сшита по тогдашней моде. На основании старинных актов, сохранившихся в счетной палате города Монсоро, я утверждаю, что Гаргантюа был одет следующим образом.
На его рубашку пошло девятьсот локтей шательродского полотна и еще двести на квадратные ластовицы под мышками. Рубашка у него была без сборок, оттого что рубашки со сборками были изобретены лишь после того, как белошвейки, сломав кончики иголок, наловчились работать задним концом.
На его куртку пошло восемьсот тринадцать локтей белого атласа, а на шнуровку – тысяча пятьсот девять с половиной собачьих шкурок. Тогда как раз начали пристегивать штаны к куртке, а не куртку к штанам, что, как убедительно доказал Оккам[50] в комментариях к Exponibilia[51] магистра Шаровара, противоестественно.
На штаны пошло тысяча сто пять с третью локтей белой шерстяной материи. И скроены они были в виде колонн, с желобками и прорезами сзади, чтобы почкам было не слишком жарко. И в каждом прорезе пузырились голубого дамасского шелка буфы надлежащих размеров. Должно заметить, что ляжки у Гаргантюа были очень красивые и всему его сложению соразмерные.
На гульфик пошло шестнадцать с четвертью локтей той же шерстяной материи, и сшит он был в виде дуги, изящно скрепленной двумя красивыми золотыми пряжками с эмалевыми крючками, в каждый из которых был вставлен изумруд величиною с апельсин. А ведь этот камень, как утверждают Орфей в своей книге De lapidibus[52] и Плиний, libro ultimo[53], обладает способностью возбуждать и укреплять детородный член[54]. Выступ на гульфике выдавался на полтора локтя, на самом гульфике были такие же прорезы, как на штанах, а равно и пышные буфы такого же голубого дамасского шелку. Глядя на искусное золотое шитье, на затейливое, ювелирной работы, плетенье, украшенное настоящими брильянтами, рубинами, бирюзой, изумрудами и персидским жемчугом, вы, уж верно, сравнили бы гульфик с прелестным рогом изобилия, который вам приходилось видеть на древних изображениях и который подарила Рея двум нимфам, Адрастее и Иде, вскормившим Юпитера. Вечно влекущий, вечно цветущий, юностью дышащий, свежестью пышущий, влагу источающий, соками набухающий, оплодотворяющий, полный цветов, полный плодов, полный всякого рода утех, – вот как перед Богом говорю, до чего же приятно было на него смотреть! Более подробно, однако ж, я остановлюсь на этом в своей книге О достоинствах гульфиков. Полагаю, впрочем, нелишним заметить, что гульфик был не только длинен и широк, – внутри там тоже всего было вдоволь и в изобилии, так что он нимало не походил на лицемерные гульфики многих франтов, к великому прискорбию для женского сословия наполненные одним лишь ветром.
На башмаки Гаргантюа пошло четыреста шесть локтей ярко-голубого бархата. Бархат был аккуратно разрезан пополам, и две эти полосы сшиты в виде двух одинаковых цилиндров. На подошвы употребили тысячу сто коровьих шкур бурого цвета, а носки у башмаков были сделаны острые.
На камзол пошло тысяча восемьсот локтей ярко-синего бархата с вышитыми кругом прелестными веточками винограда, посредине же на нем красовались оплетенные золотыми кольцами и множеством жемчужин кружки из серебряной канители; в этом таился намек, что со временем из Гаргантюа выйдет изрядный пьянчуга.
Пояс ему сшили из трехсот с половиной локтей шелковистой саржи, наполовину белой, а наполовину, если не ошибаюсь, голубой.
Шпага у него была не валенсийская, а кинжал – не сарагосский[55], потому что его отец ненавидел всех этих пьяных идальго, эту помесь испанцев с окаянными нехристями; у него была отличная деревянная шпага и смазной кожи кинжал, раскрашенные и позолоченные, – словом, одно загляденье.
Кошелек его был сделан из слоновой мошонки, которую ему подарил гер Праконталь, ливийский проконсул.