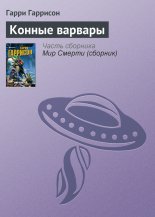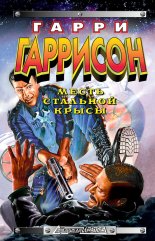Питомник. Книга 2 Дашкова Полина

На этом съемка кончилась, остался еще большой кусок пустой пленки, по экрану побежала черно-белая рябь. Ксюша залпом выпила свой морс. У нее сильно пересохло во рту. Сердце застучало как сумасшедшее.
Она знала, что у Олега до нее была жена по имени Лена, с ней он прожил совсем недолго и благополучно расстался. Жена Лена, и никаких детей. Были еще женщины, но ничего серьезного. Олег отказывался говорить на эту тему, грубо, неуклюже отшучивался.
– Тебе это не интересно, – отрезала свекровь, Галина Семеновна, когда Ксюша решилась спросить у нее о прошлой семейной жизни Олега, – считай, до тебя никого не было. Лена оказалась хабалкой, хамкой. Ему, бедненькому, вообще досталось от баб. Он такой наивный, беззащитный, это счастье, что ты у нас появилась.
– А дети?
– Ну, какие дети, Бог с тобой! Какие дети?
Тема была закрыта раз и навсегда. Галина Семеновна постоянно подчеркивала: Машенька – первый и единственный ребенок Олега, долгожданная ее, Галины Семеновны, внучка. Других нет.
Слабоумная девочка Люся, заснятая на лужайке среди здоровых, красивых, жизнерадостных подростков, была поразительно похожа на Олега.
После посещения морга загазованный, пропыленный воздух улицы казался чистым и нежным. Илья Никитич глубоко вздохнул, зажмурился, стараясь избавиться, наконец, от тягостного чувства растерянности и беспомощности. Ему было плохо, тоскливо уже четвертые сутки, с того момента, как попались на глаза в доме убитой Лилии Коломеец эти несчастные вишенки, вышитые на крошечных мешочках с лавандой.
Он много лет занимался расследованием убийств и спокойно относился к виду трупов, даже самых растерзанных. Но иногда какая-нибудь случайная невинная деталь, какой-нибудь легкий бытовой штрих из жизни растерзанной жертвы надолго застревал в памяти.
Впервые попав в морг двадцатидвухлетним студентом юрфака, Илюша Бородин, в то время худенький, темноволосый, с яркими голубыми глазами и широкой белозубой улыбкой, не упал в обморок, не стал заикаться, как некоторые его сокурсники. Конечно, побледнел, и во рту пересохло, но не более. Он был готов к тому, что смерть, особенно насильственная, выглядит ужасно, и увидел всего лишь то, что ожидал увидеть. Раздробленные черепа, выпотрошенные животы и прочие кошмары не преследовали его потом во сне. Но его словно током шарахнуло, когда он увидел небесно-голубые капроновые банты в тугих рыжих косичках мертвой семилетней девочки. Их группа уже уходила из морга, девочку только привезли, она лежала на каталке в гулком кафельном коридоре. Он остановился и перестал дышать. Голова закружилась, и потребовались нечеловеческие силы, чтобы никто не заметил, как стало худо сильному, философски спокойному Илюше Бородину.
Он так и не узнал, каким образом погибла девочка, был ли там криминал или просто несчастный случай. Иногда, к счастью редко, только в состоянии крайней усталости, раздражения, недосыпа, ему мерещились эти косички с бантами, как их заплетают ловкие женские руки, а девочка смотрит на себя в зеркало, улыбается, гримасничает, показывает язык, вертится. Дальше ничего не происходило, воображение отключалось, но это было хуже любого, самого кровавого кошмара.
Трое суток назад, увидев красивые мешочки с лавандой в квартире Лилии Коломеец, он опять вспомнил рыжую первоклашку с ее аккуратными косичками и голубыми бантиками.
Июньские сумерки отливали дымчатой капроновой голубизной. Илья Никитич брел не спеша по рыхлому сероватому ковру из тополиного пуха, щурился на огненное закатное солнце, висевшее между двумя белыми девятиэтажками, и пытался подвести хотя бы приблизительный итог.
Прошло трое суток. Психологический портрет предполагаемого преступника, сложившийся у него в голове, был замешан на пьяном бреде бомжихи Симки и на его, следователя Бородина, личных эмоциях, а не на фактах и здравом смысле. Какие могут быть факты, какой здравый смысл, когда речь идет об огненном звере с красненькими рожками и поросячьим голосом? Между прочим, матерно визжать могла и девочка Люся. Другое дело, если бы бомжиха засвидетельствовала, что у зверя был глубокий бархатный бас. Вряд ли Люся сумела бы материться мужским голосом. А вот напялить на голову шапку-маску – это было ей вполне по силам.
За трое суток не удалось выяснить, где именно училась и жила Люся, кто такая «мама Зоя». Было похоже, что на Люсю Коломеец нигде не заведено медицинской карты. Кроме свидетельства о рождении, не имелось никаких документов на больную девочку, ни в одном из московских психдиспансеров она не стояла на учете. С рождения и до сегодняшнего дня она была прописана в квартире своей тети Лилии Анатольевны Коломеец.
Когда-то там жили мать и две сестры, Ольга и Лилия Коломеец. Отец ушел из семьи, когда девочки были еще маленькими. Мать умерла от лейкемии через полгода после самоубийства Ольги.
Вот, собственно, и вся информация. А узнать что-либо от самой Люси было невозможно. Она упорно повторяла, что убила тетю Лилю потому, что она, Люся, плохая, злая и вонючая, иногда плакала и просила дать ей луку, чтобы намазать голову, при малейшей возможности застревала у зеркала, долго, внимательно разглядывала свое лицо, пыталась сдирать прыщи и опять плакала. Вопросы о человеке, который приходил в дом с конфетами и цветами, вызывали у нее тихую панику, она краснела, пугалась и замолкала, принимаясь судорожно теребить поясок больничного халата.
В подростковом отделении стационара Центра имени Сербского был поставлен предварительный диагноз «олигофрения в стадии дебильности», то есть Люся страдала самой легкой формой умственной неполноценности.
– Олег, ты что, решил снимать рекламные ролики? – небрежно спросила Ксюша, когда ее муж вернулся с работы на дачу.
Он приехал на такси, отказался от ужина, рухнул на тахту в столовой, включил телевизор, закрыл глаза и как будто уснул под вечерние новости. Ксюша сидела рядом в кресле-качалке, кормила ребенка и размышляла, стоит ли спросить о кассете. Наконец решилась.
– Мм? – не открывая глаз, промычал он в ответ.
– Я случайно под кроватью нашла кассету, – чуть громче произнесла Ксюша, – конечно, мне стало интересно, я посмотрела через адаптер. Что это за ребята?
– Отстань, – пробормотал он и отвернулся к стене.
– Отстану, если расскажешь.
В ответ послышался храп. Разговаривать дальше было бесполезно. Ксюша тяжело вздохнула, встала и отправилась на второй этаж укладывать ребенка. Когда она вышла, Олег повернулся на спину, открыл глаза и уставился в желтый деревянный потолок.
«Нашла кассету, – думал он под возбужденный голос спортивного комментатора, – ну и что? Я и не прятал. Надеюсь, у нее хватит ума не обсуждать это с мамой, а если еще раз пристанет с вопросами, я так рявкну, что надолго отобью охоту лезть не в свое дело».
Он выключил телевизор, в одних носках вышел в сад, залитый лунным светом. В мокрой траве стрекотали кузнечики. Олег с хрустом потянулся, запрокинул голову, равнодушно взглянул в глубокое, чистое, усыпанное звездами небо и с мучительной гримасой вспомнил, как когда-то все это ему нравилось – ночной сад, блеск росы на темных кустах шиповника, далекий лягушачий хор и близкий, одинокий, страстный голос соловья. Теперь влажная свежая прелесть летней ночи раздражала и оскорбляла его, как смех на похоронах.
Когда ты молод, красив, удачлив, хватает глупости верить, будто звезды, розы и соловьи предназначены тебе и любят тебя так же, как ты их. Но если ты потаскан, нездоров и мерзок самому себе, то, глядя на звезды, чувствуешь себя окончательным уродом. Ты знаешь, что все они врут, эти сладкие запахи и звуки. Ты завтра сдохнешь от передозировки, а соловей будет так же самозабвенно заливаться, и звезды не станут бледней.
Солодкина с детства не покидало ощущение коварной подмены, ему казалось, что он проживает чью-то чужую, неприятную, недостойную жизнь. Он хотел иначе выглядеть, иначе думать и чувствовать. Он отлично понимал, что ад – это не другие люди и не внешние обстоятельства. Это состояние души, и тут ничего не изменишь. Он самому себе совершенно не нравился, ни внутри, ни снаружи, он себя терпеть не мог, и даже в солидном возрасте, засыпая, содрогаясь от брезгливости и стыда, как онанирующий подросток, мечтал проснуться совершенно другим чело веком.
Образ бывшей сокурсницы Маши стал для него чем-то вроде тайного талисмана, призрачного подтверждения, что другая жизнь существует, и рано или поздно он из чужой реальности легко перепрыгнет в свою собственную.
Однажды он увидел Машу на телеэкране. Она вместе со съемочной группой выступала перед телепремьерой очередного фильма. Она сильно изменилась. Из трогательной невесомой девочки превратилась в жесткую надменную даму, пожалуй, стала красивее, но прежнее очарование ушло. Он решил, что освободился. Маши нет. Есть холодная чужая леди, чем-то похожая на его мать, а стало быть, совершенно не интересная, скучная, насквозь фальшивая. Из этого следовало, что никакой другой жизни у него не будет, и, вероятно, не могло быть. Все обман, обидные детские иллюзии. Надо как-то существовать здесь и сейчас.
Но здесь и сейчас было невыносимо скучно. Люди смотрели на него пустыми равнодушными глазами, он просто умирал от скуки, пока не нашел отличное средство. Началось с марихуаны. Ему объяснили, что это даже менее вредно, чем обыкновенные сигареты, впрочем, он не особенно волновался за свое здоровье. За марихуаной последовал кокаин, потом отвар из маковой соломки. Ему нравилось экспериментировать, он спасался от смертной скуки.
Постепенно его жизнь превратилась в череду «приходов», «ломок», скандалов с родителями, насильственных лечений по различным методикам. Олег переселился во внутреннюю реальность, не выходил из состояния наркотического опьянения, похудел на десять кило, сочинил замысловатый роман о путешествии загадочного «Я» по кровеносной системе собственного организма.
Этот период остался в его памяти эластичным лоскутом тумана, который бесконечно растягивался во времени и пространстве. Он терял память, забывал, что было год назад и час назад, иногда не помнил собственного имени и домашнего адреса. Родители насильно поместили его в закрытую лечебницу. Туман сгустился, из розового сделался кроваво-красным. Олега лечили всеми доступными способами. Во время очередной беседы с родителями врач в ответ на жесткие претензии Галины Семеновны раздраженно заметил, что случай крайне запущенный, пациент упорно не желает освободиться от наркотической зависимости и вряд ли есть надежда на счастливый исход. Это оказалось последней каплей для Василия Ильича. Раньше он вел себя удивительно спокойно и мужественно, жена даже упрекала его в безразличии. Прямо в кабинете врача у него случился сердечный приступ, а через двое суток он скончался в реанимации, не приходя в сознание.
На похоронах отца Олег впервые заплакал и впервые твердо решил завязать. Вернулся в лечебницу, долежал положенный срок и вышел как будто другим человеком, сумрачным, равнодушным ко всему, кроме собственного здоровья. Никакой игры воображения, никаких фантастических образов в голове, никаких чувств. Галина Семеновна резво принялась устраивать его жизнь, составила расписание приема лекарств, повесила на стенку в кухне, выяснила, как обстоят дела у тех его сокурсников, с которыми он, по ее мнению, дружил. Стала приглашать в гости самых успешных и надежных, устраивала дома замечательные фуршеты, делала все, чтобы Олега не терзало одиночество, чтобы его окружали достойные друзья.
Трагические семейные события не помешали Галине Семеновне мягко вписаться в новую экономическую реальность. Она поняла, что основу успеха теперь составляют не должности и связи, а деньги. Только деньги. Остальное приложится. В начале девяностых она, как по волшебству, превратилась из влиятельной чиновницы в крепкую ловкую предпринимательницу, и вскоре у нее появились первые серьезные деньги. Часть из них она вложила в новорожденный молодежный журнал «Блюм», который пытался издавать один из бывших сокурсников Олега. За это Олег был принят на тихую достойную должность заместителя главного редактора.
Без наркотиков он продержался почти год, потом, накурившись марихуаны на какой-то тусовке, вернулся к родному кайфу, к ЛСД. Опять попал в больницу, продержался еще полгода без наркотиков, опять сорвался, и конца этому не было видно.
Весной прошлого года, пройдя курс очередного лечения, Олег поскользнулся на банановой кожуре, упал и сломал ногу. Перелом оказался довольно сложным. Почти месяц ему пришлось провести в больнице. Он лежал в отдельной палате и страдал от боли. Сильные обезболивающие были ему противопоказаны, а слабые не действовали. Боль изматывала, сводила с ума, хотя врачи уверяли, что терпеть можно. Он совсем не спал, не мог есть, кость срасталась неправильно, под гипсом начался воспалительный процесс, с ним производили какие-то жуткие хирургические манипуляции, сознание уплывало, больше всего на свете хотелось получить инъекцию морфия, но он из последних сил запрещал себе думать об этом.
Однажды на рассвете, выбравшись из мутной мучительной дремы, приоткрыв глаза, он понял, что свихнулся окончательно. У него начались галлюцинации. Его заглючило, как в наркотическом кайфе.
В палате находилась Маша. Его заветная девочка. Его несостоявшаяся, совсем другая жизнь. Конечно, могло произойти невероятное, бывшая сокурсница, случайно узнав о несчастном случае, решила Бог знает по каким сентиментальным причинам навестить его в больнице. Они почти не общались в институте, но мало ли? Может, просто здесь же, в соседней палате, лежит кто-то из ее близких и она заодно заглянула к Олегу?
Фокус состоял в том, что она была вовсе не похожа на успешную холодную даму тридцати девяти лет, а выглядела точно так, как на первом курсе, и даже моложе. На ней был белый больничный халат и шапочка, надвинутая низко на лоб. Она взглянула на него прозрачными голубыми глазами, взмахнула черными ресницами, произнесла: «Проснулись? Доброе утро», широко зевнула, прикрыв рот ладошкой, потянулась и исчезла из поля зрения.
У Олега все поплыло перед глазами.
Рядом послышалось жестяное звяканье, плеск воды, шлепанье мокрой тряпки. Хрупкая галлюцинация принялась водить шваброй по полу. Он повернул голову в ее сторону.
– Мешаю? – спросила она и улыбнулась.
– Кто ты? Зачем?.. – прошелестел он пересохшими губами.
– Санитарка. Да вы не волнуйтесь, я сейчас быстренько вымою и уйду.
– Нет. Не надо.
– Что? Мыть не надо? – Она застыла со шваброй в руках. – Через час обход. Знаете, как на меня будут орать, если увидят грязный пол? Вы ведь у нас платный, весь из себя крутой. Я, честное слово, очень быстро и тихо.
Она принялась опять водить тряпкой по полу. Он следил за ней глазами. Он пытался убедить себя, что это совсем другая девочка. Конечно, другая, просто похожа. Чем внимательней он вглядывался, тем больше находил формальных различий в чертах лица, и волосы, выбивающиеся из-под шапочки, были темней.
– Не надо уходить, – пробормотал он чуть слышно и добавил, уже громче и спокойней: – Как тебя зовут?
– Ксения.
– Сколько тебе лет?
– Восемнадцать.
Разумеется, совсем другой человек. Больничная санитарка. Кроме глаз, ресниц, тонких рук и ног, тонкой шейки, остренького подбородка, ничего нет общего с его первой неразделенной любовью. И хватит сходить с ума. Просто смазливая санитарка, поломойка, соплячка. Он закрыл глаза, чтобы еще немного подремать, и с удивлением почувствовал почти забытый жар в груди и мятный привкус во рту.
Она вымыла пол, скрылась за дверью его индивидуальной ванной комнаты, он услышал, как она сливает грязную воду. Когда она появилась опять, с пустым ведром и шваброй, он спросил, может ли она помочь ему умыться.
– Сейчас к вам сестра придет, а мне еще пять палат мыть до обхода.
– Это и совсем не сложно. Надо отстегнуть ногу, поставить меня на костыли, проводить в ванную.
Она быстро взглянула на часы и, пожав плечиком, сказала:
– Хорошо.
Она оказалась сильней, чем он думал. Сползая с койки, он почти упал на девочку, навалился всей тяжестью, но она удержала его. Пока он умывался и чистил зубы, она сидела на бортике ванной. В зеркале он видел ее светлые насмешливые глаза, прямые, широкие брови, такие же угольно-черные, как ресницы. Белый ободок шапочки на лбу.
«Санитарка-поломойка-соплячка, – неслось у него в голове, – в конце концов, почему бы мне не поиграть в самого себя, молодого и полного разнообразных чувств? Это было бы так классно, я бы ожил, я бы – как это говорят психологи? – преодолел бы, наконец, многолетнюю фрустрацию».
– Почему ты работаешь санитаркой? – спросил он, прополоскав рот.
– Поступала в Медицинскую академию, недобрала баллов.
Она проводила его до койки, помогла лечь и ушла. Некоторое время он лежал, уставившись в потолок, и не сразу заметил, что нога почти перестала болеть.
С тех пор каждый день, каждый час превратился в ожидание. Он издали различал ее легкие быстрые шаги. Сердце его замирало от жестяного звяканья ведра и мокрого шлепка половой тряпки.
Галина Семеновна навещала сына ежедневно, заметила лихорадочный блеск в глазах, решила, что кто-то из медперсонала потихоньку снабжает его наркотиками, устроила тихое энергичное расследование и вскоре выяснила истинное положение вещей. Внимание ее сына к молоденькой санитарке не ускользнуло от других санитарок и медсестер. Олег почти каждого, кто заходил в палату, спрашивал, дежурит ли сегодня Ксюша, просил передать, чтобы она навестила его, и даже своему лечащему врачу сообщил с дурацкой улыбкой, что есть одна санитарочка, которая обладает удивительным свойством. Стоит ей появиться в его палате, и ему сразу становится значительно лучше.
Галина Семеновна тут же предприняла еще одно расследование. Уже через три дня ей было известно об этой девочке абсолютно все, и она осталась вполне довольна полученной информацией. Молоденькая санитарка оказалась коренной москвичкой из бедной, но очень интеллигентной семьи. Девочка не курила, не пила, не посещала эти жуткие дискотеки, не пользовалась декоративной косметикой, была вежлива, трудолюбива, жизнерадостна и совершенно здорова.
За день до выписки Олега из больницы Галина Семеновна решилась лично познакомиться с Ксюшей. Девочка ей понравилась. Маленькая, худенькая, аккуратненькая. До старости не растолстеет, не обабится, и в сорок, и в пятьдесят будет выглядеть отлично. Гладкие русые волосы расчесаны на пробор и сколоты в скромный хвостик на затылке. Чистое бледное лицо, высокий лоб, прямые широкие брови, темнее волос, почти черные. Большие светлые глаза, круглые, ясные, с голубоватыми белками, с длинными, угольно-черными ресницами. Скромность, здоровье, порода. Эти три качества были для Галины Семеновны решающими.
Отлично зная бестолковость и застенчивость своего сына, Галина Семеновна решила взять инициативу в свои руки. Она пригласила девочку в гости, сообщив, что у нее есть несколько бесценных медицинских книг, издания прошлого века. Ксюша клюнула и в гости пришла. Первый визит ограничился чинным чаепитием втроем. Потом последовало приглашение в театр, на какой-то модный нашумевший спектакль (цена одного билета равнялась месячной Ксюшиной зарплате). Галина Семеновна была такой искусницей в плетении тонких кружев человеческих отношений, так легко и ловко умела завязывать и развивать прочную взаимоприятную дружбу, что малышка санитарка не успела опомниться, а тонкая ниточка ее судьбы была уже прочно вплетена в гармоничный, аккуратный рисунок чужого рукоделия.
Сам Олег впервые в жизни был благодарен маме за ее активность. Он не знал, как подступиться к девочке, и подозревал, что все прошлые неудачи связаны с его нерешительностью, с тем, что всегда выбирал не он, а выбирали его. Ксюша была его последним шансом. Рядом с ней он чувствовал себя моложе, здоровей, счастливей. Он не сомневался, что больше не вернется к наркотикам, и жизнь начинается с нуля, с ясного, чистого, безгрешного младенчества.
Закончилось все, как положено, красивой дорогой свадьбой с «линкольном», платьем от Готье, морем цветов, шикарным ресторанным столом, множеством именитых гостей и десятидневным туром в французские Альпы.
И вот теперь, когда прошел почти год, красивая умная Ксюша, его воплощенная мечта, казалась Олегу такой же чужой и равнодушной, как эта летняя ночь, и трехмесячная прелестная Машенька не вызывала никакой радости.
Глава шестая
Капитан Косицкий давно не видел таких классических коммуналок и думал, что в Москве они уже перевелись. Однако Юлия Сергеевна Ласточкина жила именно в такой коммуналке, в доме середины прошлого века неподалеку от Кропоткинской. После ее смерти в мае этого года комната досталась соседям. Юлия Сергеевна была совершенно одиноким человеком.
Дверь открыл замшелый старик в полосатой пижаме, не сказал ни слова, пожевал беззубым ртом потухший окурок и удалился во мрак коридора. Косицкий после солнечной улицы почти ослеп и, ощупью пробираясь к кухне, откуда слышались голоса и грохот посуды, споткнулся об огромного кота. Кот с визгом дунул прочь, по дороге опрокинув табуретку, на которой стоял таз с мокрым бельем. Капитан, сделав несколько неверных шагов, зацепил ботинком влажную дамскую комбинацию и ввалился в кухню почти на четвереньках, пятясь задом, тихо матерясь и пытаясь освободить ногу от мокрых капроновых кружев.
На кухне повисла страшная тишина, капитан распрямился, вглядываясь в трех пожилых женщин.
– Так, гражданин, в чем дело? – произнесла дама в цветастом халате и ткнула в капитана ложкой с дырками, как огнестрельным оружием.
Косицкий показал удостоверение и спросил, с кем можно поговорить о покойной Ласточкиной Юлии Сергеевне.
Минут через десять, удовлетворив, насколько было возможно, любопытство соседей, капитан сидел в уютной, чистой комнате цветастой дамы, угощался чаем со смородиновым вареньем и слушал подробный рассказ о том, что на самом деле у Юлии Сергеевны был вовсе не рак. Ее отравили соседи, претендовавшие на комнату, а врачей подкупили, чтобы все получилось правдоподобно, и можно ли теперь надеяться, что справедливость, наконец, восторжествует, соседи-убийцы получат по заслугам, а комната достанется самому достойному из претендентов, коим, несомненно, является она, цветастая дама, поскольку многие годы, не щадя себя, следит за порядком в квартире, борется за экономию электроэнергии, за чистоту в местах общественного пользования? Если бы не она, здесь все давно взлетело бы на воздух к чертям собачьим, ибо Прохорова никогда не выключает газ, а у Гнобенко убегает молоко.
– Скажите, к Ласточкиной приходил кто-нибудь? – ловко вклинился в паузу капитан.
– А как же, постоянно эта наведывалась, подруги ее школьной дочка, Лиля. Беленькая такая, стриженая. Фрукты приносила, конфеты, «тетя Юка, тетя Юка», – пропищала дама фальшивым тоненьким голоском и сделала сатирически-сладкое лицо. – Однако ничего не вышло. Ох, она потом бесилась, эта Лиля, всю комнату перерыла, видно, не могла поверить, что труды ее пропали напрасно и никакого завещания нет.
– Простите, не понял, – кашлянул капитан.
– Да чего же непонятного, – дама нахмурилась, – десять квадратных метров на улице не валяются.
Следующим собеседником капитана оказался тщедушный мужчина лет сорока, с круглой лысинкой на макушке и хвостиком на затылке. Косицкий тут же про себя назвал его «шибзиком». Шибзик заглянул в дверь и, покачав головой, произнес высоким надтреснутым фальцетом:
– Сюзанна Ивановна, вам должно быть стыдно врать, а еще верующая женщина! Через стенку все слышно, – объяснил он капитану, – уши вянут от ее гадостей.
Под оглушительную брань цветастой дамы капитан удалился вместе с шибзиком. Тот представился Федей, признался интимным шепотом, что на самом деле зовут его длинно и странно: Фердинанд Леопольдович Лунц, и предложил выпить водки.
– Нет? Вы уверены? Ну а я выпью, с вашего позволения. – Он плеснул в стакан из бутылки, которая стояла на табуретке посреди комнаты.
Кроме табуретки и матраса в углу, мебели не было никакой. Капитан сел на подоконник, хозяин на пол, у табуретки.
– Я переезжаю, – объяснил Фердинанд, – женюсь и сматываюсь наконец из этого клоповника. Юлия Сергеевна тоже смоталась, но по-своему. Извините за грубость. Слушайте, а почему вы вдруг заинтересовались покойницей?
– Меня интересуют все знакомые Лилии Коломеец. Она дочь школьной подруги Юлии Сергеевны и довольно часто навещала ее. Вы были с ней знакомы?
– А что случилось? – По худому небритому лицу пробежала тень.
– Ее убили.
– Кого? Лилю? О господи! – Он налил себе еще водки, выпил залпом, закурил, и руки его заметно дрожали. – Нет, погодите. Вы что-то путаете, господин капитан милиции. Этого не может быть.
– Очень сожалею. Лилию Анатольевну Коломеец три дня назад обнаружили мертвой в ее квартире. Восемнадцать ножевых ранений. Я попрошу вас подробно рассказать, когда вы видели ее в последний раз, при каких обстоятельствах, о чем говорили. Все, что сумеете вспомнить.
– Восемнадцать ножевых ранений… Боже мой… – Фердинанд, сидя на полу, обхватил колени и уткнулся в них лицом. Капитан заметил, что плечи его крупно вздрагивают, столбик пепла сорвался и осыпал ветхие джинсы. – Простите, – выдавил он хрипло, – мне надо немного прийти в себя. Мне надо осознать, справиться.
– Да, пожалуйста, я не тороплюсь. – Косицкий открыл форточку, закурил и уставился в окно. «Он такой впечатлительный? – думал капитан, наблюдая за двумя девушками, играющими в бадминтон на маленьком пустыре. – Или у него что-то было с убитой? Ведь плачет мужик, рыдает, как ребенок. Конечно, восемнадцать ножевых любого нормального человека впечатлят, особенно если речь идет о молодой симпатичной женщине, никак не связанной с криминалом, но чтобы так сильно… Или это я отупел, нормальные человеческие чувства кажутся мне фальшивыми и подозрительными? На смерть каждый по-своему реагирует, кто столбенеет, кто рыдает, некоторые начинают прыгать, суетиться. Реакция зависит не столько от обстоятельств, сколько от нервной системы. Этот Фердинанд слабенький, чувствительный, что-то в нем детское, несмотря на лысину и водку. Имени своего стесняется, как школьник. Ладно, послушаем, что скажет».
Девушки за окном прервали игру и, размахивая ракетками, гонялись за драным здоровенным псом, который утащил воланчик.
– Все, – Фердинанд поднял голову, жадно затянулся, загасил окурок, – еще раз извините. Просто это так неожиданно, так страшно.
– Не стоит извиняться, – пожал плечами капитан, – вспомнили что-нибудь?
– Даже не знаю, с чего начать. Их было две сестры, Лиля и Ольга. Ольга вас вряд ли интересует, она покончила с собой десять лет назад.
– Вы о ней тоже можете рассказать?
– Кое-что могу. Однако зачем? Рана давно затянулась, стоит ли ковырять?
– А была рана? – тихо спросил Косицкий.
– Ну, когда молодая женщина ни с того ни с сего выбрасывается из окна, оставляя четырехлетнего ребенка, это, знаете, больно, тяжело, страшно.
– Ни с того ни с сего? Разве Ольга Коломеец не употребляла наркотики?
– Ну вот, и вы туда же, – вздохнул Фердинанд, – да, был период в ее жизни, когда она кололась. Ее уже десять лет нет на свете, но если поминают, то непременно с клеймом «наркоманка». Это несправедливо.
– То есть, вы хотите сказать, ей удалось бросить? – уточнил капитан.
– Ну да, да. Собственно, Юлия Сергеевна ее и вытащила.
– Разве она была врачом?
– Нет. Она была педагогом. – В голосе Фердинанда прозвучало легкое раздражение. – Вот вы работаете в милиции, вы сыщик, вам приходится сталкиваться с самыми дикими, нелепыми мотивами человеческих поступков, и вы вроде бы должны понимать, что в жизни нет стандартов, нельзя мыслить штампами, это абсолютно тупиковая логика. Спасти от наркотической зависимости может только человек с медицинским дипломом. Наркоманы все сумасшедшие и запросто кончают с собой. Волга впадает в Каспийское море, а две параллельные прямые никогда не пересекутся.
– Я всего лишь спросил, была ли Ласточкина врачом, – пожал плечами Косицкий. – При чем здесь Волга?
– Да, – Фердинанд выразительно закатил глаза. – Волга совершенно ни при чем. Мы говорим сейчас о сестрах Коломеец. Ну что ж, начнем с Оли. Она иногда жила здесь, по два-три дня, по неделе. А в последний раз, незадолго до смерти, провела в нашем клоповнике почти месяц. Было лето восемьдесят девятого. Ольга готовилась к экзаменам, собиралась поступать в пединститут. Не ахти какой вуз, но все-таки высшее образование.
– А почему она не могла готовиться дома? – спросил капитан.
– Они с Лилей и тетей Маней жили в маленькой квартирке, ребенку тогда было четыре года. Знаете вы или нет, у нее родилась больная девочка из-за наркотиков. Лиля и тетя Маня взяли ребенка на себя и отпустили Ольгу сюда, чтобы она могла спокойно заниматься.
– И что, она поступила?
– Да, на вечернее отделение. И была очень счастлива. Все-таки сдать экзамены, когда тебе под тридцать, все, что учил в школе, давно забыл, к тому же за плечами такой жуткий наркостаж! А через неделю выбросилась из окна.
– Однако вы неплохо все помните, – заметил Косицкий. – Об отце ребенка никогда не заходила речь?
– Никогда. Наши коммунальные кумушки, конечно, приставали с вопросами, но так ничего и не выяснили. Был какой-то человек, с которым Ольга жила два года. Но я даже имени не знаю. Вероятно, ребенок от него. И наркотики тоже – от него. Когда Ольга покончила с собой, все сразу стали говорить, будто это из-за наркотиков, забыли, что она к тому времени уже полтора года как завязала. На Лилю, конечно, было страшно смотреть. Она прямо прозрачная стала. А тетя Маня слегла, из крепкой, сильной женщины превратилась в развалину и вскоре умерла. Лиля осталась совершенно одна, с больным ребенком на руках. И она вынуждена была сделать то, что сделала. – Фердинанд встал и прошелся по комнате. Худые плечи согнулись, байковые рваные шлепанцы болтались на тонких босых ногах, и он все время спотыкался. Аптечная резинка сползла с жиденького хвостика, серые, тонкие, как пух, волосы растрепались.
– Что именно она сделала? – осторожно спросил капитан.
– Если вы расследуете убийство Лили, должны уже знать, – быстрым, свистящим шепотом проговорил он и подошел к капитану почти вплотную, – я не могу вам этого сказать. Я поклялся, понимаете?
– Понимаю, – кивнул Косицкий, – но если эта информация имеет отношение…
– Нет! – выкрикнул Фердинанд. – Никакого отношения к убийству эта информация иметь не может! Прошу вас мне поверить, – добавил он уже спокойней.
Капитан решил пока оставить тему, дать нервному собеседнику расслабиться. Клятва – это, конечно, серьезно, однако убийство еще серьезнее, и сообщить, что такое ужасное сделала Лилия Коломеец, бедному Фердинанду все равно придется. Не сейчас, позже.
– Да не волнуйтесь вы так, – мягко произнес капитан, – просто расскажите мне о сестрах. Какие они были?
– Они были разными, – отчеканил Фердинанд почему-то с вызовом в голосе. – Внешне похожи, но только на первый взгляд. Лиля сильней, жестче, разумней. И не потому, что старшая. В ней чувствовалась определенность, надежность. Она с детства знала, чего хочет. А Ольга витала в облаках, у нее глаза всегда были туманные, еще до наркотиков.
– Если я правильно понял, вы знали обеих сестер с детства?
– Конечно. Я в этой коммуналке родился, они здесь бывали часто. Ну ладно, попробую с самого начала. Жили-были три девочки. Геня, Маня и Юка. Они дружили с раннего детства и до самой смерти. Геня – это моя мама, Генриетта Фердинандовна Лунц. Умерла три года назад. Кровоизлияние в мозг. Маня – мама Лили и Ольги, ну, а Юка, вы уже догадались, Юлия Сергеевна Ласточкина. Когда и отчего умерла, вы без меня знаете. Рак молочной железы. Детей у нее не было, и вообще ничего не было, кроме работы и комнаты в этом клоповнике. Работала она всю жизнь учительницей французского в школе и занималась языком со мной, с девочками. Сейчас мне та жизнь кажется далекой сказкой. Для нас троих устраивались такие чудесные детские праздники, что они мне до сих пор помогают выжить. Правда, не знаю, помогут ли сейчас. Видите ли, я любил Лику. И чем безнадежней было мое чувство, тем оно больней меня по едало. Вот теперь я женюсь на замечательной, доброй, милой женщине, но делаю это как будто назло Лике. А ее, оказывается, уже нет.
«Вот оно как, – подумал Косицкий, – любил, значит. Страстно и безответно».
– Фердинанд Леопольдович, когда вы видели Лилию в последний раз?
– Пожалуйста, прошу вас, не называйте меня так, – вскрикнул он и сморщил лицо, как от зубной боли, – я терпеть не могу это сочетание звуков. Федя, Федор, гражданин, как угодно!
– Хорошо, Федор. Так когда вы видели Лилю?
– В мае. Пятнадцатого мы похоронили Юлию Сергеевну, потом были поминки. Желающих прийти оказалось много. Учителя, ученики, родители учеников. Она была великолепным преподавателем. Поминали ее в школе, где она проработала всю жизнь. В актовом зале поставили столы, было сказано много хороших, теплых слов. Потом мы с Ликой пришли сюда. Надо было разобрать вещи, бумаги. Кроме нас, это некому было сделать. Мы просидели всю ночь, осталось столь ко писем, старых фотографий, поздравительных открыток. Как ни ужасно звучит, но эта ночь оказалась одной из самых счастливых в моей жизни. Никогда прежде я не проводил с Ликой столько времени вдвоем, наедине. Послушайте, а что вы на меня так смотрите? – вдруг вскрикнул он. – Того, о чем вы сейчас подумали, не было и быть не могло!
– Откуда вы знаете, о чем я сейчас подумал? – удивился Косицкий. – Вы что, умеете читать чужие мысли?
– Я просто неплохо знаю людей. – Он закурил очередную сигарету и несколько секунд молчал, тупо глядя перед собой. – Ладно, извините. Я постоянно срываюсь. Мне плохо. Я очень любил Лику и не смел к ней прикоснуться, мы просто смотрели старые фотографии, вспоминали детство. Часа в четыре утра вышли на кухню сварить кофе. Лику от бессонной ночи знобило, она накинула старую Ольгину кофту. Здесь оставались некоторые Ольгины вещи, тетя Юка их просто держала в шкафу, на память. Я варил кофе, она сидела у стола, мы о чем-то говорили, и вдруг она замолчала на полуслове. Я смотрел, чтобы кофе не убежал, и повернулся не сразу, через минуту. Не знаю, что произошло, но у нее стало такое лицо… Никогда этого не забуду. У нее ужас был в глазах, она глядела на меня и как будто не видела. Я, разумеется, стал спрашивать, что случилось, но в ответ ни слова. Сидит, съежившись, закутавшись в эту кофту, руки держит в карманах и дрожит. Я налил кофе, она взяла чашку, а рука так дрожит, что все расплескалось на стол. Как ни пытался я узнать, что произошло, она ничего мне не сказала, только «извини, Феденька, ложись спать, мне надо побыть одной». И ушла в комнату тети Юки. Все. Больше я ее никогда не видел. Утром проснулся, постучал, ее нет. Ключ она оставила у соседей.
– И после этого вы ей не звонили?
– Звонил, конечно. – Он почему-то покраснел, судорожно вздохнул и заговорил немного другим голосом, отрывистым и хриплым: – Она уверяла, что у нее все нормально, обещала зайти. Я попытался спросить еще раз, что такое произошло ночью, она сказала: «Ничего, запоздалая реакция на смерть тети Юки». Просто кончилась суета с похоронами, и до нее вдруг по-настоящему дошло, что тети Юки больше нет. Вполне разумное объяснение. Но я знаю, она говорила неправду.
«Кажется, ты тоже врешь, драгоценный мой», – заметил про себя Косицкий, а вслух мягко произнес:
– Почему? Так действительно бывает. Запоздалая реакция. Психологически вполне понятно.
– Бывает. Только не с Ликой. – Он помотал головой, и серые волосы поднялись, как пух одуванчика. – Понимаете, она была очень конкретным человеком. Такая острая реакция могла возникнуть от чего-то внезапного, неожиданного, а смерть Юлии Сергеевны была свершившимся фактом. Последнюю неделю Лиля не выходила из больницы, ухаживала за Юкой, и уже все было понятно.
– У вас есть какие-нибудь предположения? Вы сказали, на ней была старая кофта Ольги, она держала руки в карманах. Может, она нашла там что-то?
– Ну подумайте сами, что она там могла найти? Самое страшное – ампулу с наркотиком. Допустим, так. Навалились воспоминания, стало больно. Но у нее был шок, понимаете? Самый настоящий шок.
– Может, она нашла там записку, успела ее прочитать и убрать, пока вы варили кофе? Вы стояли к ней спиной.
– Записка? – Он напряженно сморщил лоб. – Ну да, возможно, это была записка. От Ольги. Как будто с того света. Простите, я очень устал. Мы слишком долго с вами беседовали, но я даже рад, что так получилось. Вы смягчили удар, отвлекли меня. Всего доброго.
– Спасибо, – Косицкий протянул свою визитку, – если вспомните еще что-нибудь, обязательно мне позвоните.
– Непременно, – кивнул Фердинанд.
Капитан пожал его вялую влажную кисть и быстро, тихо спросил:
– Да, совсем забыл. Вы не знаете адрес интерната, в котором живет Люся?
– Понятия не имею.
– Девочка сейчас в больнице, в тяжелом состоянии, и мы не можем выяснить, где она живет. В момент убийства она находилась у Лилии Анатольевны и прописана у нее, однако соседи говорят, что постоянно там не жила.
– Я ничего об этом не знаю. Всего доброго. – Голос его опять стал глухим и отрывистым, глаза забегали.
– Простите, Фердинанд Леопольдович, последний вопрос, – быстро проговорил капитан, пытаясь поймать его взгляд, – вы поклялись не говорить о том, что Лиля отдала девочку в интернат? Я правильно понял?
– Ну я же просил вас, господин капитан! Неужели так трудно запомнить? Меня зовут Федор! Федор! – Он отвернулся, глаза продолжали бегать. – Да. Вы поняли правильно. Лика просила меня никогда ни с кем не обсуждать этот ее поступок. Всего доброго.
– Спасибо, Федор. А что касается имени-отчества, извините, – Косицкий улыбнулся, – честно говоря, не вижу в нем ничего странного и тем более смешного, не понимаю, почему вы так болезненно к этому относитесь. Кстати, насчет имен. Если вы хорошо знали сестер, если ваши мамы дружили, неужели никогда при вас не произносилось имя человека, с которым Ольга прожила два года?
– У дочери Ольги отца нет, – отчеканил Фердинанд, – считайте, что этот ребенок появился на свет в результате партеногенеза.
– В результате чего, простите?
– Непорочного зачатия, – криво усмехнулся Фердинанд. – Партеногенез – это вид полового размножения, при котором организм развивается из неоплодотворенной яйцеклетки. Встречается у некоторых беспозвоночных, у ряда ракообразных, у растительной тли. Всего доброго. Извините, мне надо побыть одному. – Дверь комнаты закрылась перед носом у озадаченного Ивана.
Младший лейтенант Николай Телечкин пил теплое пиво и жевал жирный чебурек в открытом кафе у метро. В кармане у него лежал список продуктов, которые он должен был купить на рынке по поручению своей молодой жены Алены. Коля не спешил, домой идти не хотелось. Беременная Алена капризничала и требовала от лейтенанта совершенно невозможных вещей: чтобы у нее прекратился токсикоз, чтобы ему повысили зарплату и полностью освободили от ночных дежурств, чтобы вредная хозяйка однокомнатной квартиры, которую они снимают, не заявлялась раз в неделю и не совала свой нос в каждый уголок.
Коля жевал чебурек без всякого аппетита, подозревал, что мясо в нем собачье или кошачье, а пиво разбавлено сырой водой, и глазел на небольшую площадь перед метро.
Напротив кафе, у входа в метро, копошилась компания бомжей. Опухшие, разбитые лица, всклокоченные волосы, в которых, вероятно, паслись целые стада насекомых. Прохожие огибали их, чуть ли не выходили на проезжую часть. Молодые женщины затыкали носы. Рядом с бомжами, у таксофона, остановился какой-то парень и страшно долго шарил по карманам, искал жетон. Поблизости было еще три таксофона, и все свободны, но он выбрал этот, рядом с бомжами. В карманах ничего не нашел, но, вместо того чтобы подойти к любому ларьку, купить жетон, остался стоять.
Он был одет во все черное. На голове платок-«банданка» с белыми черепами на черном фоне. Черные узкие джинсы, черная футболка с картинкой на груди. Коля разглядел что-то вроде черепа и свастики. На плече болталась небольшая спортивная сумка.
«Может, это новый вид токсикомании? Они воняют, даже здесь слышно, а он стоит, наслаждается, – подумал Коля, с любопытством разглядывая парня, – бесплатный кайф. Даже клей денег стоит, к тому же надо уединяться, прятаться, мешок на голову надевать. А если научиться ловить кайф от бомжовской вони, то можно просто ходить по вокзалам, толкаться у метро и балдеть сколько душе угодно».
Сквозь вялый уличный гул что-то рявкнуло, из ларька на площадь, как цунами, обрушилась волна тяжелого рока. Крутили хит сезона. Женская группа в маршевом ритме повторяла: «Шизофрения любви, меня скорей обними, и разум мой отними, шизофрения любви». Хриплое дыхание группы усиливалось стереодинамиками, казалось, стонет и шумно дышит вся маленькая торговая площадь перед входом в метро. От компании бомжей отделилось тощее лохматое существо в драном открытом платье с блестками и принялось отплясывать прямо перед кафе, в двух шагах от столика, за которым сидел лейтенант. Бомжиха вертела задом, трясла жидким бюстом, притопывала, размахивала руками и громко хрипло подпевала: «Шизофрения, а-а-а, шизофрения любви».
Коля положил недоеденный чебурек на бумажную тарелку, закурил и стал с брезгливым любопытством наблюдать этот безумный танец. Надо было встать и уйти, дома ждала Алена, и чем позже он вернется, тем злее и дольше она будет его пилить. Но, как завороженный, он продолжал следить за танцующей теткой и краем глаза приметил, что, кроме него, есть еще один зритель. Парень в черном. Он даже приблизился, нашел место поудобней, закурил. Коля обратил внимание на бело-голубую пачку «Парламента» и зажигалку «Зиппо». Слишком дорогое курево для юного токсикомана.
Прохожие ускоряли шаг, оглядывались и спешили прочь от неприятного представления. Бомжи, приятели плясуньи, поглазели, вяло похлопали, но только в первую минуту, потом им надоело, они разошлись. А парень в банданке с черепами все стоял, и даже темные очки не скрывали, что глядит он на бомжиху и только на нее. Он пристроился в двух шагах от Коли, почти у него за спиной. Лейтенант несколько раз оглядывался, заметил дорогие черные замшевые ботинки, совершенно не сочетающиеся с джинсами, футболкой и банданкой. Шнурки в ботинках были почему-то белые.
«Что ж тебе, лейтенант, всякая муть лезет в голову? – усмехнулся про себя Коля. – Ничего странного в этом парнишке нет. Совершенно ничего. Ну, стоит, смотрит, просто так, от скуки. Может, ждет кого-то».
Пьяная тетка между тем, продолжая отплясывать, приблизилась к столику, за которым сидел Коля. На него пахнуло вонью. Он был в штатском, в джинсах и футболке, он был единственным человеком в кафе, тетка, вероятно, угадала в нем благодарного зрителя и решила адресовать ему свое выступление. Она протянула к нему руки с траурными ногтями, томно откинула голову, оскалила щербатый рот, по-цыгански потрясла плечами, наконец плюхнулась на стул напротив лейтенанта и цапнула со стола пачку сигарет. Вместо того чтобы шугануть нахалку, Коля молча уставился на нее. У бомжихи были подбиты оба глаза и расцарапана щека.
И тут наконец до него дошло, почему он так долго тупо пялился на тетку, наблюдал ее пьяную пляску, терпел истерический грохот шлягера, прихлебывал гадкое пиво, почему не давал ему покоя парень в банданке с черепами и какая между этими двумя неприятными явлениями возможна связь.
Несколько дней назад, после ночного дежурства, он курил на крыльце отделения и увидел, как вышла знаменитая бомжиха Симка со своим сожителем Рюриком, обратил внимание на живописные Симкины фингалы, а вскоре узнал о сундучке с нитками из квартиры убитой и о черте с красными рожками.
Всему отделению было уже известно, что Симке из бомжовского дома посчастливилось стать единственной свидетельницей по убойному делу и ее допрашивал следователь Бородин. Показания ее звучали до того интересно, что участковый пересказывал их, как анекдот.
Коля был с детства азартен и любопытен. Он не пошел бы в милицию, если бы не мечтал раскрыть какое-нибудь жуткое, запутанное преступление, поймать кровавого маньяка и прославиться хотя бы на уровне округа. С того злосчастного момента, как он увидел первый в своей жизни насильственный труп, в голове у него, помимо воли, включился и заработал какой-то совершенно новый, неведомый механизм. Коля думал только об этом странном убийстве, о сумасшедшей девочке Люсе, пытался представить, как она хватает нож и вонзает лезвие в единственного в мире человека, которому она, сумасшедшая девочка, нужна. Считала она удары или нет? Почему их ровно восемнадцать?
«Этого не может быть!» – повторял про себя Коля и несколько раз нечаянно повторил вслух, отчего жена Алена странно посмотрела на него и покрутила пальцем у виска. Ночью ему приснилась жуткая сцена бойни. Девочка-зомби с оскаленным черным ртом, молодая женщина в розовом халате и узорчатых носочках, черт с рожками, сонное пухлое лицо следователя Бородина. Сон этот был настоящим кошмаром, но ровным счетом ничего не значил. Коля проснулся, вышел покурить на кухню. Он считал себя сильным, а оказался слабым, чувствительным, как барышня позапрошлого века, и поэтому стал раздражать самого себя.
«Если все-таки не она, если приходил гость с конфетами и цветами, почему Коломеец была в халате? Не ждала гостя, вышла из ванной, и он тут же набросился на нее? Допустим, у тетушки был шок. От неожиданности она не успела крикнуть. Почему, в таком случае, не закричала Люся? Восемнадцать ударов требуют времени, Люся должна была понять, что происходит».
Это были даже не мысли, а невнятное омерзительное бурчание в мозгах, как бывает в животе от сырой капусты. Люся дала довольно верное определение, когда рассказывала, что происходит от укола.
«Мне пока никто психотропных препаратов не колол, но если так пойдет и дальше, то вскоре у меня окончательно съедет крыша», – с тоской подумал Коля и протянул бомжихе кружку с пивом.
Симка жадно выпила и, перекрикивая музыку, спросила:
– А пожрать дашь?
Коля молча пододвинул к ней тарелку с половиной чебурека. Сима слопала за минуту. Музыка кончилась так же внезапно, как началась, и стало удивительно тихо. Сима ладонью вытерла жирный рот. Потухшая сигарета лежала в пепельнице, она схватила окурок и хотела уйти, но лейтенант приветливо улыбнулся и произнес:
– Ну как, Сима, черт больше не являлся?
– Какой черт? Ты что бормочешь, мальчик? Совсем сдурел? – прошептала Сима, вытаращив глаза, и быстро перекрестилась трясущейся рукой с зажатым в пальцах окурком. – Думаешь, раз я такая, со мной все можно?
– Ну тот, с красными рожками. Помнишь, ты рассказывала? – уточнил Телечкин и мысленно обматерил самого себя.
Сима несколько секунд глядела на него разноцветными отчаянными глазами, наконец вскочила и кинулась прочь, прихватив со стола пачку «Честерфильда», в которой оставалось еще штук десять сигарет.
Коля не стал за ней гнаться и окликать не стал. Зачем? Чтобы расспросить ее о черте, который, может, и существует только в ее алкогольном воображении? Или чтобы отнять свои сигареты?
Настроение у него испортилось окончательно. Он давно должен был вернуться домой с полными сумками, но зачем-то потерял столько времени, хотел отдохнуть, выпить пивка, а получилось черт знает что. От чебурека с пивом уже начал побаливать желудок, бомжиха стащила сигареты и удрала. Парень в черном тоже исчез. Коля встал, но, вместо того чтобы идти на рынок, отправился в другую сторону, к бомжовскому дому, в котором жила Сима.
Он шел проходными дворами и заставлял себя не спешить, уговаривал, что просто хочет погулять немного. Он ведь не сошел с ума, не собирается влезать в расследование, которое его совершенно не касается. Конечно, нет! Делать ему нечего…
На детской площадке, у мусорных контейнеров, он остановился и подумал, что именно здесь Симка увидела черта, а потом Бородин увидел Симку.
«Разумеется, все это полный бред. Лилию Коломеец убила ее сумасшедшая племянница. На то она и сумасшедшая. Нет никакого маньяка. Восемнадцать ножевых ранений ничего не значат. Трижды шесть – восемнадцать. Три шестерки – знак сатаны. Ну и что? На фига мне эта арифметика-каббалистика? Дебильная девочка просто била тетю ножом и не считала удары».
Коля заставил себя сесть на лавочку. Полуденное солнце лилось сквозь матовую пыльную зелень. В песочнице дрожали ослепительные блики. Было душно, вероятно, приближалась гроза. Коля машинально полез в карман за сигаретами, но тут же вспомнил, что пачку утащила бомжиха, огляделся в надежде стрельнуть курево у какого-нибудь прохожего, но вокруг, как назло, не было ни души. Он собрался уходить и тут увидел парня в банданке. Тот был без очков. Светло-карие глаза равнодушно скользнули по лицу лейтенанта.
– У вас закурить не найдется? – машинально выпалил Коля.
Парень застыл, глаза его из равнодушных и пустых сделались внимательными, острыми, и взгляд неприятно контрастировал с улыбкой. Тонкие губы растянулись, блеснул ровный ряд крепких желтоватых зубов. Коля вдруг подумал, что он значительно старше, чем кажется. Просто одет по дурацкой молодежной моде, а лицо совсем не юное. Возможно, ему вообще за тридцать.
Парень между тем достал из кармана мятую пачку «Парламента» и протянул Коле. В другой руке у него оказалась зажигалка «Зиппо», он дал прикурить лейтенанту и закурил сам.
– Спасибо, мужик. Вот, понимаешь, решил пивка выпить, – Коля простодушно улыбнулся, – а тут какая-то пьяная дура со стола сигареты свистнула. Не гнаться же за ней, в самом деле?
Парень промычал в ответ что-то невнятное, кивнул и пошел своей дорогой довольно быстро, не оборачиваясь. Коля несколько секунд стоял, пускал дым и смотрел ему вслед. Лейтенант понял, что он направляется назад, к метро. То есть он зачем-то сбегал вслед за Симкой к бомжовскому дому, а теперь возвращается.
«А может, он ждал кого-то, кто живет рядом? Ведь бомжовский дом здесь не единственный. Почему обязательно Симка? Зачем она ему? Просто он ждал подружку или приятеля у метро…» Коля взглянул на часы, присвистнул и рванул к рынку, на бегу уговаривая себя не думать больше об этой идиотской истории.
Однако в душном стеклянном муравейнике крытого рынка ему то и дело мерещилась банданка с черепами, черная футболка со свастикой. Переходя от прилавка к прилавку, он забывал, что еще надо купить, без конца вытаскивал из кармана смятую бумажку со списком, пока не уронил ее вместе с двумя бумажными полтинниками. Было ужасно противно шарить по полу, у толпы под ногами. Коля стал собирать, печально матерясь про себя. Один из его полтинников был придавлен черным замшевым ботинком с белым шнурком. Он поднял голову. На него, сверху вниз, смотрели знакомые светло-карие глаза. Банданки на голове уже не было, желтые тусклые волосы торчали короткими редкими перышками. «Да ему сороковник, не меньше!» – удивленно подумал Коля.
Замшевый ботинок подвинулся, отпуская бумажку, белобрысый нырнул в толпу и исчез.
Глава седьмая
Люся проснулась от боли. Боль была тупая, вязкая и тяжелая, как теплый пластилин. Открыв глаза, Люся несколько минут глядела в полосатый потолок. Полоски медленно двигались и ломались, доползая до стены, отчего маленький отдельный бокс казался клеткой, подвешенной в белом безвоздушном пространстве. Полная луна заливала бокс холодным дымчатым светом. Комната плыла, кружилась все быстрей. Она не знала, что это голова у нее кружится. Такого с ней еще никогда не было. Пытаясь утешить себя, она рассудила, что все это, пластилиновая боль, невесомое жуткое кружение, лишь страшный сон. Ей часто снились страшные сны. Тетя Лиля говорила: встань и умойся холодной водой. Раковины в боксе не было, Люсе предстояло пройти по пустому коридору, освещенному дрожащими голубыми лампами. Она уже не раз преодолевала этот путь ночью, просыпаясь в ледяном поту от страшных сновидений, и знала, что там, в синем коридоре, еще страшней, чем во сне. Ночами из-под закрытых дверей маленьких палат-боксов сочились всхлипы, стоны, храп, Люся различала, как тяжело дышат во сне ее невидимые соседи, как они ворочаются, кто-то привязан на ночь к кровати, кто-то обмочился, и утро начнется с сердитого крика нянек.
Она чувствовала людей даже сквозь стены, и если люди были больны, несчастны, жестоки, Люсе становилось плохо. Она ничего не могла поделать с этим, чужие чувства отражались в ней, как в зеркале, непонятно для чего.
Зажмурившись, она приподнялась на койке и вдруг поняла, что не было никакого сна. Комната плыла наяву, и живот болел наяву. Больничная рубашка и простыня оказались темно-красными. Вот в чем дело. Люся плохая, у нее течет кровь, она умрет, так ей и надо. Но больничное белье станет грязным, и даже матрас, а его нельзя стирать. За это Люсю будут ужасно ругать.
Кровь текла и не останавливалась. Люся попыталась слезть с кровати, пусть лучше течет на пол, его можно помыть. Но голова кружилась, ноги совсем ослабли, встать Люся не сумела и закричала.