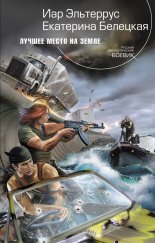Книга Тьмы (сборник) Олди Генри

Плавно, притворяясь арфой, вступает гитара. Спустя несколько аккордов, слегка гнусаво, гобой начинает тему. Почти сразу плач гобоя подхватывается стихшей было гитарой: сухая, нервная, сейчас она звучит печально, словно ветер над ивами ночного кладбища. Так они и продолжают вместе: вздох и вибрация, вопрос и ответ. Издалека, словно с улицы, доносится многоголосье оркестра. Хоакин Родриго, концерт «Аранхуэс», «Adagio». В оригинале, без джазовых шуточек. Солирует Андрес Сеговиа, «Паганини гитары», однажды на вопрос «Когда вы начали играть?» ответивший: «До рождения».
Ремень сворачивается в петлю. Остро блестит пряжка из металла.
В гитаре появляется нерв.
13
Дождь за окном колдует: тополиный пух — в грязь.
— Пап, ты обедать будешь? Я тебе борща набрал…
Шуты бегут по улице. Раскрывают зонтики. Опаздывают на работу, торопятся на свидание, в магазин за молоком. Улыбки — грим. Кармин на палец, и уверенным жестом — от уголков рта к ушам. Дома — декорации. За пыльной мешковиной, раскрашенной наспех под кирпич и бетон, нет ничего, кроме еще большей пыли. Страсти тщательно отрежиссированы, гром за Салтовкой ждет ключевой реплики, чтобы грянуть в нужный момент. Бутафорские сумки, коляски из реквизитной. Шуты, шутихи… Бегут, спешат, ждут звездного часа, когда их станут хоронить за оградой. Утирая со щек, измазанных белилами, нарисованные слезы.
Один-одинешенек зритель на весь белый свет.
Я.
— Лера… ты мне не нравишься, Лера…
Конечно, не нравлюсь. Какой жене понравится, если муж пятый день не выходит из квартиры? Пустые бутылки «Холодного яра» и «Пшеничной». Пластиковые баклажки от пива. У меня больничный. Я сошел с ума. Буду валяться на диване, тупо глядя в потолок. Наверное, надо рефлексировать. Пытаться понять. Строить гипотезы или обратиться к психиатру. Поделиться с женой. Не могу. Гипотезы рушатся карточными домиками, рефлексия гаснет, едва вспыхнув — лампочка с надписью «Аварийный выход» перегорела от скачков напряжения. Психиатр страдает в ожидании любимого клиента. Что я скажу доброму доктору? «Они еще танцуют?»
Зашибись, как подытожила бы Лапочка.
Бедная Лапочка. Она тоже ничего не поняла. Посочувствовала. Сказала: со всяким бывает. Сказала: в нашем возрасте… Я кивал, притворяясь смущенным, — как же? опозориться в самый ответственный момент!.. — тайком вставляя ремень обратно в петли. Руки дрожали, полоса кожи делалась скользкой, живой, похожей на змею. Однажды я-зритель прочувствую катарсис до конца. Зайдусь в овациях, сбивая ладони в кровь. Проникнусь восторгом, глядя, как на сцене остывает труп.
Кто малиновку убил? Я, ответил воробей. Лук и стрелы смастерил…
Я?!
Глупости. Я был в зале.
Скажите, пожалуйста, из какого подвала, склепа, бездны берется восторг очищения, острый припадок духовности, когда мы глядим на насильственную смерть? Хороший парень наконец добрался до плохого. Шпага Гамлета остра. Палач из Лилля сносит голову миледи. Восстанавливает справедливость граф Монте-Кристо. Эсхил, Софокл, Эврипид мочат ахейцев в ахейских сортирах. Голливуд заодно с классиками: крепкие орешки знают, как доставить удовольствие и снять стресс. Телевизор ежедневно, ежеминутно: «В результате взрыва, произошедшего в Саратове, на складе химикатов… на шахте в Донецке… в результате разгона антиправительственной демонстрации на Филиппинах…» Из газет: «Пятилетний людоед, пойманный в четверг с поличным на окраине Нижнего Тагила…»
Уже не трагедия. Даже не драма. Еще не комедия.
Обыденность.
Зрители рукоплещут. Зрители не могут без катарсиса. Привыкли за века.
— Лерочка… Тебе звонили из «Досуга». Что сказать?
— Скажи: я на больничном. У меня приступ.
— Какой приступ?!
— Сердечной недостаточности. У меня острый недостаток сердца.
— Папа… тебе плохо?
— Хуже. Мне хорошо.
Когда это подкатывает дома, прячусь в туалете. Смотрю из зала (пятый ряд, третье место справа…), как шут в моей маске сидит на унитазе. Наедине с собой. Скучная сцена из пьесы абсурда. И всегда из динамиков, невпопад пущенные звукооператором, шелестят осенние листья. Почему листья? — не знаю. Желтый шелест под ногами. Кто-то идет. Осень. Мой Командор. Дождь. Лес осенью становится прозрачным, и черепки октябрьских кувшинов шуршат под каблуком.
Валерий Яковлевич, милый друг, пожалте в психушку.
Ваша койка между комдивом Чапаевым и жертвой сексуально озабоченного НЛО.
— Я ходила в церковь. Свечку за тебя поставила.
— Ты сроду не ходила в церковь.
— Ну и что? Мама сказала: поставь, поможет.
Листаю сборник стихов какого-то Вершинина. Семьдесят первая страница, «Скоморохи».
- …Падал со звонниц стон колокольный выжатым вздохом.
- Гарью смолистой срубы клубились.
- Жгли скоморохов.
- Голых и битых — с маху в кострища,
- к черту на вилы!.
Перечитываю в шестой раз. Нравится. К черту. На вилы. Голых. Битых.
Скоморох, слышишь?!
На вилы.
— Лерочка… Вот, прочитай…
Газета мятая, пахнет типографской краской. «По мнению матушки Епифании, лауреата международной премии Св. Викентия, лицензия Минздрава № 145296, большинство людей болеют и страдают от черного колдовства, зависти, злости и ревности окружающих. С вас, ваших детей и внуков матушка Епифания с помощью старинных наговоров и молитв снимет порчу и сглаз, проклятия и приворот, восстановит половую активность и удачу в бизнесе».
— Тоже мама подсунула?
— Лерик, ты не упрямься. Вот люди пишут: «После индивидуального приема у матушки Епифании из моих почек и мочевого пузыря…» Нет, это не то. Сейчас… «Ушел к молодой девке муж… прошли пяточные шпоры… по маятникам, по кристаллам, по плавающей свече…» Вот! Слушай: «В последнее время начали преследовать неудачи в делах и личной жизни. На своей шкуре узнал, что такое порча. Но через матушку Епифанию воспрял духом…»
— Наташа, я похож на психа?
— Похож. Очень похож, Лерочка…
— Ладно. Давай свою газету. Адрес там есть?
Хватаюсь за соломинку. Клин клином, так сказать. Иначе остается одно.
За ограду.
14
Ведьмам нонеча лафа. Всенародная любовь, выражаемая в обильном кредитовании благих дел. Вместо хибары на окраине — офис в центре, на втором этаже. Между прочим, рядом с налоговой инспекцией — так, видимо, проще от сглазу спасать. Вместо черного кота — секьюрити. Плечистый жлоб с улыбкой Будды-олигофрена. В приемной столик с журналами. «Playboy», «Лиза», «Секреты кулинарии» и брошюра «Иисус любит тебя». Сочетание сразу убедило меня в родстве душ. Нормальный человек такое рядом не положит.
— Вы записаны на исцеление?
Фарфоровая улыбка секретарши. Гурия отвлекается от компьютера, где ее ждет «Супертетрис». Хлопает ресницами. Рядом с каштановыми локонами, отсвечивая стеклом, на стене в рамочке красуется лицензия. Та самая, минздравовская. Вселяет непреоборимую уверенность.
— Да. Я звонил в понедельник. Мне назначили на 17.30.
— Обождите, пожалуйста. Я сообщу матушке.
Пальчики с ярким маникюром бегают по клавиатуре. Затем снимают трубку телефона. Спустя минуту:
— Матушка Епифания ждет вас. Когда зайдете, поцелуйте ей руку.
Зачем-то уточняю:
— Правую?
С удовольствием вижу, как гладенькое личико куклы искажается мучительным раздумьем. Все шло по плану, и вот на тебе: клиент вышел за рамки. А с виду приличный, в костюме…
— Если хотите, правую.
— Спасибо.
— Не за что. Вот в эту дверь.
За дверью — просторный кабинет. Аквариум с рыбками. Стены увешаны благодарственными грамотами, дипломами Международных обществ содействия бессмертию и горбатыми диаграммами, похожими на звонаря собора Нотр-Дам. Сперва теряюсь и не сразу обнаруживаю целительницу. Матушка Епифания утонула в глубоком кресле, у самого окна. На первый взгляд ей лет сорок. На второй — пятьдесят с хвостиком. Полная женщина, рыжая грива волос явно чужая — парик. Кто б посоветовал ей не замыкать «стрелочки» у глаз? Да еще карандашом?! В сочетании с густо-коричневыми тенями «очки» смотрятся развратно.
Иду к креслу. Целую жирную руку. Правую.
На губах остается привкус крема.
— На могилку к бабушке ходил?
Голос низкий, грудной. Прокуренный насквозь.
— Э-э-э…
— Не ходил, вижу. А зря, хороший. И креста на могилке нету небось.
Машинально киваю. Креста нет. Моя бабушка была убежденной атеисткой. Строителем светлого будущего. И умерла в полной уверенности, что лично моему счастливому детству не хватает Сталина. Чтоб было кого благодарить. Кремень-старуха. А на могилку я вообще не захаживаю, сволочь эдакая.
— Вот тебе и беда твоя. В соседней могиле на тебя черный враг фотку зарыл.
— Ч-чью фотку?
— Твою, хороший. Твою фотку. Вот ты и чахнешь. С бизнесом проблемы? В семье свары? Сходи, хороший, на могилку, поставь крест.
— А фотку? Вырыть, что ли?
Живо представляю, как я с заступом разрываю соседские могилы. Ночью. Шарю фонарем в поисках украденной фотки. Дождь, слякоть, брючины до колен измазаны глиной. После такого даже подполковник Качка не вытащит меня-хорошего из застенков тюремного дурдома.
— Ладно. Будем, хороший, яйцом выкатывать. Вот квитанция, с вас двенадцать пятьдесят.
Точно как пошлина за наследство. Стою, смотрю на матушку Епифанию. И вижу, как лауреат премии Св. Викентия начинает нервничать. Дрогнули ярко накрашенные губы. Плохо выщипанные брови сошлись у переносицы. Клиент ведет себя не по правилам. Клиент молчит. Клиент…
— Червонец, матушка. За фарс. Бог вам судья…
Когда ухожу, рыбки провожают меня лупатыми глазами.
Лестница.
Холл.
Злость. Самая мерзкая, безвыходная злость: на себя.
— Что, не помогла ворожея-то?
Слова вахтера из стеклянной будки догнали меня в дверях.
Бывают минуты, когда в сортир души падает целая пачка дрожжей. Не спеша оборачиваюсь. Очень подробно объясняю деду в ВОХРовской фуражке, что думаю о гадалках в целом и о матушке в частности, куда и к какой именно матушке им (а этой в особенности!) следует идти противолодочным зигзагом, в какое место засовывать свои советы и где находится гроб повапленный, в котором я видел их портяночный психоанализ, и…
Не сразу понял, что дед смеется. По-доброму, крякая и утирая слезы.
— Видать, крепко допекла тебя Фанька. С ней бывает. Сколько раз говорил дуре: пришел человек с настоящей бедой — не лезь лучше…
Сейчас, став серьезным, дед страшно походил на престарелого орла. Сел на вершину Кавказа, нахохлился, вертит головой, пристально изучая барана внизу. Узкое лицо в морщинах, нос крючком, острый блеск из-под кустистых бровей.
— Опять не разглядела. Эх, молодо-зелено! А тут дело швах, сразу видно…
— Что видно?
Я все еще был зол, хотя успел изрядно «спустить пар».
— Что надо, то и видно, — охотно пояснил «старый орел». — У тебя, красивый, не рожа, а афиша. Смотри только, финтифлюху свою ломать не вздумай. Молотком, например. Иначе — все, гаплык. В самое сердце перейдет.
Черт! Что за намеки?!
— Ну-ка, ну-ка, уважаемый! Я вас слушаю!
Мы с дедом пытливо изучаем друг друга. Как борцы перед схваткой.
— Может, и послушаешь. — Вахтер извлекает из кармана клетчатый платок. Начинает увлеченно сморкаться, первым отводя взгляд. Впрочем, это скорее уловка: вон, снова зыркнул в мой адрес. — А я, может, и скажу. Только насухую слово глотку дерет. Смекаешь?
И губы языком облизал.
Ясное дело, куда ты клонишь, вертухай. Смекаю. А с другой стороны — почему бы и нет? Скажешь дело — хорошо. Не скажешь — хоть напьюсь.
С любой стороны прибыль.
— Я так понимаю, «беленькая» разговору очень даже способствует? — интересуюсь в тон вахтеру. Мало ли, вдруг он «Портвейн» предпочитает? Однако выясняется, что угадывать умеет не только «орел в фуражке». Мы хоть и не ясновидцы, лицензией Минздрава не облагодетельствованы, но тоже кой-чего можем.
— Способствует, способствует, — спешит заверить дед. Дергается кадык на худой, жилистой шее: будто сглатывая. Раз, другой… Э-э-э, дедушка, да ты, оказывается, алкоголик. — Фанька скоро уйдет, ей в сауну к полседьмому. У остальных закрыто. А у меня каморка есть, казенная. Все чин чинарем.
— Ну, жди. Скоро вернусь.
Вот и докатился ты, Валерий Яковлевич. До дверной ручки. Со сторожем-алканавтом готов водку жрать и откровениями закусывать. Пришел Иван-дурак к Бабе-Яге, а она ему и говорит: есть у меня на вахте Кощей Бессменный…
— Две бутылки «Холодного Яра». Да, поллитровые… Нет, не эти. Не квадратные. Производства «Косари», круглые. Что еще? У вас вроде все. Хлеб ведь в другом отделе?
Магазин оказался буквально в двух шагах. Предоставив полный ассортимент для страждущих душ. А также желудков. Кроме водки, я взял полкило грудинки, буханку «Бородинского», банку маринованных огурцов и пачку «Bond». Хватит. Чай, не банкет устраивать собрались.
Вахтер ожидал меня, тщетно стараясь скрыть шило в заднице. Аж подпрыгивал на посту.
— Ушла ваша Фанька?
— Ушла, ушла. Сейчас будку замкну… Заходь, Валерий Яковлич! Вот сюда…
Меня удивило странное обращение: на «ты» и одновременно — по имени-отчеству. Только потом сообразил, что не представлялся вахтеру. Очень интересно. Впрочем, нет, как раз ничего интересного. У Епифании небось спросил, когда мимо спускалась.
Одна шайка-лейка…
15
Дверь в каморку, обитая вытертым дерматином, была рядом с будкой. Внутри жилище деда полностью оправдывало ожидания: койка с быльцами из металла, тощий матрасик, одеяло в клеточку. Зеркало в шкафу треснуло, рядом — стул-инвалид, хромой столик с горкой тарелок и двумя стаканами-«гранчаками». Окно забрано витой решеткой, на подоконнике — пепельница с окурками.
Застоявшийся запах табака — крепкого, дешевого — шибал в ноздри.
— Располагайся, Валерий Яковлич. Я грудиночку нарежу… хлебушек…
С «сервировкой стола» вахтер управился быстро. Наработанным жестом, не без гусарской лихости, откупорил первую бутылку. Плеснул в оба стакана. Руки у деда при этом едва заметно дрожали.
— Ну, за знакомство. Сартинаки Евграф Глебыч. Чтоб наша доля нас не цуралась!
— Грек, что ли, будете? А, Евграф Глебыч? — интересуюсь я, подымая стакан.
Хорошо пошло однако! То самое, чего не хватало. А дед и впрямь орел — сразу подтянулся, помолодел, по второй наливает! Ухмыляется:
— Куда нам, холостым! От прадеда фамилия досталась. Вот он настоящим греком был. А я… — Вахтер как-то неопределенно шевелит пальцами и тянется к стакану. Экий темп взял однако! — За тебя, Валерий Яковлич. Иди, беда, темным лесом, мелким бесом!
Эх, Глебыч! Твои бы слова — да Богу в уши!
— Ну, теперь и тары-бары развести можно, — довольно крякает дед, распечатывая пачку сигарет. Двигает ближе пепельницу. — Покажь финтифлюху, Валерий Яковлич. Не боись, давай.
Откуда-то я точно знаю, что шарик лежит во внутреннем кармане пиджака. Правом. Костюмы я ненавижу смертно, натерпелся от них, но к гадюке Епифании вырядился павлином: галстук, булавка с камешком, новые туфли… Лезу за пазуху. Кроме запасных пуговиц в пакетике из целлофана, в кармане не обнаруживается ничего. Проверяю карман за карманом. Неужели нету?
Дед с пониманием кивает.
— Прячется, сучий выкидыш… Ты цыкни на него, он и найдется.
Плохо понимаю, как следует цыкнуть на наследство. Изнутри подступает слепое, беспричинное бешенство. Шалишь, сволочь! Я покуда главный! Понял?!
Пальцы нашаривают резную кость.
В правом внутреннем кармане пиджака.
Вахтер с любопытством, но без тени усмешки (за что ему большое спасибо!) наблюдает за происходящим. Наверное, со стороны, копаясь по карманам, я был похож на полного психа. Или чесоточного. Протягиваю руку. Старик осторожно, будто гранату, невесть сколько пролежавшую в земле и готовую в любой момент рвануть, берет мой шарик. Смотрит на просвет. Вертит.
Достаю сигарету и себе. На ощупь, не глядя. Потому что взгляд намертво прикован к шарику в пальцах Евграфа Глебыча.
— Экое дрянцо! — бормочет под нос вахтер, хмурясь. — Ишь ты! Давно эту заразу не видел, надо же…
Мне вдруг представляется Глебыч, такой же старый, как сейчас, только выряженный в полосатый передник, — у подножия пирамиды Хеопса. В самый разгар новостройки. Кругом снуют рабы, но деду не до них. В руках он вертит очень похожий шарик и бурчит по-древнеегипетски: «Давно эту заразу не видел, надо же…» Видение вспыхивает, чтобы сразу исчезнуть, я невольно трясу головой и, к великой радости, выпускаю из поля зрения проклятый шар-в-шаре-в-шарике.
Прикуриваю.
— Пока держишься, красивый. Пока булькаешь. Но скоро наглотаешься, — «успокаивает» старик, возвращая зловещее сокровище. — По наследству получил?
В проницательности Глебычу не откажешь. Мог бы по совместительству в Шерлоки Холмсы податься. На полставки.
— Дрянь финтифлюха. Пакость. — Дед скупо цедит слова, а я слушаю его, словно оракула, стараясь ничего не пропустить. — Гнилой фарт тебе выпал, Валерий Яковлич. Небось и знать не знал, что от Скомороха получаешь?
Остается пожать плечами. Кто ж мог знать?! Сроду в ауры-шмауры, порчу-сглаз и прочих энерговампиров не верил. Дедушка, милый, ты-то откуда про Скомороха вынюхал?
Старик словно читает мои мысли.
— Верь не верь, а ноги уноси. Отказаться надо было. От наследства. Жаль, нотариус о таком предупреждать не обязан. Чего уж теперь…
Сигаретный дым забивает горло кляпом.
— Нотариус?! Он что, знал?!
— Знал, конечно. Что за финтифлюха — мог и не ведать. Но вот что подрощенная она — знал наверняка. Иначе б Скоморох ему завещанку не доверил…
Старик молчит, задумчиво плямкая губами. Глядит в низкий беленый потолок. И наконец твердо заключает:
— Нет, не доверил бы.
— Что ж он меня, паскуда, не предупредил?!
— Сказал же: не обязан. Угомонись, Валерий Яковлич. Бог Троицу любит. Наливай по третьей, да будем думать, как твоей беде помочь. Тут без пол-литры никак…
Вот с чем с чем, а с последним утверждением спорить грех. Выпили без тоста. Будто за упокой. Я поискал глазами вилку, не нашел и полез в банку с огурцами рукой. Интересно, где маленькие да крепенькие огурчики-корнишончики были при Советской власти? За бугор все сплошь эмигрировали? К буржуям? Вспоминаешь сейчас: одни трехлитровые банки с во-от такими огурчищами на полках желтели. Откуда ж теперь эти взялись? Наши ведь, не польские.
Сижу. Хрумкаю огурчиком. Жду, когда Глебыча мысли мудрые посетят. Потому как у меня мыслей совсем не осталось. Зато настроение в гору пошло. От водки, естественно. Эдакий бесшабашно-безбашенный кураж в себе ощущаю. Вот доберемся до второй бутылки…
— Значитца, так, — очнулся старик. Никак и впрямь что надумал? — Слухай меня внимательно. Выбросить финтифлюху не пробуй — вернется. Сломать — тем паче не пытайся. Это я тебе уже говорил. Понял?
Тупо киваю.
— Слухай дальше. — Старик морщится с досадой. Будто младенца учит не в ползунки ходить, а на горшок. — Ежели припозднишься, много крови на тебя ляжет. Попомни мое слово. Безнаказанным будешь…
Он вновь возводит очи горе. Высматривает на потолке запись из Уголовного Кодекса Судьбы, где значится срок безнаказанности Смолякова В. Я., женатого, беспартийного, без определенного места работы.
— Семь лет и три месяца. Может, еще с недельку. Потом — дело швах. Не помилуют тебя. Верно пугаю: избавляйся от финтифлюхи.
— Как?!
— Продай. Но непременно с купчей, и нотариус чтоб заверил. Лучше — который наследство вручал. Или подари. Но опять же — с дарственной. По закону. И хоть копеечку, да возьми. Тогда отпустит тебя, на другого перейдет.
— На другого?
— А ты хотел чистеньким? С крылышками?! Закон сохранения, он и в этих делах действует. Построже, чем в ядреной физике.
Эйнштейн от астральных наук, понимаешь. Сейчас формулы выводить начнет…
— Значит, кто-то другой? Другой будет «театр одного зрителя» крутить? Или я, или тот, кому продам?!
— Выходит, так, — тяжко вздыхает Глебыч и решительно разливает по стаканам остатки водки. Ставит пустую бутылку на пол, молча опрокидывает свою порцию в глотку, забыв пригласить меня. — Думаешь, почему я водяру глушу? Почему барбосом у дуры Фаньки служу, а не в кабинете ее рыбками любуюсь? Хотя и в Фаньке искорка тлеет: махонькая, чуть заметная… Знаешь почему?
— Почему? — послушно спрашиваю я, усаживаясь поудобнее.
На знакомое кресло.
Пятый ряд, третье место справа от прохода.
Шутов хоронят за оградой
Акт I Явление четвертое
На авансцене, ближе к левой кулисе — стол. Бутылки, стаканы, тарелка с остатками еды. В пепельнице дымятся окурки, струйка дыма поднимается к падугам и колосникам. За столом двое: Валерий Смоляков и кто-то еще. Свет единственного включенного прожектора падает так, что второго собеседника не разглядеть. На его месте — бесформенное темное пятно. Возможно, это игра светотени и второго собеседника нет вовсе. Остальное пространство затемнено. Вместо декораций — «черный кабинет», словно для пантомимы. Рядом со Смоляковым угадываются контуры зарешеченного окна. От сквозняка хлопает форточка. Тихо, постепенно усиливаясь, вступает музыка: квартет виолончелистов «Apocalyptica» играет композицию группы «Metallica» «The Unforgiven».
Валерий (обращаясь к темному пятну). Почему?
Узнать Валерия трудно: лицо его густо набелено, на щеке — темная слеза.
Ответный голос раздается сразу из всех динамиков зала: малой выносной турели под потолком и двух больших колонок, стоящих у боковых лестниц, близко к первому ряду. Подключается «озвучка» на балконе оператора, напротив сцены. Звук плавает, смещаясь в разные стороны. Создается впечатление, что отвечает помещение театра.
Четыре виолончели, разбросанные квадро-звучанием, усиливают это ощущение.
Голос. Потому что вижу. Вот идет человек. Довольный, счастливый. Девушке тюльпаны тащит. А я знаю: не жилец. Неделя ему осталась от силы. Упредить? Пробовал… Когда молодой был. Морду били, матюгами обкладывали. В дурке три года оттрубил. (Гулкий вздох.) И то сказать: иногда поперек себя извернешься, поможешь человечку… А потом выходит: зря. Через год-другой и сам человечек на тот свет загремит, и еще кого-никого с собой прихватит. Для равновесия. Гиблое дело, сынок, людям помогать. Лучше водочки, водочки…
Валерий (прикуривая очередную сигарету). Что ж со мной разговорились? Глянулся?
Прожектор мигает, темное пятно изменяет очертания. Слышится бульканье.
Голос. Хрена ты мне лысого глянулся. Хотя человек ты… Не то чтоб сильно хороший, но все ж таки не мразь. Не гнида. Сердце у тебя болело. Я и сорвался. Унюхал: этот поверит…
Валерий (с издевкой, постепенно распаляясь и переходя на «ты»). Поверю, значит?! На другого стрелки переведу?! А как я тому парню в глаза смотреть буду, ты подумал? Когда купчую подписывать стану? Может, подскажешь, кому свинью подложить? Вот ты, ты сам — купи, а? Недорого продам! Или хошь — подарю? За копеечку?!
Голос (устало). Не кипятись. Мне твоя финтифлюха без надобности. Сам решай, сам ищи. Я тебе и так уже больше нужного сказал.
Валерий берет за горлышко пустую бутылку из-под водки.
В звучании квартета виолончелистов нарастает жесткость.
Единственный прожектор мигает все чаще. Рядом с ним, на стальном тросике, с потолка спускается шар, обклеенный осколками зеркала. Шар крутится, по стенам «черного кабинета» начинается метель «снега». Белое лицо Валерия ярко блестит.
Валерий. Ясновидец хренов! Нет, ты у меня примешь подарочек!.. никуда не денешься, гад…
Он вскакивает, с грохотом опрокидывая стул, бьет бутылкой об подоконник. Звон стекла. В руке у Смолякова — «розочка». Острые сколы блестят в мигании прожектора.
Валерий оборачивается к темному пятну.
Голос. Это не выход, Валерий Яковлич. Сила здесь — пустое. А стекляшку убери. Судьбу дразнить — себя казнить. Меня тебе не увидеть. Значит, по мне ударишь, по своему горлу полоснешь. Тоже выход, но аварийный. Давай лучше на посошок…
Музыка резко обрывается. Прожектор гаснет. Прекращается «снег».
16
Чертов фонарь! Прямо в глаз светит. И жужжит. А мы тебя, красивого, сейчас прижучим… Жаль, ни одного камня рядом нет. Нарочно попрятались. Борются за чистоту улиц. Ничего, вот, вместо камня сойдет. Н-на! Промазал, блин. Ну и фиг с ним, с фонарем. Пойду-ка лучше домой. В метро. Если пустят. Пустят, никуда не денутся. Идет человек: приличный, солидный, звучит гордо… Хомо эст! Не такой уж я и пьяный. То есть пьяный, конечно. Но не такой. А такой. Ровно идти могу. Вот так. И еще вот так. И этак.
Могу!
Славно мы с Глебычем посидели. Я тоже ясновидец. Как в воду глядел: поможет — хорошо. Не поможет — напьюсь с хорошим человеком. Напился. С хорошим. Оба теперь хорошие. Остор-р-рожно, дубина! Это я не вам. Это я себе. А Глебыч молодцом. Как меня попустило, даже обижаться не стал. Давай, говорит, лучше еще по сотке тяпнем. Ну, мы и тяпнули. По сотке. У него в заначке хранилось. А потом я в продуктовый сбегал: добавить. Я люблю тебя, жизнь!.. я шагаю с работы устало… Воздух. Свежий. Рай после дедова чулана. Кстати, а чем это я… Чем в фонарь-то запустил? Опаньки! Финтифлюхой запустил! Наследством треклятым. Был шарик, сплыл шарик. Что теперь? А хрен в пальто теперь! Я люблю тебя, ж-жи… Съел, Глебыч?! Зря ты меня стращал. Вот выкинул — и накось выкуси. Давно надо было…
Ну ты, братец, совсем обнаглел. Где это видано, чтоб кот — и прямо под ноги? Сидит блохастый. Жмурится. Кысь-кысь-кысь… Что у тебя там? Мышка? Поделиться хочешь? Спасибо, я мышами не закусываю. Блин! Где ты его нашел? А ну отнеси, где взял! Я кому! к-кому сказал?! Стой, паршивец! Стой… Ну да, разогнался — «стой»!.. Вернулся. Шарик вернулся. А шарик вернулся, а он голубой… Финт-и-флюха. П-падла ты, Глебыч, пирамидон хеопский. Было счастье — черт унес. А тут не черт, а кот. Ученый. И не унес, а принес. И не счастье, а…
Ну и ладно. Ладно, Глебыч. Заберу я его. Может, ты и прав. Блин, нашло на меня. Сцена эта сволочная, глаза б не видели. Я — в зале. А рядом этот… Скоморох. Зритель, с билетом. Зрит. В самый корень зрит. И на меня косится. Кивает. Одобряет. Когда я бутылку разбил, даже палец большой оттопырил. Мол, браво. А я ему в ответ кукиш скрутил. Это ж не я — браво. Не я — бутылку! Я — тут, в зале. В партере. С программкой и биноклем. А на сцене — шут гороховый. Это он хотел Глебыча — «розочкой». «Миллион, миллион, миллион алых роз…» Подавись своим «браво», Скоморох гадский! — у меня алиби. Я со стороны смотрел. Из зала. Спектакль шел. Вот еще б чуточку… Не дали досмотреть! На самом интересном свет вырубили. И темнота.
Тьма египетская…
Куда это я иду? Мне вроде к метро… А-а, нет, правильно иду. Вон буква «М» видна. Скоро рядом букву «Ж» привесят, для равновесия. «М» и «Ж»… Му-Жик. Ме-Жа. Мо-Жет… Может, и у этого? У Скомороха так было? Сидишь в кресле, спектакль смотришь. Понарошку. Пьеса, актеры в гриме. А потом — кульминация, и — ножом! — по горлу!.. или шпага — в сердце!.. или… Миг тишины. Аплодисменты — шквалом. Зал встает. «Браво!» Катарсис. Катарсис, чтоб ему пусто было! Катарсис, едрена вошь!.. Нет, я не ругаюсь. Это я так… Извините. Да не вам это я, не вам!..
Ну сказал же: из-ви-ни-те!
…Катарсис. Ты в зале, у тебя катарсис, а на сцене — шуты толпами. Ты зритель. Это все для тебя. Чтобы прочувствовал, пережил… Ты и чувствуешь. Переживаешь. В зале. Пятый ряд, третье место. Справа от прохода. А потом — занавес. И ты уже не в зале. Загораются люстры, лампы, фонари, ты на свету, тебе не спрятаться! Ты идешь на выход, на обычный выход, а получается на аварийный, потому что авария…
Не надо мне вашего катарсиса! Задавитесь! Не хочу — так! Не хочу-у-у!..
Хорошо, ментов на входе нет. Могли б остановить. Ровно иди, придурок, слышишь? Слышу. Ага, жетон. Остался-таки один. Теперь попасть в прорезь… Есть. Все, прошел. Домой, домой! Беру шинель, пошлю домой… Нет, я еще не совсем пьяный. Вон, лампочки не хихикают вроде. Помню, было разок, в Осколе…
Оп-па, а кто это к нам в карман лезет? Вот ведь наглое ворье пошло! Сейчас я развернусь да как въеду, с разворота ногой… Нет, ногой я упаду. Рукой. С разворота. А вот и не въеду. И не выеду! Ну же? Давай! Это правильный карман… нужный!.. В портмоне все равно пятерка с мелочью да визитки — не жалко. Чувак, если ты… чувак, валяй!.. Я тебе еще и доплачу. Честно! Ну… Есть! Есть! Молодец! Получилось, получилось!
Теперь дать ему уйти, не спугнуть. Моя остановка. Так, не бежать, идти спокойно… эскалатор… двери…
Вот и все. Свободен!!!
Свободен…
17
Коньяк был дешевый, трехзвездочный. Качка куда как лучшим угощал! Лимон вязал скулы. А в сердце тихо замирал покой. Мне было хорошо. Концерты звезды закончились, и кошмар этот проклятый закончился, а жизнь продолжается.
Гип-гип-ура!
— Ну старик! Ну спас! Думал: все, хана чесу!..
«Чес» на жаргоне эстрадников — быстрый наезд в город и один-два концерта в самом большом зале, какой найдется. Кое-кто предпочитает для «чеса» стадионы. В смысле, «вычесал» максимум «понтяры», она же достопочтенная публика — и по коням! Дальше…