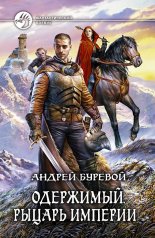Ведущий в погибель Попова Надежда

– Также мои слова должны были заставить вас припомнить, что между «немедленно» и «нет» есть существенное различие, каковое вы как человек, имеющий знакомство с телесными страданиями, должны осмыслить. Ну же, не упрямьтесь, дорогой доктор. Вы и бз того по самые уши в неприятностях; разъяснить мне причину, по каковой вы в них влезли – не столь уж весомое к ним добавление.
– Ну, что ж, хорошо, – обреченно отмахнулся старик, бросив на фон Вегерхофа укоряющий взор. – Хотите причины – я назову их вам, вот только ничего в моей судьбе это и впрямь не изменит… Вы помеха в этом городе, майстер инквизитор. Помеха всем и всему – и торговле в первую очередь. А моя торговля процветает лишь во дни, когда горожане праздны и спокойны, когда их кошельки наполнены, а души ублаготворены; лишь тогда они задумываются о здоровье несколько более, нежели обыкновенно – и тогда, кроме необходимых лекарств, они приобретают средства для поддержания или стяжания красоты и молодости, а также всевозможные благовония и прочие мелочи, о которых и мыслей не приходит в голову, когда голова эта занята проблемами. А проблемы, прошу меня простить за прямоту, создаете здесь вы. Вы всем говорите, что по улицам бродит стриг, и люди опасаются. А когда люди боятся за свою жизнь, майстер инквизитор, им не до излишеств, они и не подумают потратить деньги на притирки от прыщей или вот хоть книги (тем более книги!); они потратят свои сбережения на замок покрепче или новые ставни, или еще на что-то, что, по их мнению, поспособствует их безопасности. Вот вам и причина. Не будет стрига – не будет в Ульме и вас. А когда вас не будет, некому будет будоражить умы моих покупателей.
– Вот, стало быть, как… – проронил Курт неспешно, глядя на старика в упор и видя смятение в глазах, и, вздохнув, кивнул стригу: – Александер?.. Запри-ка дверь. Думаю, придется спуститься в хозяйский подвал и продолжить беседу там. Я полагаю, у вас там неплохая звукоизоляция?
– Чем вас не удовольствовал мой ответ, майстер инквизитор? – с плохо скрытым опасением спросил Штайн. – Если у вас остались другие вопросы – обещаю, более я не стану запираться и расскажу все, что вы захотите услышать.
– Знаете, господин профессор, – вздохнул Курт с подчеркнутым состраданием, – я вас понимаю. Это довольно мерзко, когда кто-то вынуждает вас поступить вопреки собственной воле – отдаете ли вы кошелек грабителю, поддаетесь ли на угрозы какого-то наглеца со Знаком на шее; это просто обидно. Я постоянно вижу подобное ex officio[106]. Мне попадаются разные люди; некоторые держатся часами, причем в ситуации более… неприятной, нежели вы, а некоторые раскалываются уже в первую же минуту, но вот только, господин профессор, вы на такого не похожи. Вы похожи на еще одну разновидность: на тех, кто не желает говорить правды и, обладая некоторыми познаниями в области человеческой мысли, разумно полагает, что высказанное не сразу, высказанное под давлением производит впечатление истины более, нежели нечто, полученное мною легко и немедленно. Вы противились мне, дабы я, услышав ваш ответ, счел себя удовлетворенным, счел, что я сумел таки вас переломить. Я не стану доказывать вам свою правоту, не буду перечислять все признаки, по каковым я сделал такой вывод, просто прошу вас понять: я вижу, что вы говорите мне неправду. Возможно, не лжете совершенно, однако всей правды я не узнал. Я хочу ее знать, господин профессор, и я узнаю ее – по-хорошему или нет.
– Я слышал о вас, майстер Гессе, – не сразу отозвался Штайн, опустив взгляд в стол, и нервно усмехнулся, взъерошив и без того похожую на гнездо шевелюру. – И услышанное позволяет мне думать, что вы и впрямь узнаете то, что хотите. Я не в том возрасте и не той стойкости, чтобы сопротивляться вам до конца…
– Так не надо, – согласился Курт по-прежнему доброжелательно. – Что бы вы ни натворили, господин профессор, я понимаю – вам от этого скверно. Ведь я это вижу. У вас могут быть сомнения в моей проницательности, однако вы должны понимать, что, кроме нее, я имею еще и весьма немалую статистику; я видел вам подобных. Вы ведь не плохой человек. Я заглянул в ваши записи; и это не сухое изложение, это переживания и волнения, это искреннее желание истины, упоенные ее поиски… Я знаю, что вы не духовный скряга, ищущий знания лишь ради него самого и наслаждающийся втайне собственным превосходством. Я знаю таких, как вы. Вы тяготитесь тем, что не с кем поделиться хоть чем-то из того, что вам известно. Вы хотите поговорить – хоть с кем-то. Поговорите со мною. Я готов слушать – столько, сколько потребуется, хоть до ночи и после до утра, и еще множество дней, если надо.
– Наверное, вы слишком многого от меня ожидаете, майстер Гессе, – вздохнул Штайн с невеселой улыбкой. – Вы полагаете, что за моими действиями стоит какая-то тайна – и наверняка страшная… Но это не так. Да, конечно, часть моей жизни, и весьма немалая ее часть, сокрыта от людских взоров, недоступна большинству людских умов, да и не нужна им; увлекательная часть, не стану отпираться. Эта лавка, пузырьки, мази, даже книги – те, что здесь на виду – все это пустота, ничто в сравнении с прочим, со всем тем, что вы увидели в моей лаборатории. Но это тело на кладбище… За моим молчанием не стоит никаких потусторонних тайн. Вы будете разочарованы, но единственное, что мешает мне быть откровенным с вами, майстер Гессе – это страх перед вполне обыденными вещами, как то – утрата дома, дела, права на жизнь в стенах этого города. Страх перед людьми, не более… Это люди из городского совета велели мне сделать подложного стрига, майстер Гессе. По причинам, мною уже высказанным: вы мешаете им.
– Наверное, я должен был воскликнуть «вот это да» или как-то иначе изъявить свое удивление, – помедлив, произнес Курт негромко, – однако же, не могу сказать, что особенно поражен услышанным… Стало быть, все это – лишь попытка успокоить город, и не более?
– Все верно, – вздохнул старик, снова скосившись на молчаливого фон Вегерхофа. – Все, что я сказал, является правдой в одном – ваше присутствие всего за несколько дней сбило накал деловых страстей в Ульме. Спросите у господина барона, так ли это; он наверняка знает достоверно. Владельцы тех заведений, чьи посетители предпочитают поздние развлечения, подсчитывают убытки; люди, занятые днем и обыкновенно обсуждающие свои дела вечерами, пусть и не прекратили эту практику, но все же… И всему этому виною вы и ваша убежденность в наличии стрига. Даже некоторые из тех, кто до вашего приезда был уверен, что тварь покинула пределы города, теперь переменили свое мнение. Прежде лишь стражи отстаивали эту идею и опасались ходить поодиночке – наверняка оттого, что им приходится немало времени проводить на темных улицах, а это подогревает страхи, каких и не бывало вовсе. Наверное, лишь они одни и не испытывают к вам неприязненных чувств – вы поддержали их мнение; а к прочему, чем меньше на улицах народу по ночам, тем меньше грабежей и краж и тем меньше у них забот.
– Ну, хоть кому-то здесь ты угодил своим явлением, – тихо усмехнулся фон Вегерхоф; склонившись, легко, одними пальцами, выдернул засевший в досках болт и, пройдя к столу, уселся рядом, передав Курту стальную стрелку: – Полагаю, мои услуги привратника все же не понадобятся. Не думаю, что господин профессор настроен на побег и прочие глупости.
– Куда бежать, – обреченно пожал плечами Штайн. – Здесь – вы, арест и… так далее; там – они. Прятать меня от вас, защищать – они не станут; в свете того, что я вами раскрыт – это потеря лавки, долговая тюрьма и выселение из Ульма. Куда ни кинься – везде яма.
– Хотите сказать, что все это вы сделали, чтобы покрыть долг за аренду лавки? – переспросил стриг. – И всего-то?
– «Всего-то»?.. Это все, что у меня есть. Да, господин барон. Долг за аренду лавки, еще – ссуда, взятая более году назад… Да и с налогами не все гладко…
– И все ушло на ваши изыскания, верно?
Штайн лишь снова вздохнул. – Взятки сторожу кладбища… книги, которые просто так не купишь… оборудование лаборатории, которое из подручных материалов не слепишь…
– А я не жалею, – с внезапной решительностью отозвался старик, но в глаза следователю не смотрел, глядя на сложенные на столе руки. – И в самом деле – с таким знанием и умереть можно. Жалею лишь о том, что оно наверняка сгорит со мною вместе; а сколько могло бы принести польз. О том жалею, что все впустую.
– Ну, к чему же такой пессимизм, дорогой доктор; не сгорит. И принесет.
– О, – усмехнулся Штайн, – мне от этого гораздо легче, майстер инквизитор. Благодарю.
– А вы скоро пришли в себя, – заметил Курт одобрительно. – Вот уж и дерзить начали… Это неплохо. Стало быть, прошу прощения за неуместную шутку, огонь в вас еще не угас. А теперь еще один немаловажный вопрос. Среди всевозможных писаний, что я видел, кроме теоретических трудов по истории мифов, по классификации и толкованию сущности богов, демонов и прочей дряни – я видел и еще пару книг, содержащих указания практические. Id est, руководство по устроению ритуала призыва многих из них. Что вам терять теперь, господин профессор, сознайтесь – ведь что-то из этого наверняка пробовали испытать?
– Нет, – откликнулся Штайн. – Никогда. Вы не станете мне верить, майстер инквизитор, но я верный католик, и никогда за всю мою жизнь мне не приходило в голову обратиться к чему-либо иному. Я никогда не помышлял, не допускал мысли о сотрудничестве с подобными силами – ни ради выгоды, ни по какой-либо еще причине.
– Да полно, – укоризненно возразил Курт. – При столь обширных сведениях – и не проверить их подлинность, не увериться, не попытаться увидеть своими глазами…
– Любопытно ли мне было? О да. Отрицать не стану. Сознаться, вы сказали… Сознаюсь. С целью прибытка, получения каких-либо сил в свое распоряжение, власти или чего-либо подобного – нет, этого я никогда не желал. Ради любопытства? Здесь признаюсь: да. Думал. Ведь есть в этих руководствах всевозможные обряды, не имеющие иной цели, кроме лишь только посмотреть, увидеть – и все. Да, я не раз думал о том, что – одним бы глазком…
– И что же – неужто вот так ни разу?
– Ни разу.
– Отчего же?
– Боязно, – пояснил Штайн с вялой полуулыбкой. – Я уж не мальчик, майстер Гессе, кое-что видел в своей жизни и понимаю: так просто ничего не дается. И уж тем паче – знание. Что, если я увижу там нечто, могущее ввергнуть меня в безумие? Или, быть может, какая-то часть моей души проникнется тем, что узрит? и я захочу пойти дальше?.. В каждом из нас таится дьявольское семя, лишь дайте ему благодатную почву – и взрастет. Человеку часто по душе все темное и запретное – еще со времен Адама и до наших дней, с их распутными домами, притонами и смертоубийством; думаю, многим из благополучных горожан это понравилось бы, испытай они подобные забавы хоть раз. Я человек, и я слаб. Я в себе не уверен – настолько.
– Так для чего тогда было все это? К чему, помимо медицинских изысканий, интересных и, быть может, нужных вам как лекарю, вы увлеклись и тем, что даже богословием назвать трудно?
– Услышав незнакомое слово из уст собеседника, майстер Гессе – неужто не спросите, каково его значение?
– Лишь только из интереса?
– Есть в нашей жизни то, о чем хотелось бы знать больше. Согласен, многим не любопытно ничто, кроме нужного на сей день, нужного для жизни, пропитания и не более… Но все это приходит потом. А детьми – мы спрашиваем у матери, почему бегут облака, пенится вода у мельницы, отчего зимою не бывает дождя и что скрывается там, за дождем и облаками. Жизнь вынуждает нас вскоре начинать думать о другом – о всходах, ценах, хозяйстве – но кое-кого из нас все еще продолжают занимать вопросы «что» и «почему».
– Вот поэтому у тебя столько работы, – подвел итог стриг, и Курт невесело усмехнулся, качнув головой:
– Да, господин профессор, здесь барон прав. Некоторые «почему» и особенно «что» – крайне опасны.
– О, я не стану спорить, – согласился Штайн, по-прежнему не поднимая глаз. – Я осознаю это. Именно потому, узнав, отчего дождь не льет зимою, я не думал, как добиться того, чтобы лил. Именно потому я и не допускал мысли пойди дальше, чем простое собирание фактов.
– И их систематизация, – продолжил Курт; старик кивнул. – Причем весьма неплохая. Довольно разумные заключения и примечания, соотношения и выводы… Интересные переводы уже известных трудов… Как я понимаю, вы знаете греческий?
– Не сказал бы, что в совершенстве, однако…
– Я видел также – у вас незаконченный труд?
– Да, – вздохнул Штайн болезненно. – И не один. Я всегда боялся, что не успею сделать многое из всего задуманного мною; и даже если б за мною не явились вы, майстер Гессе, все равно – слишком мало лет отпущено человеку для свершения всех его дел.
– Не поспоришь, – тихо согласился фон Вегерхоф, и Курт выразительно кашлянул, призывая его к сдержанности.
– Полагаю, при наличии толковых помощников вы успели бы многое, – заметил он; Штайн кивнул, на мгновение лишь вскинув глаза:
– И с этим спорить трудно. Однако таковых нет, и – я их даже не искал. Толковых, как вы сказали, найти сложно, а кроме того… За собственную выдержку я поручусь, но где уверенность в том, что, найдись такой – и он не возжелает погрузиться дальше? А если – не испугается, как я, если увлечется недозволительным? А кроме того, даже если сорвусь и я сам, если увлекусь, если погублю свой разум, душу – я погублю лишь свою. И на моей совести не будет гибели других.
– Что же, в таком случае, вы намеревались сделать со своей библиотекой, когда поняли бы, что дни ваши сочтены? Оставить как есть, здесь, в лаборатории? Доступной для прочих, за кого вы не поручитесь? Или – что?
– Вы не поверите, майстер Гессе, если я скажу – что, – вздохнул старик, и Курт приглашающе повел рукой:
– Прошу. Изложите. Я многому могу поверить, вы удивились бы.
– Я собирался написать донос на себя – в ближайшее отделение Конгрегации, – пояснил Штайн смущенно. – Мне приходило в голову сжечь все свои труды самому – хотя бы самые опасные из них – но даже на такие у меня не поднимется рука. Я надеялся, новая Инквизиция разумно распорядится собранным мною знанием после моей смерти, а если и нет – то это будет не моих рук дело. Если бы ваши служители явились за мною, пока я еще жив…
– Живым не дались бы, верно? – договорил фон Вегерхоф и, снова услышав в ответ тяжелый вздох, качнул головой: – Ведь это прямая дорога в Преисподнюю.
– Сущность людская, господин барон. Нас более пугает то, что есть сейчас и здесь; а здесь – ваш друг и его сослужители. Ад на земле. Не знаю, Господне ли это наказание за мою излишнюю пытливость – то, что этот ад мне все же уготован…
– Ну, полагаю, мы обойдемся чистилищем, – возразил Курт и, когда взгляд старика поднялся снова, кивнул: – Вы верно поняли. Новая Инквизиция, как вы ее назвали, действительно предпочитает знанием распоряжаться как можно разумнее; насколько хорошо у нас это выходит – покажет время… А уж носители знания (разумные носители) – немалая редкость.
– И… – осторожно проронил Штайн, – что же это значит?
– Это значит, господин профессор, что я не могу оставить вас, как прежде (ведь вы это понимаете?), просто развернуться и уйти…
– Я понимаю.
– Однако я не стану и арестовывать вас, заключая в тюрьму в ожидании казни. Живите, как жили. Занимайтесь тем, чем занимались… Вот только с препарациями – поосторожней, будьте любезны. Я уверен, мое руководство не станет возражать против них, ибо польза от них несомненна, судя по вашим записям; полагаю, вместе мы сумеем что-нибудь придумать. Вероятно, что и те самые помощники, которые достаточно толковы и достаточно сдержанны – они тоже будут.
– То есть… не совсем понимаю… Вы меня что же – сажаете на крючок, майстер Гессе?
– Увы, – кивнул Курт. – Иной выход – не думаю, что он вам по душе. Что же вам, однако, не нравится? Будут ученики, которым вы сможете передать свое знание, будут люди, которые сумеют им верно распорядиться, будет финансирование, что немаловажно, для ваших исследований…
– Нет-нет, – поспешно возразил старик, – я вполне доволен, это… Это не то, что я ожидал – в том смысле, что я приятно удивлен тем фактом, что остаюсь в живых.
– И еще одно. Вы, прежде всего прочего, лекарь; и если к вам однажды постучится в дверь человек со Знаком (следовательским, курьерским, каким угодно) – вы окажете ему требуемую помощь немедленно, скорее всего, безвозмездно… и тайно, если это будет ужно. Условимся так?
– Конечно, да, но… Но я по-прежнему должен городу круглую сумму, и мою лавку могут отнять в любой день, посему…
– Ваши долги я оплачу, – вмешался фон Вегерхоф. – Это не беда. Майстер Зальц, кроме того, находится со мною в отношениях… деловых; полагаю, я сумею добиться того, чтобы к вам не цеплялись особенно и в будущем. Если же у вас возникнут затруднения снова – прошу вас, не дожидайтесь новых конфликтов с ратом и обращайтесь ко мне. Посмотрим, что я смогу для вас сделать.
– Вот оно что… – проронил Штайн, глядя на стрига с откровенным состраданием. – И вы у них на крючке, господин барон… Интересно было бы знать, что натворили вы.
– Вам ведь известно, как я люблю интересные книги, господин профессор, – с неподдельным смущением развел руками фон Вегерхоф, и старик понимающе кивнул. – Не меньше, чем вы, и лишь чуть менее увлекательные, чем ваши… Кстати сказать – вы ведь позволите мне навестить вас еще несколько раз и просмотреть те из них, что хранятся в вашей лаборатории?
– Конечно, – немедленно отозвался Штайн почти с радостью, – и вы, и майстер Гессе – когда вам будет угодно, я с удовольствием поделюсь всем, что знаю. В одном вы были правы, майстер инквизитор – это ужасно, когда некому рассказать, не с кем поделиться всем тем, что сумел накопить, сберечь, увидеть… Приходите. Читайте, смотрите, спрашивайте – я к вашим услугам.
– Кое-что я спрошу уже сейчас, – кивнул Курт, доверительно понизив голос. – Господин профессор, раскройте секрет – как вы сделали то, что я видел в склепе? Что это было?
– О, – оживился старик и поднялся, суетливо и неловко указав вперед: – Идемте в лабораторию, если желаете, господа, я представлю вам наглядно. Это и в самом деле безмерно занимательно.
В подвале, войдя и запалив светильники, Штайн долго озирался, оглядывая свои сокровища пристально и придирчиво, и Курт понимающе усмехнулся:
– Нет, профессор, все на месте; беспорядка мы не оставили. Проведение обыска – наука точная. Все на своем месте, там и так, где и как было до нашего прихода.
– Ни один reactivum не тронут вовсе, – добавил фон Вегерхоф; старик кивнул:
– И правильно, правильно. Не приведи Господь…
– Так что же там было? – нетерпеливо поторопил Курт. – Что за substantia?
– Для начала я хотел бы знать… не воспримите за обиду, майстер Гессе, это лишь для пользы дела… насколько велики ваши познания в этой области? Сможете ли вы понять?
– Некоторые начальные сведения в академии мне, разумеется, были преподаны – именно на случай допроса кого-то вроде вас. Приступайте, а там поглядим.
– Вот, – с гордостью произнес Штайн, торжественно указав в сторону, где на полу, убереженные от прочего пространства оградкой из нескольких каменных кирпичей, стояли четыре стеклянных бутыли с укупоренными и залитыми воском горлышками. – Это оно. Мое открытие. Только, прошу вас, не троньте руками, если разбить одну из них, мы с вами станем схожи с тем несчастным.
– Это еще один вопрос, который меня беспокоит, – заметил Курт многозначительно. – Насколько несчастен он был до того, как попасть к вам на экзекуцию?
– Господь с вами, – оскорбленно и немного испуганно возразил Штайн, – с чем я никогда не имел дела – так это с душегубством. Тело этого бедняги мне предоставил совет. Я не знаю, кто это, и они не знают; бродяга, арестованный за кражу и умерший в тюрьме.
– Вы верите в это?
– Я проверил. Все же мне было не по себе, и я, майстер Гессе, тоже заподозрил… Не хочу порочить ульмский совет более полагающегося им по справедливости, однако мне также пришли в голову нехорошие мысли – уж больно кстати оказался этот человек… Но нет. Причина смерти – pneumonia, с такими легкими ему оставалось бы жить дня два и вне тюремных условий.
– Ну, что ж, на эту тему я продолжу уже не с вами… Итак, прошу вас, профессор. Что за адское зелье вы придумали?
– Воистину, – с невероятной смесью сокрушения и гордости согласился тот. – Озеро серное наверняка и состоит из чего-то схожего, ибо это и есть formatio от серы. Acidum sulfuricum. Но не та, что получали до сих пор по рецепту Альберта Магнуса, а густая, а оттого более сильная.
– Звучит угрожающе.
– Сообразно сущности, майстер Гессе. Эта и в самом деле адская смесь опаляет, сжигает дотла все, что живо либо когда-то было живым – траву, кожу, плоть, кости, дерево; ей не по силам лишь изначально мертвое, как камень или стекло.
– Это мне известно.
– Тогда вы меня понимаете, – кивнул Штайн. – Потому я и храню ее в стеклянных вместилищах, под стеклянными заторами, залитыми воском; а место хранения, как видите, оградил камнем на случай, если сквозь какую трещину она просочится вовне.
– И для чего вы занялись этим? Это был заказ совета или…
– Нет-нет, совет – они ничего в этом не понимают; мне было сказано лишь сделать фальшивый труп стрига. «Не наше дело – каким образом»…
– Так для чего же?
– Философский камень, майстер Гессе, – пояснил Штайн с заметным смущением. – Lapis exilis. Это, если так можно сказать, дело чести для любого алхимика, безнадежное, но непременное. А один из шагов на пути к нему…
– Remedium dissolvens universalis[107], – тихо проговорил фон Вегерхоф, и старик кивнул:
– Все верно, господин барон. Он самый. Эта substantia и сама по себе ценна невероятно; сколько всевозможных применений ей можно придумать…
– Любая армия мира озолотит за нечто подобное, – согласился Курт. – Сколько этой жидкости вам потребовалось, чтобы так сжечь тело?
– Одна такая бутыль – полностью.
– Стало быть, если равную двум или трем этим бутылкам емкость зарядить в катапульту и метнуть через городскую стену, если метнуть прицельно, если она разобьется, скажем, о колокольню в момент звона, возвещающего окончание служб – id est, когда под стенами церкви будут сотни людей… Что произойдет?
– На них прольется дождь пронзающих плоть капель, – не сразу отозвался Штайн, содрогнувшись. – Казнь египетская… Оружие массового уничтожения… Господи Иисусе, я создал монструма…
– Это верно; куда там пушкам с сечкой до вашего детища, – усмехнулся Курт невесело. – Не тревожьтесь, профессор. Не думаю, что описанное мною случится в скором будущем.
– Случится, – обреченно возразил старик. – Не сейчас – так позже.
– Не поддавайтесь гордыне. Наверняка «позже» кто-нибудь изобретет нечто столь же убийственное, но более безопасное в обращении. Скажите лучше, как вы ухитрились это сделать?
– Это очень сложно, майстер Гессе…
– Постараюсь осмыслить; в конце концов, рецепт Магнуса мне более-менее известен. Если же я чего-то не пойму, вам придется прочесть мне лекцию; как я уже говорил – я готов слушать, сколько понадобится.
– Тогда простите заблаговременно, если я стану растолковывать все излишне детально, излишне…
– В расчете на дурака, словом, – уточнил Курт, приглашающе поведя рукой: – Прошу вас. Из каких невероятных составов изготовлен этот?
– Из вполне обыденных, – вздохнул Штайн и, пройдя к одной из полок, снял с нее отливающий золотом камень размером с ладонь. – Вот, взгляните; я оставил его ради его внешней приглядности, а кроме того, если повернуть вот так, напоминает облик льва… Это, если вам доводилось слышать, «золото дураков».
– Пирит, – уточнил фон Вегерхоф и, повстречавшись взглядом с хозяином, пожал плечами: – Я тоже имею некоторые познания в этой области; самые начальные.
– Пирит… – повторил Курт, рассматривая камень, и впрямь напоминающий слегка загрязненное примесями золото. – Слышать доводилось, но видеть не было повода.
– Осторожней, майстер Гессе, если надавить слишком сильно, он раскрошится у вас под пальцами, – попросил старик и, отобрав камень, бережно водрузил его снова на полку. – Это – отходы с рудников. Всеми полагается, что это лишь некая порода, сопутствующая железной руде, посему ее попросту выбрасывают – мешками, телегами; но – это тоже железо. Его лишь надо очистить, и все.
– И вы знаете, как?
– Знаю, – кивнул Штайн не без гордости. – Хотя, должен заметить, это весьма трудоемко.
– Тем не менее. Это уже что-то… Однако, мы отошли от темы. Итак, железо?..
– И сера, майстер Гессе. Дабы отделить одно от другого, пирит следует растереть до порошка, каковой порошок сжечь. Вот в такой печи. Видите? Она закрыта, чтобы собирать флюиды, но при упомянутом мною процессе требуется доступ воздуха, посему – мехи; вот они. Флюид, который выходит на этой стадии, весьма тяжел и даже в откупоренной простой бутылке будет покоиться на ее дне… Пока вам все понятно?
– Да, кроме одного. Вы все это устроили сами? Лаборатория, печи, вентиляция, эти трубки, колбы, горелки…
– Я был молод, – вздохнул Штайн с тоской. – Сил было много, много решимости и бездна воодушевления. И, что немаловажно, тогда еще – довольно средств… Итак, я продолжаю. Сей флюид надлежит пропустить сквозь чистую воду, дабы отделить от него мельчайшую пыль, не видимую глазу, но существующую в нем; затем – снова в горячую печь, в коей на этот раз на нескольких полочках посыпан золотой песок.
– Дороговато выходит.
– О, не вполне; сие золото по окончании опыта остается неизменным, и его можно использовать и впредь – по какому угодно назначению. Оно испортится лишь в том случае, если флюид очищен недостаточно хорошо, и невидимая пыль все еще в нем. – Штайн усмехнулся, разведя руками: – Лишний stimul все делать должным образом. Если же все сделано как надо, на поверхности золота флюид окислится; однако нельзя перегреть печь, что довольно сложно – на этом этапе опыта температура довольно высока; вообразите себя в центре одного из ваших костров, майстер Гессе, и вы составите себе представление…
– Кхм… – подсказал стриг тихо, и Штайн на миг запнулся, увидев, как со скрипом стиснулась в кулак ладонь майстера инквизитора, затянутая в черную кожу.
– Продолжайте, – подбодрил Курт, с усилием выдавив улыбку и пытаясь изгнать со спины ледяное ощущение жара, а из мысленного видения – облегающее отовсюду пламя. – Я вообразил.
– Да… – проронил старик неловко и, встряхнувшись, словно старый пес, продолжил с прежним воодушевлением: – Так вот, если перегреть, флюид распадется, и нужного результата не будет. Но если выдержана нужная condicio, если он вышел нужной консистенции – пропустив его через холодную воду, мы получим конечный продукт, а именно acidum sulfuricum. Чем дольше пропускать – тем крепче будет concentratum; для совершенного укрепления acidum следует перегнать, не попуская температуре подниматься выше той, при которой еще не закипает в котле вода. После чего, как я уже упомянул, надлежит укупорить бутыль – помимо соображений безопасности, есть тому и еще причина: открытая, эта substantia набирается из воздуха влаги, отчего слабеет.
– Но даже в ослабленном виде…
– Да. Это страшная вещь. Работать с нею надо осторожно; нет! до чрезвычайности осторожно. Одна капля… Не спасет ничто – ни кожаный фартук, ни перчатки; кожу, какую угодно толстую, она прожжет в единый миг, а вообразить себе перчатки каменные или стеклянные, увы, невозможно.
– Скажите, – попросил фон Вегерхоф тихо, глядя на наполненные бутыли в углу неотрывно, – если вам самому претит мысль о возможном применении вашего детища, если вас самого столь ужасают последствия – для чего вам столько? Вашими запасами можно убить половину города.
– Я нашел этому мирное применение, господин барон, – словно удивляясь себе самому, пояснил Штайн. – Знаете, если acidum sulfuricum ослабить и нанести на медь, образуется жидкость, которая в некрепком растворе убивает садовых и огородных вредителей, при этом оставляя плоды неядовитыми для человека. Жидкая substantia после высыхает, обращаясь в кристаллы, и хранить их можно долгое время, составляя растворы нужной силы по своему усмотрению. Раствором этим можно также обработать деревянные детали постройки перед ее возведением, и она будет защищена от древоточцев в будущем…
– Так вот что делают крестьяне в вашей лавке, – кивнул стриг с усмешкой. – Вы наладили его продажу. А я-то гадал, что это они выносят отсюда так часто и едва ли не бочками…
– Да, вот только особенного дохода это не приносит – некоторым образом покрывает затраты на опыт и оставляет небольшой прибыток, – вздохнул старик сокрушенно. – Если же пустить мысль дальше, майстер Гессе, то мое изобретение можно приспособить в помощь кузнецам, коим приходят заказы на особые вещицы, с надписями или узорами; ведь сколько времени и труда это занимает? А так нужный рисунок можно будет попросту вытравить – по стали любой прочности, и займет это минуты. Надо лишь сделать тонкую стеклянную трубку, из которой acidum будет вытекать каплями…
– Стекло, камень… – произнес Курт задумчиво. – А ваш так и не открытый dissolvator universalis – ведь он должен, как я понимаю, растворять и их тоже?
– В теории…
– А скажите тогда, в чем вы, господа алхимики, предлагаете его хранить?
– Кхм… – проронил Штайн, смущенно улыбнувшись. – Это… пока на стадии раздумий. Как, собственно, и сам dissolvator, посему с этим действительно сложным вопросом торопиться пока некуда.
– Стеклянные трубки… Зарядить такую в арбалет – и я смело могу пойти на стрига; пускай он пьет по утрам святую воду и увешан серебряными цепями, против этого, думаю, даже и такой не попрет.
– Стриги?.. – переспросил Штайн, внезапно перейдя на шепот, и нервозно обернулся на дверь своей лаборатории. – Скажите, майстер Гессе, неужто вы и впрямь так уверены, что в Ульме обитает настоящий стриг?
– О, да, – усмехнулся Курт. – Один уж точно. И, позвольте вас разочаровать, профессор – деревянным колом его не убить.
– Quelle piti[108], – согласился фон Вегерхоф тихо.
– А ведь я, грешным делом, пребывал по сей день наравне со всеми в полнейшей убежденности, что вы понапрасну мутите воду, – сообщил старик покаянно. – И теперь еще я не вполне уверен, что вы правы.
– Уж поверьте. Послушайтесь совета: не стоит, в самом деле, разгуливать по улицам после темноты. Рат неправ, я не паникую, я оцениваю ситуацию здраво. Не могу раскрывать вам всех тайн своей работы, прошу поверить на слово – у меня есть причины, доказательства, факты, позволяющие говорить то, что говорю… И вот еще что. Увы, профессор, мне придется раскрыть ваш фокус перед горожанами; я должен объявить о том, что стриг – подделка, и угроза остается. Я не стану называть имени, но, если как-то оно станет известно – не обессудьте. Возможно, вам придется наслушаться нелестных отзывов.
– Не беда, – отмахнулся Штайн печально. – После «долбанутого старого чеха» и «полоумного книжника», думаю, любые их эпитеты не будут так уж неожиданны.
– Вот только не вздумайте, если не будет прямой опасности для вашей жизни, прикрываться мои именем, профессор; увы. Наше сотрудничество – тайна, ведь вы должны понимать. Вы должны быть таким, как и прежде, жить, как прежде, вести себя так же; не стоит в будущем, если нападки заденут вас за живое, грозить нашей карой. Знаю, что очень захочется отыграться на обидчиках, получив в покровители Конгрегацию – по себе знаю – но делать этого не следует.
– Не стану, – пообещал старик. – Мне и в голову не пришло бы. Мстительность не приносит добра.
– Хм, ну, стало быть, вы добродетельней, чем я, – пожал плечами Курт. – Не могу сказать, что мне это не на руку… Знаете, профессор, у меня есть пока время; не потрудитесь ли ответить еще на несколько вопросов ради моего просвещения? Как знать, что в будущем еще может пригодиться; у меня при виде вашей лаборатории голова кругом, а назначение большинства предметов попросту ввергает в stupor.
– Опасное состояние, – усмехнулся Штайн понимающе. – Мой долг как лекаря вывести пациента из него; прошу вас, майстер Гессе. Спрашивайте.
Глава 15
До здания ратуши Курт добрался спустя четыре часа. Фон Вегерхоф на предложение пойти с ним для задушевной беседы с членами совета, названными стариком-профессором, снисходительно вздохнул. «Voil encore[109], – отозвался стриг лениво. – Я бы советовал и тебе там не бывать, однако чужих советов слушаются лишь дураки. По крайней мере, так полагают некоторые из них». «Merci pour cette bonne parole»[110], – буркнул Курт в ответ и удалился под одобрительное «tu fais de progrs»[111].
В предвечерний час ратуша напоминала засыпающий улей – пчелы еще не устроились на ночь, однако сбор меда почти завершился, рабочие пчелки уже еле ползали, пчелы-солдаты следили за прилетающими своими безучастно, за чужаками – вяло и нехотя, и исполинская матка-город надзирала за многочисленными подданными ленивым взором. Заседания закончились, сменившись скорыми разбирательствами между делом, по коридорам уже не бегали, а медлительно прохаживались служители, многие из которых направлялись к выходу – по домам. К счастью, те, кто был нужен, ex officio еще долго обязаны были пребывать здесь; если Курт верно помнил наставления стрига, пройти ему предстояло шесть коридоров и два этажа, повсюду наталкиваясь на взгляды – от удивленных (посетители) до заинтересованных (охрана) и настороженных (служители). Те же напряженные взоры встретили его в одной из комнат, напоминающих большую библиотеку – две пары острых, как иглы, глаз поднялись ему навстречу, и Курт, войдя, закрыл за спиною дверь.
– Ратманы Вильгельм Штюбинг и Иоганн Кламм? – осведомился он, остановясь напротив, и, не услышав возражений, кивнул: – Отлично. Вы оба здесь; это как нельзя более кстати.
– Как вам удалось войти, майстер Гессе? – лениво отозвался сидящий у стола обрюзглый человек в не по погоде теплом камзоле. – Пора разогнать к чертям стражу?
– Вильгельм Штюбинг, надо полагать, – отметил Курт, пройдя в комнату и, не спросив дозволения, уселся на стул подле недовольных членов совета. – Отчего же вы так; они свое дело знают.
– Что вам здесь нужно? – оборвал тот. – Как нам стало известно, ваше дело закончено; если вы пришли сообщить об этом – вы опоздали. О найденном на кладбище теле штрига говорит уже половина города.
– Как это замечательно, верно? Теперь дела пойдут в гору, наладится торговля, пропойцы снова начнут просаживать деньги на ночные увеселения, молодежь перестанет шугаться темноты…
– Мне чудится, – произнес Штюбинг желчно, – или в вашем голосе звучит сарказм?
– Звучит, – кивнул Курт. – И неспроста – полчаса назад я покинул лавку профессора Франека Штайна. Подсказать, о чем и о ком мы с ним беседовали, или вы, господа, догадаетесь сами?
На несколько мгновений в комнате воцарилась тишина; толстяк многозначительно переглянулся с сослужителем, и тот тихо пробормотал нечто, что, даже расслышав, Курт не сумел понять всецело.
– По-немецки, будьте любезны, – потребовал он, и Кламм усмехнулся:
– Вы в Ульме, майстер Гессе. Это означает множество вещей, в том числе и то, что здесь царит не только свой язык, но и свои правила, законы и воззрения.
– В гробу я видел швабские вольности, – отрезал Курт сухо, – когда дело касается событий, находящихся в ведении Конгрегации. То же, господа, что сделали вы – есть ничто иное, как помеха расследованию.
– И что же? – лениво вздохнул толстяк Штюбинг с улыбкой почти приятельской. – Вы наверняка полагали, что мы станем отпираться, убеждая вас в нашей непричастности, майстер Гессе, либо же, сознавшись, будем просить о снисхождении?.. Господь с вами. Отрекаться от совершенного мы не намерены, да и каяться нам не в чем. Ну, сознайтесь же, что вы попросту жалеете затраченных на дорогу в наш город времени и денег, а потому всячески изыскиваете повод задержаться здесь – даже не в надежде, а в бессмысленном стремлении отыскать хоть что-то. Ну, или кого-то. Понимаем также, что ваша слава не позволяет вам уйти с пустыми руками. Вы знаете, мы знаем, все знают, что никакого штрига в городе нет, что, если и был он, то давно покинул наши края. Ведь и вы это знаете не хуже нас. Что же вам еще нужно? Хотите обвиняемого? Бога ради – пройдите в городскую тюрьму, наверняка там найдется еще с пяток никому не известных и не нужных бродяг; отмойте одного, приоденьте – и жгите в свое удовольствие как штрига. Все останутся довольны, и вы поддержите status quo.
– Забавно, – отметил Курт сумрачно. – Это тоже местная специфика – взятки заключенными?
– Юноша, бросьте, – усмехнулся Кламм, и местный протяжный говор, скользящий в каждом произносимом слове, отчего-то сейчас выводил из себя более, чем обыкновенно. – О чем мы вообще говорим? О штриге? Да будь он здесь, половина Ульма…
– Знаю, – оборвал Курт зло. – Половина города была бы съедена, а вторая – остриглась бы; и прочая подобная чушь. Именно ваше превратное представление об этих существах и позволило мне раскрыть все ваши фокусы с ходу. Позвольте вам заметить, что он может сидеть тихо еще не одну неделю, и…
– Ну и что? – передернул плечами ратман. – Что же следует из ваших слов? Что мы должны запретить горожанам выходить из дому ночами, лучше – вечерами тоже, а на всякий случай – и днем? Что владельцы заведений должны прекратить ночную работу? Так? Наводнить улицы стражей? Если я не ошибаюсь, именно нечто подобное вы сотворили в Кельне во время своего последнего расследования?
– Вы почти не ошибаетесь. И расследование это, позвольте заметить, было мною завершено успешно.
– Увы, здесь это невозможно, – с равнодушным сожалением развел руками Штюбинг. – Начало весны. Начало торгового сезона; и вы хотите, чтобы мы сказали всем приезжающим в Ульм, что наш город опасен для них? Да вы рехнулись.
– Выбирайте выражения, Штюбинг.
– Не пугайте меня, юноша, – безмятежно улыбнулся ратман. – Здесь вы не в том положении, а я не ваш гостиничный владелец. Ну, скажите мне на милость, что вы со мною сделаете? Посадите в тюрьму? Господина Кламма – туда же? И всех прочих, не угодивших вам недостаточным уважением к вашей должности? Любого, съевшего жареную печенку в пятницу? Старого профессора, что исполнил наше указание? Всякого, посмевшего при словах «heil Imperator»[112] не замереть в благоговейном почтении? Что вам еще придет в голову? Теоретически – да, вы можете даже перевешать всех ваших соседей, дабы они не мешали вам молиться – но к чему? Послушайте меня, юноша. Ульм – город торговли; в казне оседают ввозные пошлины, которые честно и бесперебойно поступают в казну Империи в виде налогов, и таковое положение устраивает всех. Вашего обожаемого Императора в том числе. Не дергайте бровью; к чему нам лицемерие?.. Город смирился с навязанным нам фогтом, но терпеть бесцеремонность любого, явившегося к нам по своим делам, мы не намерены. Хотите сотрудничества? Мы предложили вам вариант, удовлетворяющий всех. Не хотите так? Хотите проводить расследование и дальше? Просим покорно. Вот только не мешайте жизни города, это все, чего мы от вас хотим. Не сейте панику. И не ждите, что мы будем вам в этом помогать; мало того, мы и впредь намерены воспрепятствовать любой вашей попытке поднять переполох. Хотите вражды? Что ж, я готов пройти в тюремную яму хоть сейчас – сам, без стражи и сопротивления. Вот только сомневаюсь, что из этого выйдет что-то доброе, и вы сами это осознаете, выйдя на улицы поутру. Ведь вы понимаете меня?
– Нет, – качнул головой Курт. – Отказываюсь понимать. Прилагая теперь столько сил, дабы от меня избавиться, точно бы я стихийное бедствие – для чего же было приглашать сюда следователя?
– Это было решение рата, – вздохнул Штюбинг. – Решение большинством голосов; мнение меньшинства не учитывалось, хотя мы предупреждали, чем обернется присутствие Инквизиции в городе, и не обманулись. Вы здесь, и жизнь замирает. Вы губите на корню все планы, юноша, и никакое стихийное бедствие не сравнится с вами. Град пройдет – и растает, ливень – закончится, пожар – потушат, дома и склады отстроят, чума иссякнет, а когда вы завершите свои малопонятные разбирательства – и черту не ведомо. Поймите, весенние торги – основа всего годового оборота, и если сейчас вы продолжте в прежнем духе, если отпугнете от Ульма торговцев, менял и негоциантов, вы оставите город без его обыкновенных доходов летом, а уж как это откликнется во время осенней ярмарки, я даже не берусь вообразить. Ульм – свободный город, свободный не только лишь de jure, свободный фактически, и любой знает, что здесь ему предоставлена полная независимость действий, если он блюдет городской закон и честно уплачивает налог со своего дела; но что же выходит теперь? Во-первых, ваше «волк, волк!». Во-вторых… Юноша, милый, ну, скажите вы, пожалуйста, к чему были ваши проповеднические потуги? Ведь это смешно и грустно. Вы намеревались перевоспитать огромный город за две минуты? Не надо этого делать – вас не поймут; собственно, вас и не поняли. Кто-то смеялся, кто-то насторожился, а кто-то, что самое неприятное, решил для себя, что инквизиторская когтистая лапа дотянулась и сюда, а поэтому лучше всего дела здесь попридержать или вовсе свернуть. Знаете, я полагаю, что даже и ваше руководство, и Его Императорское не будут особенно довольны этим фактом. Так не провоцируйте недовольств в Ульме, не давайте поводов к ропоту; предоставьте каждому жить так, как велит ему совесть и – нужда. Да, вполне приземленные требования к бытию; ну, так ведь каково бытие, таковы и требования. Никто здесь никому не указывает, какую жизнь ему вести; так всегда было, так будет, и не вам разрушать устои.
– Да, – проронил Курт тихо. – Quae fuerant vitia, mores sunt[113].
– Бросьте вы, – покривился ратман. – Взгляните хотя бы на вашего друга. Да, всем известна склонность господина барона к благочестию, каждый знает, сколько средств было пожертвовано им на благоустроение наших церквей, всевозможные церковные празднества и прочие нужды; однако кто видел его проповедующим?.. Ибо это не нужно. Ни к чему это, юноша, поверьте. Так давайте же не станем распалять вражду, давайте договоримся полюбовно. Не суйте нос в дела города, не впутывайтесь в наше привычное устроение, не стремитесь с наскока переменить обычаи и правила – и ловите вы своего мифического штрига, сколько вам заблагорассудится, хоть год. Помощи? Не обещаем. Но если вы не станете мешать нам жить, мы не станем мешать вам работать. Предлагаю вам остановиться, сказать «согласен», ибо ничего иного вам не остается; и отступить.
– Вам самому не страшно выходить на эти самые улицы вечерами? – сдерживая закипающую злость всеми силами воли, поинтересовался Курт негромко. – Вы всерьез полагаете, что я ошибаюсь или что рвусь выслужиться за счет ваших горожан? Или серебряный звон настолько затмил вам разум, что вы сами себе верите?
– Ваше упорство пронимает, юноша, – откликнулся ратман с улыбкой. – Знаете, что интересно? Я намеревался задать тот же вопрос и вам; но, как я вижу, это не имеет смысла. Вы и в самом деле уверены, что по нашим улицам бродит страшная кусачая тварь… Но не надо, прошу вас, не стоит пытаться убедить в этом и других.
– Хотелось бы знать заранее, что вы скажете, когда я убью или изловлю его, – чувствуя, что начинает терять самообладание, выговорил Курт, и тот благодушно рассмеялся:
– Лучше изловите; так-то оно будет нагляднее, и тогда я, Богом клянусь, возьму свои слова обратно – прилюдно принесу извинения за свою недоверчивость. Хотя, готов спорить на что угодно, ничего подобного не произойдет в ближайшую сотню лет…
– На что угодно? – оборвал Курт, понимая, что поступает глупо, но уже войдя в запал. – Хорошо. Поспорим? Я найду его – живым или мертвым.
– И на что же вы желаете спорить, юноша? – расплывшись совершенно в улыбке, с умилением произнес Штюбинг. – Учтите, кукарекать под столом я не стану – возраст, знаете ли, суставы…
– Две тысячи, – бухнул он, не думая, и обрюзглое лицо напротив на миг утратило насмешливое выражение, осветившись безграничным удивлением. – Дабы не путаться в местной специфике – две тысячи талеров.
– Бросьте вы, Гессе…
– Майстер Гессе фон Вайденхорст, – поправил Курт холодно. – Вы убеждены в своей правоте? В таком случае – это легкий способ пополнить свои капиталы; ведь это и есть религия этого города и ваша в частности. Следуйте ей. Две тысячи талеров. Серебром.
– Ну, положим; и когда же спор можно будет почитать оконченным, майстер Гессе фон Вайденхорст? В самом деле через год?
– Самое долгое расследование, проводимое мною в Кельне, заняло три месяца; полагаю, и здесь я навряд ли потрачу больше времени. Итак, не позже чем через три месяца тот из нас, кто окажется неправ, рассчитается с другим, не пытаясь увильнуть, солгать, протянуть время и прочими способами уйти от исполнения договоренности. Для чего здесь же и сейчас эту договоренность мы закрепим в письменном виде, ибо никого, кроме свидетеля с вашей стороны, в случае нужды непременно будущего лжесвидетельствовать, не имеется. Итак. Принимаете ставку, или вашей уверенности поубавилось?
– Il y a de quoi devenir fou[114]… – пробормотал фон Вегерхоф, выслушав повествование о прошедшем разговоре. – Ты не просто запальчивый юнец, Гессе, о чем я говорил еще при нашем знакомстве; ты очень самонадеянный и глупый запальчивый юнец. Скажи мне на милость, mon ami, а кто будет оплачивать эту расписку, если ты провалишь дело? Или если твой стриг ненароком сгорит у тебя рано утром? Если не сумеешь предоставить доказательств?
– Догадайся, – предложил Курт, мысленно бичуя себя за уже миновавшую вспышку неуместного азарта, и тот вздохнул, обреченно отмахнувшись:
– Ну, Бог с этим. Bois tordu ne se redresse pas, et en sa peau mourra le renard[115]… И не в деньгах дело, Гессе. Сегодня ты получил по усам; неприятно? Вообрази себе унижение – на глазах всего города вручить этому недоноску его выигрыш с громогласным признанием своей неправоты; а уж он постарается, чтобы это случилось именно так, прилюдно и торжественно. Ты уронишь не только собственное достоинство, но и Конгрегации вообще.
– Как сказал наш добрый доктор – лишний стимул все сделать должным образом, – отозвался Курт хмуро, глядя на солнце, медленно скатывающееся к горизонту. – Ты выйдешь сегодня ночью?
– Настроился со мною?
– Все равно не усну, – буркнул он зло. – Чем вертеться и смотреть в потолок, уж лучше болтаться по улицам; смысл и в том, и в другом равно никакой, но второе хоть не столь муторно.
– Я вижу, ты воспринял таки мой совет и избавился от излишнего оптимизма? – усмехнулся фон Вегерхоф одобрительно. – Только не уйди в крайность; уныние – грех смертный.
– А тот толстяк сказал, что ты не проповедуешь; они тебя просто плохо знают. У меня мысль: если повстречаемся ночью с нашим неведомым приятелем, начни с ним знакомство в своем духе – завали его советами, и пока он будет выбираться из-под этого завала, взять его можно будет голыми руками… Я намерен возвратиться на кладбище, взять за горло какого-нибудь святого отца и договориться о нормальном погребении для того бедолаги. Не составишь мне компанию? Ведь ты здесь первейший жертвователь на подобные дела.
– Управишься без меня, – возразил стриг. – Если упрешься в средства – обращайся, но пойти с тобою не могу, на сегодня у меня запланировано разрешение множества дел; надо блюсти i[116], невзирая ни на какие иные проблемы. Излишнее же вмешательство в твои дела даже для меня будет выглядеть подозрительным, а ты с твоим небывалым обаянием способен добиться чего угодно и от кого угодно… Adieu, mon ami.
В словах стрига и впрямь оказалась некоторая доля правоты – привлеченный к делу священник согласился провести должный обряд над телом почти без уговоров и почти даром; проблема – не неожиданная, но неприятная – обнаружилась в ином: попросту отпинав оставленного на посту сторожа, горожане почти растащили полуобгорелые останки на части. Кое-кто даже задумал соорудить некое подобие костра в отдалении, где сжигались сухие листья, убиравшиеся с богатых могл по осени, решив довести дело неведомого охотника до конца и обратить богомерзкие кости в прах. На то, чтобы возвратить на место большую часть трофеев и водворить в умы не сильно поуменьшившейся толпы мысль о соблюдении хоть некоторых приличий, ушло немало времени, и к моменту, когда изрядно потрепанное тело было унесено для полагающихся процедур, Курт готов был продолжить возведение начатого костра для использования его по назначению.
До гостиницы он добрался, когда над колокольней ратуши прозвенел колокол, возвещающий окончание дневных дел; вскоре еще более громогласно должны были зазвучать колокольни, сообщая горожанам о близящейся заутрени, однако Курт сильно сомневался, что сегодня не физических – душевных сил достанет на посещение вечернего богослужения. Перед тем, как переступить порог дома Господнего, надлежало оставить обиды и злобу, а именно эти чувства и владели сейчас майстером инквизитором безраздельно и полно, а переступив порог своей комнаты и окинув ее взглядом, он ощутил, как стискиваются зубы и сжимается кулак. Комната была вылизана – все-таки за требуемую им плату хозяин обеспечивал отменное обслуживание своих постояльцев. Для чего прислуга зажгла днем свечу – залезть ли в темный угол за паутиной, зажечь ли угли в очаге, дабы натопить неизменно холодную комнату, не прогреваемую ничем, кроме стылого весеннего солнца, – это Курта не интересовало; сейчас не ощущалось ничего, кроме злости на весь этот город, на нахальных градоустроителей, равнодушных обывателей, вечно философствующего фон Вегерхофа и – эту свечку, забытую в его комнате на столе. Сквозь закрытое окно, разбросавшее по стенам радугу цветных теней, не проникало ни единого дуновения, ни сквозняка, и огонек стоял прямо, точно стяг, издевательски уверенно, ровно. У стола Курт остановился, не доходя трех шагов, глядя на алую прозрачную каплю пламени едва ли не с ненавистью.
«Ты не боишься огня; ты его ненавидишь»…
Ладонь выбросилась вперед прежде, чем разум успел, как это всегда бывало прежде, подсказать, что это глупо и невозможно, и на мгновение Курт замер, так и оставшись стоять с вытянутой перед собою рукой.
Огонек поник, отпрянул, склонился перед ним, когда ладонь (или показалось?..) и впрямь словно толкнула вперед нечто – невесомое и плотное, когда словно волна прошла по телу, насквозь, через нервы и кровь, вырвавшись вовне и ударив, и – крохотный язычок пламени отклонился назад, упал, обнажив фитиль, обняв свечу и едва не погаснув вовсе. На тонкий темно-серый дымок, сорвавшийся с обгорелой скрученной бечевки, Курт смотрел недвижно, оглушенно, пытаясь убедить самого себя в том, что попросту откуда-то прорвался сквозняк, сбив пламя вниз; пытаясь – и не веря себе самому…
Ты можешь…
«Он показывал вам это представление со свечой? Я пытаюсь повторить этот фокус уже не первый год. Никаких успехов»…
Ты можешь…
Ладонь выбросилась вперед прежде, чем разум успел, как это всегда бывало прежде, подсказать, что это глупо и невозможно, и на мгновение Курт замер, так и оставшись стоять с вытянутой перед собою рукой и глядя на ровно горящую свечу, чье пламя ни на волос не подвинулось, держась по-прежнему прямо и спокойно…
– Ну, было бы глупо предположить, что ты поддашься мне дважды подряд, – проговорил он едва слышно и, с усилием сделав шаг вперед, опустил руку, чувствуя тепло на лице и страстно желая отшатнуться вспять. – Однако ты не так уж непобедим, да? Стало быть, у нас с тобой еще все впереди, приятель.
По лестнице Курт, развернувшись, сбежал вниз, ощущая пополам с прежним бешенством неведомое, непонятное чувство, граничащее с детским упоением и испугом, все еще не веря полностью ни в то, что видел, ни в то множество простых объяснений, что продолжал подбрасывать мозг.
«Я пытаюсь повторить этот фокус уже не первый год. Никаких успехов»…
Ты можешь…
Это ты – человек-unicus, парень…
«…уже не первый год. Никаких успехов»…
Ты можешь…
– Хозяин!
От смеси чувств и мыслей, от этой восторженности и растерянности, от еще не остывшей ожесточенности голос прозвучал злым окриком, и явившееся перед Куртом лицо владельца имело тот вид, каковой он и ожидал увидеть – вид приговоренного, надеющегося на помилование в последний миг.
– Да, майстер инквизитор? – изготовился он опасливо, и Курт шагнул вплотную, изобразив улыбку, от которой хозяин покрылся белыми пятнами, точно обмороженный.