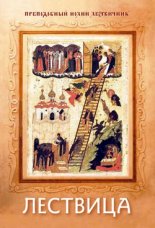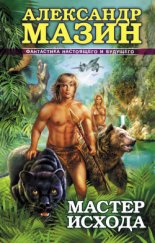Белая голубка Кордовы Рубина Дина
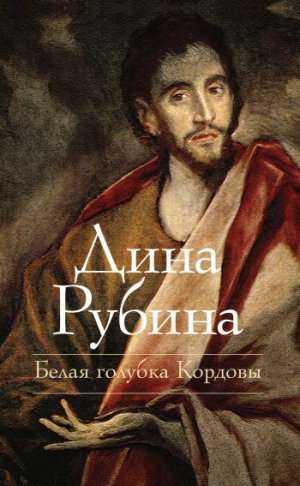
Сейчас уже при всем желании ничего в окошке было не разглядеть. И все же он вяло отметил мелькнувший силуэт, удивленно понимая, что там, за окном, оказывается, не городок в сьерре, а угол улиц Переца и Эдельштейна (кто они, кстати, были – революционеры?). Кто-то приблизил к мокрому стеклу пятно лица в скобках ладоней, и он уже знал, что это – Сильва, и сквозь шорох дождя различил ее хрипловатый тягучий запев: «Ца-ар вкра-ал у Пушкина жыну!»…
Схватил планшетку с прикнопленым листом бумаги, вытянул из кожаной петельки карандаш.
– Сильва! Посиди вот так, ладно? Эй, не двигайся минут пять…
– Цар вкрал у Пушкина жыну!
– Вот и хорошо… – быстрый шорох карандаша по бумаге. – Какую жену?
– Та Наталку Хончарову, бездельник, как в школе учишься!
– Не верти головой, пожалуйста… Вот, будет у тебя портрет. Ну, Си-и-ильва!!!
А она уже вскочила и пошла кружиться и приседать, вскинув кокетливо руку над головой, помахивая несуществующим платочком… «Там, вдали за занаве-е-скою… клоун мазки на лицо кладе-от». И кружась и отдаляясь, вдруг остановилась, приподняв подол юбки, стоя помочилась, густо и долго журча…
– Си-и-ильва! Си-и-ильва!
Та издали, за журчащим подолом дождя, строго пальцем грозит:
– Сильва полковнику верна!
Тогда мамина рука – нежный сильный жар от нее – проводит по плечу и гладит наспанную щеку:
– Повернись на правый бок, сердечко мое. И не кричи…
Сильный жар шел от радиатора. Видимо, Марго спускалась разбудить его, но пожалела и милосердно решила чуток его поджарить – к ужину…
Да, Сильва… Открытие нового моста, весеннее половодье, свинья, плывущая на льдине, грязный и мокрый свет… Все-таки странно, что от детства и отрочества самой яркой открыткой осталась именно эта фигура. Мама рассказывала, что Сильва – бывшая примадонна заезжей оперетты, которой изменил ее любовник, какой-то таинственный полковник (царской армии? незначительное смещение во времени). Изменил, потом застрелился. После чего Сильва спятила и на веки вечные осталась в небольшом городе Винница. В любую погоду ходила закутанной в дюжину рваных крестьянских платков, стоя мочилась на улицах, а все свои не очень длинные монологи начинала с неизменного: «Цар вкрал у Пушкина жыну». Кстати, спала она на кладбище, якобы на могиле того самого полковника. В первый же приезд Захара из Питера на каникулы дядя Сёма, как бы между прочим, обронил: а, ты не знаешь: Сильва замерзла насмерть у своего полковника.
Он потянулся, выключил радиатор, от которого левая щека пылала температурным пожаром, и зажег свет.
Ого! Наверху, надо полагать, в разгаре ужин – начало девятого.
Он чувствовал себя вполне способным присоединиться к уважаемой публике. Марго и сама отлично готовила, а при наличии на побывке невесты-Катарины можно надеяться на коронный их пирог с капустой.
Когда минут через пятнадцать он заявился в столовую, обставленную вполне в духе Марго – дорого и чу-удно: картины в таких тяжелых золоченых рамах, что живописи не видать, какие-то столики по углам, накрытые испанскими шалями, на них с полдюжины настольных ламп, серебряные канделябры, антикварные часы со вздыбленными конями, бронзовые фигуры и бюсты и множество мелких случайных вещиц, – грозовые тучи уже собрались над бедной Яшиной головой.
– Я пришел дать вам волю, – провозгласил голодный дон Саккариас, – от капустного пирога.
– Кордовин! – заорала Марго. – Сядь на свое место и молчи!
Да: у него тут было свое место – спиной к подозрительной копии некой псевдоримской Венеры: только он один мог протиснуться между столом и ее тяжким бедром в складках мраморной тоги. В спокойные дни он развлекал семейство длинными монологами, обращенными к этой тетке. Вроде она – бесчувственная дама сердца, а он безнадежный воздыхатель. В ее мраморном лице действительно была какая-то заинтересованность в диалоге, в этом и заключался комизм ситуации.
Но сегодня случай для инсценировки явно неподходящий.
Он сел, подмигнув несколько напряженному доктору напротив, и удержал себя от замечания, что отстреливаться они будут вместе. Тот никак не ответил на дружеский сигнал.
– Марго, а что вон то желтенькое – это с яйцом? – спросил он.
Та, не глядя, передала ему вазу с яичным салатом.
– …и иврит у вас, Яша, – продолжала она, чуть сощурясь, – не абы какой. Великолепный марокканский иврит. Такого за сто лет ни на каких курсах не выучишь. Признавайтесь: вы учили его в постели?
Черт побери. Да она неуправляема, эта баба. А Катарина, оцепенелый кролик, не в силах постоять за своих обреченных мальчиков. И Леня не в состоянии дать ей разок по физиономии. Кстати, Лени-то и нет.
– А где же Леня? – поинтересовался Кордовин. Ему никто не ответил.
– Да, – натянуто улыбаясь, проговорил Яша. – Да, у меня была девушка, марокканка. С чего бы это скрывать.
Последовала внятная пауза, после чего тяжело звякнули брошенные Марго на скатерть серебряный нож и вилка.
– Так! Яша! Быстро! Быстро мне отвечать: сколько женщин у вас было до Катарины!
Отсюда, с его места под мраморным локтем покровительницы-Венеры, видно было, как с улицы к воротам подъезжает Ленин «сеат».
– Шесть… – недоуменно поглядывая на свою смиренную избранницу рядом, сообщил Яша, вероятно по-прежнему не видя в свои тридцать шесть лет в этом особого криминала. Хотя уже было сильно заметно, насколько ему, бедняге, тошно.
– Марго, послушай, детка. Надо как-то сменить тему и разогнать эти тучи, ей-богу! Не выпить ли нам за то, чтобы…
Поздно. Поздно! Лыжник уже оттолкнулся и полетел с высоченной горы, только ветер свистит обочь, и лица, жесты, рвано выкрикнутые слова на ветру уносятся прочь с необратимой скоростью.
Лицо Марго наливается кровью. Она хватает себя за волосы так, что, кажется – еще мгновение, и Швейк совлечет со своей башки паклю парика и под хрустальным каскадом люстры обнажится сияющая лысина.
– Сейчас! Вы! Всё! Скажете мне как на духу! – отчеканивает она, вперив в беднягу тяжелый пыточный взгляд. – У вас в России остался ребенок!
И, потрясенный проницательностью этой страшной женщины, Яша тихо склоняет голову.
Тогда раздается протяжный истошный вой, нечто среднее между запевом сельских плакальщиц и индейским боевым кличем.
– А-а-а-а-а-а!!! – кричит Марго долгим, затихающим на конце выдоха, рыком… Набирает в легкие воздуху и снова заводит: – А-а-а-а-а-а!!!
Услышав этот трубный рев, тихий подкаблучник Леня, паркующий в это время во дворе машину, с перепугу носом одного своего автомобиля въезжает в зад другого своего автомобиля. Вываливается из дверцы и взлетает на второй этаж.
– Что!! Что?! – вскрикивает он умоляющим тенором. – Что случилось?!
Раскачиваясь из стороны в сторону и указывая на посеревшего Яшу толстым пальцем, Марго ревет:
– Он!..О-он! Он бросил в России своих детей! Смотри на него, Леня! Все смотрите на него! Это – главная сперма Советского Союза!!!
М-да… но поесть-то все-таки надо. Самое интересное – это выражение лица даже не Яши, который в настоящей дикой ситуации – невинная жертва и в данный момент не в состоянии отличить сна от реальности, – а Лени: прожить с этой женщиной более четверти века, и так живо, так страдательно любить малейшее движение ее толстого пальца, малейший взмах ее выщипанной брови, кувалды ее бальзаковских рук…
Дон Саккариас обстоятельно положил в свою тарелку салаты; Яшиной, выроненной вилкой подцепил отбивную с огромного блюда в центре стола – доктору уже ничем не поможешь, это как на фронте, когда ты стягиваешь с убитого друга сапоги – мне еще воевать предстоит, – поднялся, толкнув мраморное бедро и машинально извинившись перед Венерой, и выбрался из-за стола.
Там, у себя в каморке – в школе – он отлично отужинает.
Интересно, как она детям преподает, эта фурия? И ведь дети любят ее, сам видел, своими глазами.
Через час Марго к нему спустилась. Она была мрачна, но абсолютно невозмутима.
– Молодые удалились на покой, – объявила она.
После этой ее фразы ублаготворенный и сытый дон Саккариас согнулся пополам от хохота. Марго смотрела на него, долго и подробно изучая, будто впервые увидела и должна оценить по всем статям.
– И что ты ржешь? – спросила она с интересом.
– Представляю Яшину склонность в эту ночь к любовным утехам.
– В том-то и дело, – согласилась она.
И вдруг сама фыркнула, оборвала себя; опять строго на него глянула. Расхохоталась, шлепнулась на стул, и долго они не могли успокоиться, поглядывая друг на друга и вновь заходясь в приступе истерического смеха.
– Ладно, – проговорила она, деловито отирая пухлой ладонью слезы. – К делу. Осмотрим подстреленную дичь.
Ушла на хозяйственную половину школы и довольно долго там возилась. Надеюсь, не в стиральной машине она прячет дичь?
Странно, почему он с таким волнением всегда ждал встречи с этими обреченными. И интересно, испытывает ли монстр-людоед сострадание к своим жертвам, перед тем как обжарить на костре их дымящуюся печень?
Наконец Марго явилась с двумя холстами в руках. Один чуть больше другого. Холсты – уже виден испод – в отличном состоянии.
Нет, она молодчина, она молодчина – Марго!
Он сел на стул напротив топчана, и Марго развернула и поставила рядом обе картины.
Затем пошла в школу и вернулась оттуда с детским табуретом, на который и уселась, – бедная толстая задница.
– Тебе неудобно, – заботливо проговорил он, все еще заставляя себя помедлить перед детальным рассматриванием. – Сядь ко мне на колени, моя радость.
Поменялись плацдармами… И наконец, как писали в дореволюционных романах, «он погрузился в созерцание». Впрочем, созерцанием это назвать было невозможно. Первый взгляд на вещь всегда был похож на медленное внедрение клеща под кожу. Кроме того, он скорее не рассматривал эти вполне заурядные холсты. Он – сквозь них – рассматривал будущие великие полотна.
Ни в каких очках он, само собой, не нуждался. Хвала аллаху, у него было стопроцентное зрение.
Марго вышла… минут через пять вернулась под рокот водопада в туалете.
– Теперь разлучим их… – пробормотал он.
Поднялся и отставил одну из работ.
Та, что осталась стоять на топчане прислоненной к стенке, предлагала зрителю незамысловатый натюрморт: две рыбины на сером, с розовой и зеленой каемками, блюде. Фон – толстые изломанные складки синей драпировки. Написано живо, широко, довольно экспрессивно.
– Не выдающееся произведение, а? – сказала она.
– Ну почему же… – отозвался он не сразу. – Натан Коган – неплохой художник. Сильно зависел от окружения, это правда. Да и кто из камерных дарований не зависел тогда от таких гигантов, как Сутин, – если каждый день обедал с ними в каком-нибудь бистро, любил одних и тех же натурщиц и пользовался теми же красками…
– Сутина станешь ваять? – с любопытством спросила она.
Он поморщился.
Точно так, как не допускал сальных замечаний о мимолетных своих любовях, так все внутри него восставало против этого гнусного полууголовного говорка мелких бездарей.
– Поставь другую! – велел он сухо. – К тому же ты знаешь, что сам я ваять давно уже не в состоянии.
Никогда она не узнавала в картине, которую он привозил, того заморыша, которого сама же года три-четыре назад выторговала на каком-либо из европейских аукционов.
Марго – при всей их преданной дружбе – тоже не полагалось знать больше того, что предназначалось по роли. То есть: скупать на аукционах недорогие картины третьестепенных живописцев и искать хорошие руки среди мадридских галеристов и коллекционеров. Кстати, у нее были неплохие дружеские связи в здешних кругах. Эта слониха обладала беспрецедентной коммуникабельностью и умением проникать всюду в своем могучем стремлении к сияющим вершинам.
Одной из таких сияющих вершин была княгиня София Боборыкина, потомственная русская дворянка, замужем за крупным швейцарским бизнесменом, имевшим сеть первоклассных отелей по всей Европе. Княгиня София Боборыкина – еще один персонаж, который, собственно, стал персонажем только после того, как, пошерстив архивы замка Шенау, в котором в Австрии 70-х годов селили советских иммигрантов, Кордовин обнаружил некую Софу Бобрик, девушку из Днепропетровска. И все сошлось после того, как выяснилось, что Марго приятельствует с бывшей подругой нашей княгини.
Ну, что ж, подумал он тогда, молодец, Софа. Смена фамилии – хороший прием, когда делается со вкусом. А со вкусом у Софы все обстояло наилучшим образом. Выйдя замуж за господина Синклера, она произвела над собой ряд операций самого разного свойства, как косметических, так и родственных: всю днепропетровскую родню, например, просто ампутировала. Обнаружив недюжинную страсть к обустройству замков, старинных отелей и вилл, стала организовывать «русские балы» по всей Европе. Особо славятся ее балы на старый Новый год – бывают там Романовы, Шереметевы, Голицыны и прочие Обольяниновы. Что подают? Как положено: расстегаи, икорку, балычок, водочку… Ну, и хор казаков, само собой.
Не часто, и не на балах – куда этой слонихе пируэты выписывать, – иногда навещала Марго княгиню с некой миссией: хотелось обнаруженную и приведенную в порядок картину известного мастера продать в хорошие руки, «в нашу, русскую коллекцию» – (ву компрене?), а не через аукцион, абы кому, в сейф аравийского принца или японского магната. И какое-то время картина висела в одной из гостиных, кабинетов или сигарных комнат одного из отелей, притягивая взоры настоящих негромких коллекционеров.
Однажды он лично видел – издали – княгиню Боборыкину в лобби отеля, в Цюрихе, где останавливался на время какой-то конференции. Тонкая, подштопанная и отлакированная по всем осям координат, с фиалковой сединой над густыми черными бровями, Софа процокала каблучками по мраморным плитам пола под руку с известным российским скрипачом. Очень известным скрипачом.
Второе полотно оказалось пейзажем, и хорошим пейзажем. Да: хорошим легким пейзажем. «Un banc dans le Jardin de Luxembourg» – «Скамейка в Люксембургском саду».
Ранняя парижская весна, ясный полдень, прозрачные деревья… Две девушки на скамейке. Тут же, под рукой, корзинка для пикника, полузакрытый голубой зонтик на коленях одной из девушек. Всё сине-зеленое, травяное… Легкие дробные, сильно разжиженные мазки. Довольно близко к импрессионизму. Ей-богу, жалко даже… Нина Петрушевская. Петрушевская, Нина. Что, собственно, о ней известно?
В тридцатых годах довольно близко общалась с Гончаровой и Ларионовым, восхищалась обоими. Те ей благоволили, есть отзывы в письмах и воспоминаниях. Даже кое-что подарили из своих работ, что ныне замечательно. Милая, так в кого из супругов ты хотела бы перевоплотиться?
– Ну, как аукцион? – спросил он, смягчившись.
– Да ну, – она махнула рукой, – аукцион как всегда: агенты с телефонами на ушах, гонка цен, сутолока… Стокгольм – скукотища… После Испании все слишком пресно. Не город, а пряник какой-то. Ума не приложу – как ты жил там два года.
– По-всякому жил. И пресно, и не пресно. В университете я был старше других студентов, поэтому держался в стороне. Вечерами в портовом пабе вкалывал, а там другая компания, моряки с Ноева ковчега. А шведы… да, с непривычки торопеешь: обязательное приветствие встречному, но если сигарету стрельнул – изволь выдать монетку в компенсацию. Что-то не стыкуется. Хотя в этой отстраненности есть и свое обаяние. Там знаешь что весело – открытый огонь по вечерам над барами. Бьется зверский огонь в огромных факелах, захлебывается черным дымом. Такая нешуточная стихия… а под ней – размеренная шведская жизнь.
– Нет уж, мне по сердцу наши испанские нравы. Скажешь человеку просто, от души: «ми альма», «нинья»[10]… и к тебе – соответственно отношение. Ладно, пойду… Тут на столе – туба, плоскогубцы и молоток… вроде всё? А, ноутбук вон, на полке.
Она тяжело поднялась, с усилием прогнулась в пояснице – вернее, попыталась прогнуться.
– Устала! – сказала она уже от двери. – Эта-то, хламида моя, опять не того притащила. Ну, кому это надо – всю жизнь алименты терпеть.
При всей артистичности и многолетней «европейскости» Марго в своем семейном обиходе была обычной мещанкой.
– Марго! – позвал он. Она обернулась. – Ты молодчина! – сказал он. – Я тебя обожаю. Деньги уже перевел на твой счет – тот, миланский. Все правильно?
– Дон Саккариас… – проговорила она, зевая. – Ты меня еще никогда не обижал. А что запонки мои носишь – хвалю. И не думай, что это серебро! Это платина! Марго фуфла не подарит.
Он не думал, что это серебро. Он знал, что это посеребренный металл – такая уж она была, его Марго: отважная, преданная и скуповатая.
Он улыбнулся и одними губами послал ей воздушный поцелуй.
До часу ночи он вытягивал плоскогубцами и поддевал отверткой гвозди, засевшие в старом подрамнике много десятилетий назад, аккуратно складывал их в серебряную, с вензелями, коробочку – то ли табакерку, то ли портсигар, то ли пилюльницу, подобранную в прибое все тех же блошиных развалов, у древнего порта Яффо. Гвоздочки все должны были оставаться родными.
Картины он перевозил обычно в разобранном виде, хотя в этом была своя морока.
Раздевая пейзаж Петрушевской, помедлил, разложил на лежанке холст и минут десять еще рассматривал его в тусклом бахромчатом свете допотопного торшера, то и дело нежно и кратко касаясь пальцами.
Затем бережно – не повредить старый красочный слой! – свернул холсты трубочкой, упаковал в небольшую пластиковую тубу. Подрамники сложил безукоризненно ровной и плотной вязанкой, проложил специальной пупырчатой пленкой, поверх перепеленал липкой лентой.
В перевозке холстов была своя замечательная шутка, но не этих, законных-аукционных, а тех, других, моих: несколько раз на вопрос таможенника – что за картины, он отвечал, потупясь: «копии», и тревожным лицом и подрагивающими руками добивался, чтобы велели открыть и показать… Качество полотен и неотразимый вид и запах подлинности всегда заставлял таможенников вызвать эксперта. И вот там-то, под очаровательно мерзким искусственным светом ламп, приглашенный разгневанный госэксперт выводил своей официальной рукой приговор: картины подлинны! Вывоз не заявлен! Он изображал небольшой театр, выкрикивая что-то о пропущенном рейсе, о моральном и материальном ущербе, платил некоторый штраф – против закона ведь не попрешь. И оставался с бесценной официальной бумагой на руках.
Впрочем, часто прибегать к таким штукам нельзя.
Наконец он сложил на столе улов, открыл ноутбук, заглянул в свой почтовый ящик. Вывалились несколько писем. На три университетских следовало ответить немедленно, и он ответил. Письмо от Ирины – ну где он там, и почему не отписал о благополучном прибытии, надо полагать, интернет-кафе есть на каждом углу… Нет-нет, никаких возвышенных эпистолярий в ответ: он страшно занят, ни минуты свободной… целую… привет вашей очаровательной попке – все на костылях косноязычной латиницы, визжащей на наших шипящих, как коньки на резком повороте.
Того письма, которого он ждал с хищным пульсирующим током крови, не было.
Ну, что ж… Будем считать, что найти человека во Флориде не так и легко.
Как обычно, когда он пытался себя угомонить, произошло обратное – ослепительное, как удар: белеющее в сумраке мастерской тело мертвого Андрюши с треугольными заплатами ожогов на груди и животе, и рядом – утюг с запекшимися ошметками его кожи.
Потерпи, потерпи, родной, еще чуток. Уже скоро…
Он задумчиво окинул взглядом тяжеленький сверток на столе. Пролистнул на экране чистый бланк для письма, выбрал нужный адрес и приступил к неторопливому, осторожному, по два-три медленных слова (капли из худого крана), посланию.
«Дорогой Ральф, у вас сейчас раннее утро, а я в Испании, глубокой дождливой ночью, любуюсь неким пейзажем, который по моей просьбе купили мои агенты на недавних торгах “Bukowskis”, в Стокгольме. Блаженствую, так как давно охотился за какой-либо вещью этой художницы. Речь идет о Нине Петрушевской из окружения Ларионова и Гончаровой. Когда окажусь дома, в Иерусалиме, пришлю Вам фотографию этой работы – она прелестна. До сих пор в моей коллекции была только одна картина Петрушевской – “Дождь на Авеню де Ваграм” (не показывал ли я Вам ее в Ваш приезд прошлой осенью?) – более поздняя, предвоенная (если Вы не в курсе: Нина не успела эмигрировать из Франции, была депортирована в один из нацистских лагерей, где – насколько мне известно – и сгинула. Впрочем, может, я и ошибаюсь. Просто после войны никто и нигде не встречал ее работ, а их и вообще немного).
Дружище, я вот почему Вас беспокою. Мне бы хотелось написать об этой, безусловно, талантливой, незаслуженно обойденной вниманием специалистов и коллекционеров художнице. Я бы заодно приобрел еще две-три ее вещи – если они вдруг всплывут на каких-либо торгах в “Christie’s” – все же это Ваша вотчина. Был бы Вам страшно признателен, если б Вы в таком случае заранее дали мне знать. Будете ли Вы в Лондоне в феврале? Если да, то спешу пригласить Вас на ланч. И как нога у Реджины? Надеюсь, тема операции сошла с повестки дня? Кстати, недавно мне посоветовали средство от артрита, мазь “Zolotoi us”, российское колдовское чудо. Даже мой вечный артрит был смирен и заключил со мной длительное перемирие.
Передайте Реджине, что я достану для нее это средство через российских друзей или привезу из России сам.
Обнимаю Вас, мой дорогой, простите, что пишу слишком кратко и делово – я не у себя и на рассвете отбываю.
Всегда преданный Вам,
З. Кордовин».
Некоторое время он не отправлял этого письма, перечитывая еще и еще раз, добавляя там и сям слово, стирая излишне витиеватые обороты… Оставить ли российских друзей – учитывая, сколько «фуфла голимого» за последние годы приплыло на мировые аукционы из царства варягов и золотой орды? Решил оставить, хотя в России старался не бывать и ни малейшего друга там не держал – на всякий случай. Но, во-первых, биография и происхождение должны оставаться незыблемы, во-вторых – у советских собственная гордость. Оставил.
Никакой довоенной работы Петрушевской у него никогда не было. Но будет. «Дождь на Авеню де Ваграм» еще только предстоит извлечь из небытия, вернее, из вечно длящегося, дымящегося мартовскими туманами бытия, где парные конские яблоки на мокрой мостовой излучают янтарный свет, а грохот конки передается дробными легкими мазками, где не успели еще выключить голубоватых фонарей на бледном небе, написанном так, что оно всегда останется слабо тлеть на полотне, даже и в темном помещении.
Вот так, отлично: старушка Петрушевская спасена. Она не исчезнет под гибельной его рукой, как предполагалось ранее (он просто не знал – насколько она хороша вблизи), а, напротив, возродится, обрастет со временем вновь найденными (пока еще неизвестно – где и какими) картинами. Начало положено, это главное. Да: на аукционах эта работа стоила всего лишь двенадцать тысяч евро – ей-богу, незаслуженно. Если подумать, чего стоят репутации и денежный эквивалент большинства корифеев живописи…
Смешно: он всех, всех их мог воспроизвести – одних за несколько недель, других – за пару часов. Ну, ничего, дайте время, дайте время… Лет через пять все вы будете гоняться за немногими, найденными именно Захаром Кордовиным, работами Петрушевской, и за атрибуцией будете обращаться к нему, специалисту по этой, сильно возмужавшей в цене, художнице.
Он отправил еще два похожих письма знакомым экспертам аукционов «Bonhams» и «Tirosh»… безумно довольный собой и ситуацией, помотался в носках взад-вперед по ковровому покрытию пола, обдумывая ходы по осторожному внедрению в натуральную, мало кому известную биографию художницы некоторых событий века, некоторых, вполне могущих быть когда-то связей, писем и, главное, картин… Вот на этот проект, на его начальную стадию, не грех пожертвовать оставшиеся дедовы холсты.
Дед, ты слышишь меня? Ты меня чуешь? Я благословляю тебя тысячу раз со дна этого невежественного, безнравственного и алчного мира!
В Толедо он всегда останавливался в отеле «Альфонсо VI».
Загодя звонил администратору, просил оставить его номер, угловой, двести одиннадцатый. Этот постоялый двор был довольно затрапезен, хотя хозяева гальванизировали его несколькими псевдостаринными сундуками (потертая кожа, медные замки-заклепки), развешанными по стенам гербами герцогов и принцев и парочкой сверкающих в лобби рыцарских лат, с выпяченной грудью и заостренными, на манер волчьей морды, забралами на шлемах. Впрочем, дом на горке, напротив Алькасара, и вправду был очень стар, о чем свидетельствовали настоящие черные базальтовые камни подвальных стен. (Сейчас в подвале размещался роскошный обеденный зал в средневековом стиле, хотя на завтрак подавали все тот же вездесущий круассан, с маслом и повидлом.)
Словом, ему нравилось думать, что дед, возможно, если и не живал здесь, то явно бывал, а может, отсюда и постреливал.
В просторной комнате с черными балками по беленому потолку не было ничего специфически гостиничного: вместительная кровать уютной семейной спальни, три разностильных старых кресла с высокими кожаными спинками и неудобными жесткими подлокотниками; вечно прихрамывающий стол (под правую заднюю ногу инвалида он подсовывал ортопедический каблучок из свернутого осьмушкой блокнотного листка); наконец, задвинутый в нишу, где прежде была дверь, старый и кособокий платяной господин, небрежно запахнувший полы.
И такой вид с балкона, что в первые мгновения у него всегда занимался дух.
Это была едва ли не самая высокая точка обзора – не считая Алькасара, само собой.
Конференция начиналась завтра, в 10 утра. В расписании, разосланном участникам, его доклад шел вторым.
Минут сорок он раскладывал и развешивал одежду в шкафу, расставлял в длинной, бело-кафельной ванной щетки-расчески, бритву, лосьон… – всегда устраивался обстоятельно и с удовольствием, особенно в знакомых и обжитых, хотя бы мимолетно, местах. А эта комната была как раз таким местом.
Затем спустился вниз и дошел до меркадо – был вторник, торговый день. Там, как обычно, купил в знакомой лавке сизых и крупных, как сливы, с влажными трещинами, маслин; два сорта сыра: острого «вьехо», с резким, до слез, запахом – который ему нарезали толстыми темными ломтями, – и немного «манчего», самого расхожего ламанчского сорта. К этому добавил пяток помидор, полкраюхи любимого своего деревенского хлеба, «пан де пуэбло» и, наконец, сразу три бутылки «Фаустино VII», красного вина из Риохи…
Попутно обсудил с хозяином лавки свойства некоторых вин: «Я вижу, вы предпочитаете красные из Риохи или Риберы дель Дуэро, сеньор? Вы и в прошлый раз покупали “Фаустино”, не правда ли? У меня отличная память. Тогда хочу обратить ваше внимание на “Пуэнте де Аро”, оно тоже из Риохи, или, вот, “Сеньорио де Бреда” – из Риберы дель Дуэро. Зачем вам брать три “Фаустино” – попробуйте и то, и это… Слишком большая верность в винах так же вредна, как и в любви… Есть еще хорошие красные сухие – “Дориум”, “Абанда”… Нет? Ну, как знаете…»
Обычно в первые дни в Испании он цеплялся чуть не к каждому встречному с разговорами, с наслаждением прокатывая по нёбу звуки испанской речи, выуживая из случайных перепалок незнакомые региональные словечки, приставая за разъяснениями, ревниво прислушиваясь к самому себе: не убыло ли? нет ли протечки в драгоценном сосуде? крепнет ли, настаивается ли со временем терпкое вино? До сих пор помнил странную обиду, когда, впервые оказавшись в Испании, обнаружил, что говорит на языке образца тридцатых – ведь общался он в Питере и Москве с «испанскими детьми» теткиного круга и их потомством, а те давно покинули родину. Приехал – а тут даже приветствия другие: не «салют», а «ола»…
Наконец вернулся в отель – всегда торопился успеть к этому часу, для того и гнал всю дорогу: с первыми признаками усталости небосвода он усаживался на балконе с вином и закусью и держал свою вахту заката, прослеживая все стадии перевоплощения города и неба за эти часы.
Перед ним на близких планах высились, еще освещенные солнцем, пеналы колоколен монастыря Святой Исабель и церквей Сан-Лукас и Сан-Андрес. Справа рогато-кружевной, стрельчатой глыбой ожидал преображения кафедральный собор, пока еще глухой, серовато-песочный… На дальнем холме краснела темным янтарем мощная цитадель Семинарии. Внизу и далеко вокруг на разных уровнях коробились розово-серые, пестрые, с ревматическими суставами на стыках, длинные макаронины старых черепичных крыш… Ближайшие полчаса солнце еще будет держать город под прицелом, неохотно сдавая позиции. Еще будут мягко мерцать розоватые кирпичные стены домов с вмурованными в них булыжниками – ни дать ни взять панцири гигантских черепах в кирпичной кладке или спинки твердой ореховой скорлупы: классический образец стиля «мудехар», мавританское наследие Испании.
Но по мере убывания пурпура и граната в бутылке «Фаустино VII» все больше солнца будет перетекать в нижние слои облаков, словно бы наполняя длинную глубокую рану заката в темно-зеленом теле небосвода.
…Надо было выехать сегодня гораздо раньше, он и хотел – уж очень на сей раз допекла Марго со своим клокочущим ором. Уезжать надо было прямо на рассвете, тем более что она сама его и разбудила: он проснулся оттого, что кто-то грузно опустился на скрипучий стул у его постели.
– Спи, спи… – глухо проговорила Марго. Он от крыл глаза.
Ссутулившись, она глыбой сидела рядом – вздыбленная рыжая грива, необъятный халат поверх ночной сорочки.
– Ну, что? – спросил он.
– Не спится…
Он привык к таким ее появлениям и знал, что сейчас грянет сессия воспоминаний на тему «а хорошее было времечко!». Вздохнул и приподнялся: неудобно валяться при даме. Она мощной лапой ткнула его в грудь.
– Да лежи ты! Можешь и глаза закрыть, я только побуду маленько рядом, я ж по тебе скучаю, по дураку такому. Здесь же не с кем словечка молвить. Ничего, что я не во фраке?
Он представил ее во фраке. Это было действительно смешно.
– Помнишь, ты всегда помогал мне довести рисунок до ума, а я кричала на весь коридор: «За меня рисует первая пятерка Академии!»
– М-м-м… ты была основательной дурехой.
– А помнишь этого нашего черножопика, Фердинанда, ну, принца этого… когда он на спор сожрал сто тридцать пельменей в «Пельменной» на Васильевском и чуть не сдох…
Он вспомнил Фердинанда пляшущие огни белоснежных зубов. Хороший был парень, интересно, жив ли еще? Или из него уже сделали пельмени оппоненты из племени тутси?
Марго можно было не отвечать и действительно прикрыть глаза. Она сама себе задавала вопросы и сама на них отвечала. По крайней мере, еще минут сорок ее будет качать на волнах нашей юности.
– И мы втроем – я, ты и покойный Андрюша, светлая ему память, – поволокли этого обжору в Куйбышевскую больницу. А там, в приемном покое – настоящая вакханалия: какому-то алкоголику пытались вставить зонд, а он колотил медсестру кулаком…
– М-м-м… а наш Фердинанд, демонстрируя хорошее воспитание, взял и одним махом, словно стопарик, проглотил этот зонд, будь он проклят, с удовольствием.
Он, в сущности, проснулся и отметил про себя, что не прочь подпевать Марго вторым голосом в этом дуэте. Юность и вправду была у них забавной и озорной.
– И мы, все та же бездельная троица, – явились к нему на другой день.
– Да. А он, бедняга, таким слабым утробным голосом говорил: «Я прашю савьетское правителство сделать мне укол…»
– Еще бы не утробным, у него же был заворот кишок! Он простонал: «Марго, ко мне приходил замдекана факультета. Это большая честь?» Ты не помнишь, почему он лежал в отдельной палате? Потому что принц?
– Да нет, просто он был завшивлен, бедняга. Какая-то щедрая барышня в общежитии наградила, хорошо, что не триппером. Вспомни, медсестра при нас принесла ему вошь в пробирке: чтобы знал, как та выглядит…
Он все-таки сел на лежаке, прислонившись спиной к гобелену, исполненному вполне в духе местности: дальняя родственница герцогини Альба, вышитая шелком и какими-то блескучими нитями, демонстрировала кавалеру веер, похожий на тот, что он купил вчера Жуке.
– А помнишь, как прорвало трубу на винзаводе, – мечтательно и грустно продолжала Марго, – и прямо на асфальт хлестала струя винного спирта? И собралась толпа охреневших граждан: ни у кого не было тары – подставить под струю, такая трагедия! И ты мгновенно стащил с меня мои новенькие шведские сапоги, взвалил меня на закорки, а Андрюша растолкал народ, который безмолвствовал, и невозмутимо набрал в оба сапога живительной браги.
Он расхохотался, припомнив, как волок на спине уже тогда увесистую Марго, а следом победно шествовал Андрюша с ее модными сапогами, полными винного спирта.
– А я был здоровым парнишкой, верно? – не без удовольствия заметил он. – Постой, а как же ты домой в тот день добралась?
– Ты что, не помнишь, балда?! В твоих допотопных винницких говнодавах! Сапоги-то были безнадежно испорчены…
Наконец она поднялась и пошлепала к двери.
– Поднимись завтракать вовремя. Посмотришь заключительный акт драмы – изгнание прохвоста Адама из предположительного рая.
– Нет уж, обойдетесь без меня.
Он действительно задержался внизу, собираясь в дорогу. Изгнанник из рая тоже, видимо, отсиживался где-то в комнате.
Зато сверху – столовая находилась как раз над «школой» – ясно доносились утренние голоса матери и дочери.
– Катарина, каков Яша в постели? – командным и одновременно скорбным голосом вопрошала Марго.
– …ничего особенного, – после паузы неохотно отвечала дочь.
– Катарина! – гневно обрывала ее мать. – Когда мама спрашивает тебя, каков Яша в постели, надо отвечать ясно и четко: им-по-тент!
Потом Леня, науськанный и проинструктированный женой, торжественно вошел в комнату, где скрывался потрясенный и раздавленный Яша, и сказал:
– Мы, к сожалению, не можем оставить вас у себя. Вы уедете или вам снять гостиницу?
– Я уеду, – с излишней поспешностью выдавил Яша.
Последней сцены Захар, само собой, видеть не мог, она была живописно пересказана за завтраком, когда, переждав все изгнания, он поднялся в рай из своей преисподней.
Далее он стал свидетелем нескольких телефонных разговоров, типичных для Марго: она посылала Леню брать трубку и при этом дирижировала беседой: стояла рядом и бешено жестикулировала.
Затем Леня уехал на работу, а Кордовин вынес чемодан и свертки, уложил багажник.
Марго провожала его в прихожей: уже умытая, причесанная и даже втиснутая в какой-то вельветовый домашний костюм.
– Так как же называется местечко, – грозно спросила Марго, наставив на Захара палец, – где осадков за день выпадает больше, чем за год в Питере?
И тот привычно гаркнул:
– Чирапунджа!
Славная баланда нашей юности, школьные зарубки…
…Он приканчивал третий стакан вина.
Город под ним остывал; внизу, в его глубоких извилистых морщинах, тлеющими углями забытого костра зажигались фонари. В ущельях улиц они отбрасывали красноватый отсвет на неровные стены кирпичной кладки. С наступлением тьмы эти потаенные угольки занимались все ярче, словно кто-то невидимый раздувал их в очаге, не жалея сил. И по мере того как меркло, давясь глухою тьмой, небо, слева все пронзительней и победоносней – единственный! – разгорался от мощной подсветки кафедральный собор, чтобы затем вздыбиться, вознестись сверкающим, арочным, угловато-каменным драконом и всю ночь плыть над городом белым призраком под белой звездой.
Эта запекшаяся вечность, где когда-то оживленно и полнокровно существовали три великие религии, замерла, умолкла, обездвижела, осиротела… Дух одной из них витал неслышно над Худерией, по ночам оплакивая давно исчезнувшие тени… Дух второй, изначально рожденной любить, закостенел и облачился в помпезные ризы, выхолостив сам себя настолько, что неоткуда ждать даже капли семени той самой первородной любви. Дух же третьей извратился и остервенел, изрыгая угрозу и рассылая посланников смерти во все пределы мира…
Он смотрел на недобро оживающий глубинными огнями город, на тлеющий потаенным жаром костер, который – если раздуть его – мог заняться с исподу внезапным пламенем, каким занимался на полотнах Эль Греко – ни на кого и ни на что не похожего мастера. Вот что тот принес сюда с Востока, из своей Византии.
Собственно, это было темой завтрашнего доклада доктора Кордовина: «Влияние Востока на творчество Эль Греко» – давняя, уже разработанная в двух фундаментальных статьях теория противопоставления способов организации пластического пространства в западной и восточной цивилизациях. Сейчас, приговаривая третий стакан отличного вина, он только мысленно – по-над крышами города, застывшего на скале, в монолитном куске янтарного тусклого света, – мысленно оглядывал некоторые тезисы своего доклада…
Когда бы знать человеку основные тезисы судьбы: бывший мастеровой-иконописец, как и многие художники, Доминикос, критский лимитчик, приехал сюда из Италии – в поисках работы… Занесло его в Толедо, отсюда ринулся за заказом в Эскориал: стройка века там, понимаете ли, шла – грандиозная кормушка для всей художнической шатии-братии… Филипп II самолично занимался убранством этого замка, насчет достоинств которого, как известно, существует самый широкий спектр мнений: от «симфонии в камне» до «архитектурного кошмара». И получил Грек заказ, и не потрафил Филиппу. Пришлось вернуться назад в Толедо поджав хвост… Незадача, вы скажете, удар судьбы, профессиональное фиаско? Но тут он и состоялся, слившись с городом – как это пишут в путеводителях? – в нерасторжимом единстве. Короче: художнику и городу повезло.
И оглядывая весь долгий путь Доменикоса Теотокопулоса, можно задуматься – что бы с ним и с его стилем произошло, если б он остался декорировать Эскориал, постоянно находясь под наблюдением Филиппа и итальянцев?..
Между тем вокруг оцепенелой замкнутой скалы Толедо, закупоренной гигантской серебряной пробкой – сияющим Собором, – кипела жизнь: текли по опоясавшему город шоссе огни машин, добрасывая сюда, в потусторонний мир, в сердцевину черепичных перепончатых крыл и нереальных тлеющих фонарей, отчетливые гудки и шумы из другого мира.
Наверное, стоило спуститься в лобби и глянуть в электронную почту.
Нет, сказал он себе, никуда ты не пойдешь и никуда не глянешь. Ты возьмешь себя в руки и будешь ждать. Прошло всего два дня; Люк, даже если в его распоряжении все сыщики побережья, нуждается в некоторой свободе. Сам-то ты сколько лет рыскал повсюду, самонадеянно полагая, что разыщешь того без всякой посторонней помощи, и оно понятно: такая помощь чревата огромными осложнениями.
О’кей, – как говорит Люк, – дай времени сделать свою работу. Уймись. Замри! И вели Андрюше тихо ждать. И – боже, боже – неужели когда-то наступит день, в который Андрюша перестанет являться ему в своем последнем обличьи: на полу мастерской, в бурых заплатах на бедрах и безволосой груди нестеровского отрока?
И словно перекликаясь с темой телесных покровов, курчавая длиннопалая рука: перстень, павлинья слезка перламутровой запонки в белейшей манжете, крупные фасолины ухоженных ногтей, – протянулась через его плечо, дабы по-свойски листнуть назад матовый лист папиросной бумаги перед иллюстрацией Конашевича:
– Молодой человек, извините, ради бога… так вы Плавта покупаете?
Да: то было изумительное издание двухтомника Плавта, издательства «Академия». Место действия – знаменитая Лавка писателей на Невском, время – середина первого курса, кажется? Какой там Плавт, тут на пирожок в закусочной дай бог наскрести двугривенный…
– Разумеется, покупаю, – не оборачиваясь, проговорил он. – И не люблю, когда у меня из-под носа пытаются увести книгу.
В минуту он вдруг придумал – где добыть деньги: элементарно сдать в антикварную скупку на Литейном тот старый серебряный кубок, барахло, задвинутое в дальний уголок серванта. Все равно он никому не нужен: Жука никогда ничего из него не пьет.
И решив, обернулся – глянуть на обладателя такой руки…
Нет, память отвергает это лицо. Хотя стоило бы его припомнить, и даже хорошенько припомнить, перед тем как…
…А в букинистическом отделе работала Леночка, добрый ангел со слабыми тонкими волосами редкого пепельного оттенка; они распадались от пробора на два легких крыла, и когда она опускала ресницы, в ее облике проступало нечто от юных послушниц какого-нибудь монастыря. И тело ее должно было бы достаться послушнице монастыря из романа французского писателя восемнадцатого столетия: очень белое, постоянно зябнущее ее тело почти не отзывалось на его бешеную разработку… но странная особенность внезапно всхрапывать на самом гребне блаженной вершины – будто она некстати вздремнула на миг или вообще впала в забытье – давала ему несколько мгновений одинокой и полной свободы в достижении самого острого, пронзающего пика наслаждения… И все эти годы он благодарно помнил ее только за это, нигде и ни с кем более не испытанное, переживание…
…Кажется, он вздремнул? Сколько же времени прошло, как он сидит и цедит отличное винцо? Он поднялся на ноги и так остался стоять, не в силах отвести глаз от много раз и в разные времена года виденной картины.
Вся округа за рекой Тахо погрузилась наконец в непроглядную темень и тишь. У колоколов будто вырвали языки, фонари погасли, и только некоторые из них – отрешенно белые – придавали городу обморочно безмолвный и мертвенный вид.
Огромная луна царила над этой скалой, изливая призрачный блеск на дружные острия церквей и тесные островки кипарисов. Ее холодный жесткий свет выбеливал пластиковый стол и стулья на балконе; черные тени удлиняли силуэт каждого дома и каждой колокольни, и уже допитой бутылки на столе, и его руки, лежащей на кирпичной ограде балкона. Так кисть гениального Грека удлиняла фигуры на полотнах.
Теперь можно часами стоять здесь, вглядываясь в даль, и не увидеть на шоссе ни огонька машины. Лишь за рекой на склоне черного холма подслеповато мигали в дрожащем воздухе влажной ночи огоньки чьих-то «сигаральес»[11].