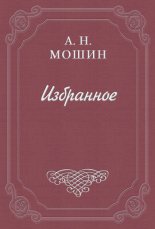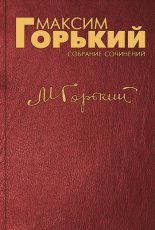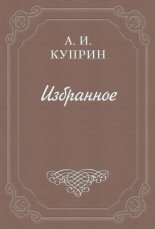Карамболь Нессер Хокан
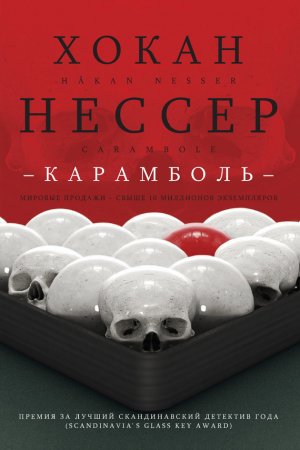
У Морено имелись кое-какие возражения против такого грубого упрощения, но она не успела их изложить, поскольку в дверь просунулась голова стажера Краузе.
— Извините, — сказал он. — Но мы только что получили важный факс.
— Надо же, — отозвался Рейнхарт. — Что там еще?
— Из аэропорта, — пояснил Краузе. — Похоже, Арон Келлер улетел в субботу днем на самолете.
— На самолете? — переспросил Рейнхарт. — Куда?
— В Нью-Йорк, — ответил Краузе. — Рейс отправился из Зексхафена в 14.05. «Британские авиалинии».
— Нью-Йорк? — повторил Рейнхарт. — Дьявол!
34
За остаток дня не произошло ничего существенного, разве что пошел снег.
По крайней мере, именно так воспринимал это Рейнхарт. Шел снег, и что-то ускользнуло у него из рук. Он час за часом сидел у себя в кабинете и каждый раз, когда смотрел в окно, видел лишь кружащиеся и опускающиеся на город снежинки. Несколько раз он подходил к окну и наблюдал за ними. Стоял, курил, засунув руки в карманы, и думал о комиссаре. О том, что пообещал тому в начале расследования, и как близок был к выполнению обещания.
Или нет? Может, он и не был близок?
И к чему он пришел теперь? Что же произошло между Клаусеном и Келлером? Он полагал, что знает ответ, но отказывался докапываться до него и посмотреть правде в глаза. Пока. Возможно, в основном принимая во внимание комиссара и данное ему обещание… да, если вдуматься, конечно, именно поэтому.
Сразу после обеда вернулась Морено, теперь уже в сопровождении Боллмерта и де Бриса. Они уселись и начали отчитываться о проверке круга знакомых Келлера. Как и можно было опасаться, такового не оказалось. Никто из людей из конфискованной адресной книжки — опросить удалось человек пятнадцать — не сообщил, что был особенно близок с ее владельцем. Некоторые даже не знали, кто такой Арон Келлер, и не представляли, каким образом угодили в книжку. В общей сложности только двое признались, что поддерживали с ним хоть какие-то отношения: обе его сестры из Линсхейзена. Они совершенно откровенно объяснили — каждая по отдельности, — что их брат безнадежный зануда и отшельник, но что они, тем не менее, по очереди приглашали его в гости. Иногда.
Приблизительно раз в год. На Рождество.
Он иногда приезжал, иногда нет.
По поводу образа жизни Келлера они почти ничего сообщить не могли. Он сделался странным с тех пор, как в десятилетнем возрасте упал с трактора и ударился головой. А возможно, и раньше. Был когда-то женат на столь же упрямой женщине, как и он сам, их брак распался через полгода. Ее звали Лиз Вронгель и, вероятно, сейчас зовут так же.
Остальное — молчание. И футбол.
— Хм… — произнес Рейнхарт. — Ну, во всяком случае, в этом году им незачем посылать ему приглашение на Рождество. Он, судя по всему, не приедет.
— Откуда тебе это известно? — поинтересовался де Брис, не знавший о том, что сообщили из Зексхафена.
— Этот мерзавец отпразднует Рождество в Нью-Йорке, — вздохнул Рейнхарт. — Вернемся к этому позже. Как обстоит дело с последним Келлером из книжки? Мне помнится, их там трое.
— Его отец, — сказал де Брис, скорчив гримасу. — Семидесятипятилетний алкаш из Хаалдама. Живет в своего рода интернате, по крайней мере временами. Ни с кем из своих детей не общался лет двадцать.
— Чудная семейка, — заметила Морено.
— Чистая идиллия, — кивнул де Брис. — Старик явно кошмарное наказание. Сынок, вероятно, весь в него?
— Похоже на то, — сказал Рейнхарт. — Есть у нас что-нибудь еще?
— Да, есть, — вставил Боллмерт. — Мы полагаем, что установили, откуда его знал Эрих Ван Вейтерен. Арон Келлер несколько лет работал социальным куратором.
Рейнхарт издал звук, напоминавший рычание.
— Ротов был поклясться, что они допускают до кураторства подобных типов, это же, черт подери, скандал! — вскричал он. — Кто, по их мнению, может вернуться к нормальной жизни с помощью такого отъявленного кретина, как Келлер… который способен поддерживать осмысленные отношения только с собственным пылесосом?
— Он уже три года не имел подопечных, если это может служить утешением, — сказал де Брис. — У нас пока нет уверенности в том, что он курировал Эриха Ван Вейтерена, но это достаточно просто проверить.
— Почему же вы не проверили? — спросил Рейнхарт.
— Потому что ты велел нам к часу быть здесь, — ответил де Брис.
— Хм… сорри, — сказал Рейнхарт.
Он встал и немного посмотрел на снегопад за окном.
— Интересно… — произнес он — да, конечно, так и есть.
— Что именно? — поинтересовалась Морено.
— Он наверняка каким-то образом держал Эриха на крючке. В этой сфере такое практически неизбежно… ну, и потом, вероятно, воспользовался этим, чтобы заставить Эриха поехать забирать деньги. Тьфу, черт. Черт побери!
— Мы ведь говорили о том, что шантажисты редко бывают приятными личностями, — напомнила Морено. — Келлер, похоже, не является исключением.
Рейнхарт снова сел на стул.
— Я позвоню и проверю насчет кураторства, — сказал он. — Если все сходится, а, скорее всего, так оно и есть, то можно считать, что нам почти все ясно. Вы можете остаток дня отдыхать.
— Отлично, — обрадовался де Брис. — Я как раз собирался это предложить. Не отдыхал с Пасхи.
Он вышел из кабинета вместе с Боллмертом. Рейнхарт сидел и молча смотрел на по-прежнему лежавшие у него на столе кассеты, которые уже никто не станет прослушивать. Ни он сам, ни кто-либо другой.
— Столько работы, — пробормотал он, глядя на Морено. — Такая чертова прорва работы и столько выброшенного времени. Ответь мне на один-единственный вопрос, и я замолвлю словечко перед Хиллером, чтобы тебе дали зимний отпуск.
— Валяй!
— Что сделал Келлер с Клаусеном в прошлый четверг? Что, черт возьми, произошло?
— Мне нужно время на обдумывание, — сказала Морено.
— Даю тебе всю вторую половину дня. Отправляйся к себе в кабинет, садись и смотри на снег. Это способствует мыслительной деятельности.
Ван Вейтерен достал только что скрученную сигарету и закурил.
— Значит, тебе известно, кто это сделал? — спросил он.
Рейнхарт кивнул:
— Да, думаю, мы его нашли. История, конечно, невеселая, но ведь обычно так и бывает. Все началось, по сути, с несчастного случая. Этот Питер Клаусен ехал на машине, сбил молодого парня, и тот в результате умер. Вполне вероятно, что Клаусен остановился и удостоверился в том, что именно произошло. Тем вечером он направлялся домой в Бооркхейм, как, предположительно, и некий Арон Келлер… очевидно, на мотороллере. Погода была чудовищная — проливной дождь с сильным ветром, — но Келлер узнал Клаусена. Они соседи. Келлер решает заработать на том, что увидел… мы имеем дело с отъявленным негодяем, думаю, могу смело вас в этом заверить.
— Шантажисты редко бывают симпатичными, — заметил Ван Вейтерен.
— Верно, — согласился Рейнхарт. — Как бы то ни было, он посылает вашего сына в тот вторник в Диккен, чтобы забрать деньги. Не знаю, знаком ли вам Келлер, но он пару лет занимался Эрихом в качестве социального куратора… далеко не факт, что Эриху обещали заплатить. Возможно, Келлер каким-то образом держал его на крючке. Клаусен не знает, кто именно его шантажирует, у него на совести уже имеется одна жизнь, и он не хочет попасть от кого-то в зависимость. Он убивает Эриха в полной уверенности, что убивает шантажиста.
Он умолк. Прошло пять секунд, показавшиеся Рейнхарту пятью годами. Потом Ван Вейтерен кивком велел ему продолжать.
— Далее следует убийство Веры Миллер. О нем вы тоже хотите услышать?
— Разумеется.
— Почему Клаусен ее тоже убил, я не знаю, но это должно быть как-то связано с Келлером и Эрихом. Клаусен и Вера Миллер состояли в любовной связи, начавшейся относительно недавно. Ну, мы постепенно стали понимать что к чему. Благодаря вам, у нас появились мотив — шантаж — и Арон Келлер; самое отвратительное, что мы вступили в действие слишком поздно. В прошлый четверг или в пятницу что-то явно произошло… вероятно, Клаусену подошло время платить по-крупному. Он получил в банке заем, снял двести двадцать тысяч наличными, после чего бесследно исчез.
— Исчез? — переспросил Ван Вейтерен.
— Мы прекрасно понимаем, что это может означать, — сухо констатировал Рейнхарт. — Предположить, что произошло, нетрудно. Арон Келлер в субботу улетел в Нью-Йорк. В гостинице, где он снял номер, его нет, мы обменялись с ними несколькими факсами. Где находится Клаусен, нам неизвестно. Никаких следов, но он, судя по всему, не сбежал. Паспорт и даже бумажник остались лежать у него дома. У меня есть, собственно, только одна теория… что Келлер его прикончил. Убил его и где-нибудь закопал. Сожалею, но боюсь, что… боюсь, что вам не удастся встретиться с убийцей сына с глазу на глаз.
Ван Вейтерен отпил глоток пива и посмотрел в окно. Прошло полминуты.
— Нам остается надеяться на то, что мы постепенно отыщем его тело, — сказал Рейнхарт, сам толком не понимая, зачем он это говорит. Будто в его словах содержалось какое-то утешение. Получить возможность увидеть тело человека, убившего твоего сына? Абсурд. Чудовищно.
Ван Вейтерен не ответил. Рейнхарт рассматривал собственные руки, мучительно пытаясь подобрать слова.
— У меня есть его фотография, — под конец проговорил он. — Если хотите, можете на нее взглянуть. Кстати, и на Келлера тоже.
Он достал из портфеля две фотокопии и протянул комиссару. Тот немного посмотрел на них, наморщив лоб, а затем вернул.
— Зачем же Келлеру понадобилось его убивать? — спросил он.
Рейнхарт пожал плечами:
— Не знаю. Он ведь, наверное, получил деньги, иначе едва ли смог бы удрать в Нью-Йорк… так мне, по крайней мере, думается. Тут, конечно, можно строить разные догадки. Скажем, Клаусен каким-то образом узнал, кто он такой. Келлер довольно странный тип… и он знал, что Клаусен не боится убивать. Просто-напросто решил не рисковать. Если Клаусен действительно узнал, кто его шантажирует, то Келлер наверняка понимал, что его жизнь в опасности.
Ван Вейтерен закрыл глаза и слабо кивнул. Еще полминуты прошло в молчании. Рейнхарт оставил судорожные поиски светлых моментов и попробовал представить себе, каково сейчас комиссару. Конечно, он, в той или иной степени, думал об этом все время, и оттого, что сейчас сконцентрировался на этих мыслях, легче ему не стало. Уже только одно убийство сына… а затем еще убийцу устраняет другой преступник, в каком-то смысле столь же повинный в смерти Эриха. Или нельзя рассматривать это таким образом? Играет ли это какую-нибудь роль? Имеют ли подобные вещи вообще какое-нибудь значение, когда речь идет о твоем сыне?
К ответам он так и не пришел. Даже не приблизился.
В любом случае, как ни смотри, Эрих Ван Вейтерен оказался лишь пешкой в игре, не имевшей к нему никакого отношения. «Какая бессмысленная смерть, — думал Рейнхарт. — Совершенно ненужная жертва… единственный, кто, вероятно, выиграл от его смерти, это Келлер, который, очевидно, повысил цену за свои грязные сведения, когда у Клаусена на совести оказалась еще одна жизнь».
«Чересчур хреново, — подумал он в пятидесятый раз за этот мрачный день. — Режиссер из преисподней вновь нанес удар».
— Что вы намерены делать? — спросил Ван Вейтерен.
— Мы объявили там Келлера в розыск, — ответил Рейнхарт. — Естественно. Возможно, кому-то придется туда поехать, рано или поздно… хотя страна большая. А у него ведь достаточно денег, чтобы некоторое время протянуть.
Ван Вейтерен выпрямил спину и снова посмотрел в окно.
— Здорово метет, — сказал он. — В любом случае, спасибо, вы сделали все что могли. Давай будем поддерживать контакт, мне все-таки хочется знать, как пойдут дела.
— Разумеется, — ответил Рейнхарт.
Оставляя комиссара за столом, он впервые за двадцать лет чувствовал, что ему хочется плакать.
35
Вечер среды и половину вторника он провел на старой вилле в стиле модерн в квартале Дейкстра. Кранце купил целую частную библиотеку, продававшуюся после смерти хозяина; ему предстояло рассмотреть, оценить и упаковать в ящики приблизительно четыре с половиной тысячи томов. Как всегда, следовало учитывать три категории: книги сомнительной ценности, которые трудно продать (для сбыта на вес); книги, которые могут стать украшением букинистического магазина и в будущем, возможно, найдут своего покупателя (не более двух-трех сотен, если принять во внимание вместимость магазина); а также книги, которые ему хотелось бы видеть на собственной книжной полке (максимум пять — со временем он научился обращать моральные вопросы в отчетливые целые числа).
Было довольно приятно расхаживать по этому буржуазному жилищу (если он не ошибся при изучении генеалогии, семья в нескольких поколениях состояла из юристов и членов суда второй инстанции) и перелистывать старые книги. Их никто не торопил, а наследственная подагра Кранце позволяла ему теперь заниматься только работой, которую можно было выполнять сидя. Или лежа. Однако тот все же сперва убедился в том, что в их приобретении отсутствуют научные журналы семнадцатого и восемнадцатого веков — эта узкая область стала на склоне лет его истинным (и, как с сожалением констатировал Ван Вейтерен, единственным) жизненным интересом.
Закончив запланированную на среду работу, Ван Вейтерен поужинал в горьком одиночестве, посмотрел по четвертому каналу старый фильм Витторио де Сика и несколько часов почитал. Впервые после смерти Эриха он почувствовал, что способен концентрироваться на подобных вещах; он не знал, связано ли это с последним разговором с Рейнхартом. Возможно, да, а возможно, и нет. Но в таком случае — почему? Перед тем как заснуть, он немного полежал, подытоживая мрачное развитие событий, приведшее к убийству его сына и молодой медсестры.
Он пытался представить себе убийцу. Думал о том, что тот на самом деле не был движущей силой. Его, похоже, втянули в ситуацию или, скорее, в многоступенчатую, дьявольскую дилемму, которую он пытался разрешить всеми доступными средствами. Убивал, убивал и убивал с какой-то отчаянной, извращенной логикой.
И все-таки под конец сам стал жертвой.
Да, Рейнхарт прав, история не из красивых.
Ночью ему снились две вещи.
Сперва посещение Эриха, когда тот сидел в тюрьме. Этот сон богатством событий не отличался: он просто сидел на стуле в комнате Эриха, а тот лежал на кровати. Вошел охранник с подносом. Они пили кофе и ели какой-то мягкий бисквит, не произнося ни слова; это гораздо больше походило на воспоминание, чем на сон. Сохранившаяся в памяти картинка, которая едва ли сообщала нечто большее, чем изображала. Отец посещает сына в тюрьме. Некий архетип.
Еще ему снился Е. Дело Е., единственное не раскрытое им за все годы работы. В этом сне тоже, в общем-то, ничего не происходило. Е. в черном костюме сидел в зале суда за перегородкой и всматривался в него из глубины темных глаз. На его губах играла сардоническая улыбка. Прокурор расхаживал взад и вперед, задавая вопросы, но Е. не отвечал, а только смотрел на сидевшего среди слушателей Ван Вейтерена с типичной для него смесью насмешки и презрения.
К этому короткому отрывку сна он ощущал гораздо большую неприязнь, но, проснувшись, никак не мог определить, в какой последовательности они ему снились. Какой фрагмент шел первым. За завтраком он размышлял над тем, не могли ли они быть как-то смонтированы друг с другом на манер фильма — Эрих в тюрьме и Е. в зале суда — и какая в таком случае мысль могла крыться за этим параллельным сном.
Ни к какому ответу он не пришел. Возможно, потому что не стремился прийти. Возможно, потому, что ответа не существовало.
Когда в середине дня в четверг с упаковкой и маркировкой ящиков было покончено, он перенес в машину собственный пакет с книгами, заехал на два часа в бассейн и около шести вернулся к себе домой в Клахенбюрх. На подаренном ему Ульрикой автоответчике оказалось два сообщения. Первое было от нее самой; она говорила, что собирается приехать к нему в пятницу с бутылкой вина и мясным паштетом с грибами, и интересовалась, не может ли он раздобыть корнишонов и прочий гарнир, по собственному усмотрению.
Второе сообщение было от Малера, который заявлял, что хотел бы сыграть партию в шахматы в клубе часов в девять.
В этот момент комиссар был склонен воздать должное изобретателю автоответчика, кем бы тот ни был.
На улице шел дождь, но воздух казался приятным, и Ван Вейтерен отправился, как и задумал, через кладбище. Первую неделю после похорон Эриха он ходил сюда ежедневно — желательно, по вечерам, когда темнота окутывала могилы своим теплом. А сейчас не был уже три дня. По мере приближения к нужному месту он замедлил шаг, словно от своего рода почтения; это получалось само собой, без всякой задней мысли — просто автоматическое, инстинктивное телесное понимание. В это время суток открытое поле было безлюдным, надгробия и памятники выступали из темноты еще более темными силуэтами. Слышались лишь его собственные шаги по гравию, воркование голубей и набиравшие скорость где-то далеко, в другом мире, машины. Он подошел к могиле. Остановился и прислушался, как обычно, засунув руки в карманы пальто. Если в такое время суток существуют какие-либо поддающиеся толкованию знаки или весточки, то уловить их можно только через слух — это он знал.
«Мертвые старше живых, — думал он. — Невзирая на то в каком возрасте они переступили грань, полученный опыт делает их старше всего живого».
Даже ребенка. Даже сына.
В темноте он не мог разобрать слов на маленькой табличке, установленной в ожидании заказанного Ренатой камня. Внезапно его охватило желание прочесть написанное, ему захотелось увидеть имя и даты, и он решил в следующий раз все-таки прийти сюда при дневном свете.
Пока он стоял, дождь прекратился, и через десять минут он двинулся дальше.
Попрощался с сыном до следующего раза со словами «Спи спокойно, Эрих» на губах.
«Если представится возможность, я приду к тебе, рано или поздно…»
В помещениях клуба в переулке Стюккаргренд было полно народу. Однако Малер пришел заблаговременно и занял одну из обычных ниш с гравюрами Дюрера и чугунным канделябром. Когда прибыл Ван Вейтерен, он сидел, дергая себя за бороду, и что-то писал в записной книжке.
— Новые стихи, — объяснил он, закрывая книжку. — Или скорее старые мысли новыми словами. Мой язык перестал быть трансцендентальным, правда, я уже больше не понимаю, что значит трансцендентальный… как ты себя чувствуешь?
— Соответственно заслугам, — ответил Ван Вейтерен, протискиваясь в нишу. — Иногда мне кажется, что я переживу и это тоже.
Малер кивнул и достал из нагрудного кармана жилета сигару.
— Таков наш удел, — сказал он. — Тем, кого боги ненавидят, они предоставляют мучиться дольше всего. Как насчет партии?
Ван Вейтерен кивнул, и Малер начал расставлять фигуры.
На первую партию потребовалось пятьдесят четыре хода, шестьдесят пять минут и три бокала пива. Ван Вейтерен согласился на ничью, хоть и имел лишнюю пешку, но она была ладейной.
— Твой сын… — потянув себя за бороду, начал Малер. — Они нашли мерзавца, который его убил?
Прежде чем ответить, Ван Вейтерен допил пиво.
— Вероятно, хотя Немезида, похоже, уже сделала свое дело.
— Что ты имеешь в виду?
— Как мне сообщили, его уже где-то закопали. Все дело в шантаже. Эрих был просто пешкой… во всяком случае, на этот раз он чист. Странно, но меня это немного утешает. Правда, я с удовольствием взглянул бы этому врачу в глаза.
— Врачу? — переспросил Малер.
— Да. Их работа — сохранять жизни, а он пошел иным путем. Губил их. Я расскажу тебе всю историю, но только в другой раз, если не возражаешь. Мне надо сперва немножко от этого отойти.
Малер ненадолго погрузился в размышления, потом извинился и пошел в туалет. За время его отсутствия Ван Вейтерен скрутил пять сигарет, что, правда, соответствовало его дневной норме, но за последний месяц она несколько увеличилась.
Какая, черт возьми, разница? Пять сигарет или десять?
Малер вернулся с двумя новыми бокалами пива.
— У меня есть предложение, — сказал он. — Давай сыграем в фишеровские шахматы?
— Фишеровские? — переспросил Ван Вейтерен. — Что это такое?
— Ну, знаешь, последний вклад великого гения в шахматную игру. Задний ряд расставляется наобум… фигура против фигуры, разумеется. Чтобы избежать этих проклятых анализов до двадцатого хода. Единственное условие — король между ладьями. И слоны обязательно разнопольные.
— Знакомо, — отозвался Ван Вейтерен. — Я об этом читал. Даже изучал одну партию, впечатление полного идиотизма. Никак не думал, что доведется попробовать самому, только… неужели ты действительно анализируешь до двадцатого хода?
— Всегда, — ответил Малер. — Ну?
— Если ты настаиваешь…
— Настаиваю, — подтвердил Малер. — Твое здоровье!
Он закрыл глаза и принялся копаться в коробке.
— Линия?
— С, — сказал Ван Вейтерен.
Малер установил белую ладью на С1.
— Господи, — произнес Ван Вейтерен, наблюдая за приятелем.
Они продолжили до завершения ряда. Только один из слонов попал на свою исконную позицию; короли угодили на линию Е, ферзи — на G.
— Здорово, когда конь стоит в углу, — сказал Малер. — Поехали!
Он отбросил обычную дебютную концентрацию и сыграл Е2-ЕЗ.
Ван Вейтерен подпер голову руками и стал рассматривать позицию. Просидев две минуты без движения, он ударил кулаком по столу и встал:
— Дьявол! Еотов поклясться… извини, я на минутку.
Он выбрался из ниши.
— Что с тобой происходит? — спросил Малер, но ответа не получил. Комиссар уже пробрался к телефону у входа.
Разговор с Рейнхартом занял почти двадцать минут, и когда Ван Вейтерен вернулся обратно, Малер снова сидел с записной книжкой в руках.
— Сонеты, — объяснил он, глядя на погасшую сигару. — Слова и форма! Когда нам четырнадцать, а может, даже меньше, мы видим мир совершенно отчетливо. Потом нам требуется еще пятьдесят лет, чтобы создать язык для фиксации тех впечатлений. Тем временем мы, разумеется, успеваем увянуть… что, черт возьми, с тобой случилось?
— Извини, пожалуйста, — повторил Ван Вейтерен. — Иногда осеняет даже на склоне лет. Вероятно, это спровоцировала наша дурацкая позиция.
Он указал на шахматную доску. Малер прищурился и посмотрел на него поверх старых очков с половинками стекол.
— Ты говоришь загадками, — сказал он.
Время просвещения, однако, еще не пришло. Ван Вейтерен отпил глоток пива, выдвинул коня из угла и закурил сигарету.
— Ходить поэту, — констатировал он.
VI
Комиссар Рейнхарт прибыл в аэропорт Джона Кеннеди в 14.30 в пятницу, 18 декабря. Его встречал старший лейтенант Блумгорд, с которым он за последние сутки неоднократно беседовал по телефону и обменивался факсами.
Блумгорд оказался коренастым, коротко стриженным, энергичным мужчиной лет тридцати пяти, который одним рукопожатием, похоже, пытался передать свойственные американской культуре щедрость, открытость и теплоту. И весьма в этом преуспел. Рейнхарт уже раньше с благодарностью отказался от приглашения жить во время визита в Нью-Йорк у него дома в районе Куинз, но получил возможность несколько раз повторить свой отказ в машине, на пути к Манхэттену и проезжая по его забитым транспортом улицам.
Он поселился в гостинице «Трамп Тауэр» на площади Колумбус-Серкл. Блумгорд хлопнул его по спине и дал ему три часа на то, чтобы принять душ и смыть с себя дорожную пыль. Затем ему следовало стоять перед входом в гостиницу, готовым к поездке в Куинз для настоящего семейного ужина. А как же иначе?
Оставшись один, Рейнхарт выглянул в окно. Двадцать четвертый этаж с видом на северную и восточную части Манхэттена. Прежде всего, на Центральный парк, расстилавшийся внизу наискосок, словно покрытый инеем миниатюрный пейзаж. Начинали спускаться сумерки, но силуэт города по-прежнему оставался серым и неотчетливым. В ожидании ночи небоскребы, казалось, отдыхали в анонимности, которую едва ли можно было приписать неосведомленности Рейнхарта относительно их наименований и предназначения. Во всяком случае, не полностью, убеждал он себя. «Метрополитен» и Музей Гуггенхейма на 5-й авеню, по другую сторону парка, он опознать сумел, дальше дело пошло хуже. Как бы то ни было, выглядело все это не слишком гостеприимно. Скорее враждебно. Блумгорд сказал, что сейчас чуть ниже нуля, а ночью станет холоднее. Снег в этом году еще не выпадал, но надежда оставалась.
Прошлый и, кстати, единственный раз Рейнхарт был в Нью-Йорке пятнадцать лет назад. Тогда он проводил здесь отпуск, в августе. Стояла жара, как в духовке; он помнил, что пил по четыре литра воды в день и у него болели ноги. Помнил также, что больше всего ему понравились набережная и руины возле Кони-Айленда. И еще, конечно, «Барнс энд Нобл», особенно здание на 8-й улице. Лучший в мире книжный магазин, открытый практически круглосуточно и предоставлявший возможность сколько угодно бесплатно читать книги в кафетерии.
Тогда он проводил время в свое удовольствие. Рейнхарт вздохнул и отошел от окна. Теперь же речь шла о работе. Он начал с душа, потом часок поспал и снова принял душ.
Лейтенант Блумгорд был женат на женщине по имени Вероник, которая изо всех сил старалась походить на Жаклин Кеннеди. И не без успеха.
У них была дочка, двумя неделями старше дочки Рейнхарта, и они жили в приземистом доме, построенном в стиле ранчо и расположенном в северо-западной части Куинз. Дом выглядел именно так, как Рейнхарт представлял себе жилище американского среднего класса. За ужином хозяин рассказал (с отдельными дополнениями хозяйки) кое-что из истории семьи. Его отец, который, между прочим, воевал в Африке и Корее и в результате получил с полдюжины медалей, а также протез вместо ноги, только что перенес троекратное коронарное шунтирование и, похоже, идет на поправку. Вероник, только что справившая тридцатый день рождения, была родом из штата Монтана, где они обычно проводят отпуска и наслаждаются чистым горным воздухом. Младшую сестру Блумгорда чуть более двух лет назад изнасиловали, но она наконец нашла терапевта, который, похоже, способен поставить ее на ноги, а еще они перешли на кофе без кофеина, но подумывают вернуться к обычному. И так далее. Рейнхарт внес свою лепту, рассказав о десятой доле собственных страданий, и к моменту подачи мороженого он уже знал о лейтенанте Блумгорде и его семье больше, чем о ком-либо из своих коллег в полиции Маардама.
Когда Вероник, добросовестно выполнив свой долг, удалилась вместе с Куинси (Рейнхарт всегда считал это имя мужским), господа сотрудники уголовной полиции уселись перед камином и принялись обсуждать серьезные вещи за рюмкой коньяку.
В половине одиннадцатого Рейнхарт начал ощущать разницу во времени. Блумгорд засмеялся и снова дружески хлопнул его по спине. Усадил его в такси и отправил обратно на Манхэттен.
За исключением того, что курить приходилось на террасе, Рейнхарт счел, что вечер прошел вполне сносно.
Он, вероятно, уснул бы прямо в такси, если бы шофером не оказался огромный поющий пуэрториканец (Рейнхарт всегда думал, что пуэрториканцы маленькие), который, невзирая на середину ночи, упорно использовал солнечные очки. Рейнхарту припомнилась реплика из фильма — «Are you blind or just stupid?»,[25] — но, хоть она и вертелась у него на языке всю дорогу, произнести ее он так и не решился.
Поднявшись в номер, он позвонил Уиннифред и узнал, что в Европе сейчас без четверти шесть утра. Потом разделся, залез в постель и уснул.
До сочельника оставалось пять дней.
В субботу утром все тот же лейтенант Блумгорд лично отвез его в Бруклин. Они свернули с 5-й авеню после Сансет-парка и припарковались на 44-й улице, чуть-чуть не доезжая до интересовавшего их дома, который находился на углу 6-й авеню. Убогий дом из грязно-коричневого кирпича с тремя низкими этажами и темными окнами, ничуть не отличающийся от остальных построек района. Небольшая лестница перед входом, на тротуаре — несколько несвежих мешков с мусором.
Латиноамериканцы и ортодоксальные евреи, пояснил Блумгорд. И поляки. Самые обычные типажи здешних мест, впрочем, евреи живут чуть подальше, вокруг 10-й и 11-й улиц.
Они немного посидели в машине, и Рейнхарт попытался вновь подчеркнуть, насколько деликатным должен быть их первый визит. Чертовски деликатным. Блумгорд уловил намек.
— Я останусь в машине, — сказал он. — Лучше иди один, а то мне очень трудно держать язык за зубами.
Рейнхарт кивнул и вылез из машины. Бросил взгляд на парк: открытое наклонное поросшее травой поле с низкими серо-белыми спортивными сооружениями в центре, похожими на бассейн. По словам Блумгорда, туристам здесь делать нечего. Приличным людям тоже. По крайней мере, ночью. С наступлением темноты Сансет-парк, согласно народной молве, менял имя с «Закатного парка»[26] на «Забойный» — Гансхот-парк.
Сейчас парк выглядел очень мирно. По асфальтированной дорожке с усилием поднимался вверх любитель бега трусцой, на скамейке сидели два явно безработных господина в вязаных шапочках и передавали друг другу бутылку в бумажном пакете. Две полные женщины катили детскую коляску и разговаривали, активно жестикулируя. Одно из голых деревьев вдоль улицы было увешано обувью — мотив, который помнился Рейнхарту по полученной когда-то открытке. Неясно, от кого.
Воздух был холодным. С реки Гудзон задувал ледяной ветер, чувствовалось, что снег не за горами. Отсюда открывался великолепный вид. К северу на фоне стального неба виднелись силуэты Манхэттена, чуть западнее — весь порт со статуей Свободы и район Статен-Айленд. «Сюда-то они и прибыли, — подумал Рейнхарт. — Отсюда и начался Новый Свет».
Он прошел мимо трех домов и четырех машин — больших, слегка проржавевших колымаг — и оказался перед номером 602. Цифры означали расположение: второй дом между 6-й и 7-й авеню, это он разузнал заранее. Он поднялся на восемь ступенек и позвонил. Залаяла собака.
«Деликатно, — подумал он снова. — Чертовски деликатно».
Дверь открыл мальчик младшего подросткового возраста, в очках и с торчащими наружу зубами. В руке он держал бутерброд с шоколадным кремом.
— Мне нужна миссис Понтшак, — сказал Рейнхарт.
Мальчик покричал внутрь дома, и через некоторое время по лестнице, пыхтя, спустилась полная женщина и поздоровалась.
— Это я, — сказала она. — Я Элизабет Понтшак. В чем состоит ваше дело?
Рейнхарт объяснил, кто он, и его пригласили на кухню. Гостиная была оккупирована мальчиком и телевизором. Они уселись за узкий пятнистый пластиковый стол, и Рейнхарт принялся излагать свое дело таким образом, как задумал. По-английски, сам не зная почему.
Ему потребовалось несколько минут, и все это время женщина поглаживала желтовато-серого кота, который скакал у нее на коленях. Собака, очевидно, обитала у соседей, и Рейнхарт периодически слышал, как она на что-то воет или гавкает.
— Я вас не понимаю, — сказала женщина, когда он закончил. — С чего ему вдруг меня разыскивать? Мы не общались пятнадцать лет. Сожалею, но ничем не могу вам помочь.
Ее английский был хуже его собственного, отметил Рейнхарт. С мистером Понтшаком, если таковой по-прежнему имелся поблизости, она, вероятно, разговаривала по-польски. Сейчас его, во всяком случае, дома не наблюдалось.
«Ага, — подумал Рейнхарт. — Ну, вот и все».
Он, со своей стороны, говорил неправду. А она?
Определить этого он не мог. Он внимательно следил за ее реакцией, но не заметил никаких признаков того, что она что-то скрывает или подозревает.
Если бы она не была такой флегматичной, с раздражением рассуждал он. Толстым и вялым людям не составляет труда что-либо скрыть. Он уже подметил это раньше. Достаточно просто сидеть, уставившись в пустоту, что они обычно и проделывают.
Оказавшись на улице, он понял, что такое обобщение несправедливо. Несправедливо и недопустимо. Но, черт возьми, он ведь привез с собой через Атлантику одну-единственную козырную карту. Жалкую козырную карту, он разыграл ее и ничего не приобрел.
Рейнхарт побрел обратно к ожидавшему в машине Блумгорду.
— Ну, как дела? — спросил тот.
— Никак, — ответил Рейнхарт. — К сожалению.
Он опустился на пассажирское место.
— Не могли бы мы куда-нибудь поехать выпить кофе? С кофеином.
— Конечно, — откликнулся Блумгорд, заводя машину. — План Б?
— План Б, — вздохнул Рейнхарт. — Четыре дня, как договаривались, потом просто плюем. Я возьму на себя столько времени, сколько смогу. Ты точно можешь выделить мне людей?
— Разумеется, — с энтузиазмом подтвердил Блумгорд. — Тебе незачем сидеть здесь самому и вести наблюдение. У нас в этой деревне имеются кое-какие ресурсы, сейчас в моде иные тенденции, чем пятнадцать лет назад. Никакой толерантности — признаюсь, поначалу я был настроен немного скептически, однако это работает.
— Я слышал об этом, — сказал Рейнхарт. — Но все же не хочу ощущать себя здесь туристом. Кроме того, вести наблюдение надо круглосуточно, иначе нет никакого смысла.
Блумгорд кивнул:
— Ты получишь в свое распоряжение машину. Давай заедем, составим график, и ты выберешь удобное тебе время. Остальное я беру на себя. Оке, compadre?[27]
— No problem,[28] — ответил Рейнхарт.
В результате он отложил свое первое дежурство до воскресенья. Блумгорд позаботился о том, чтобы начиная с четырех часов субботы на углу 44-й улицы и 6-й авеню в Бруклине стояла машина с двумя полицейскими в штатском. Рейнхарт же посвятил вторую половину дня и вечер прогулке по Нижнему Манхэттену. Сохо. Маленькая Италия. Гринвич-Виллидж и Чайна-таун. Под конец он оказался в «Барнс энд Нобл». Это представлялось чем-то вроде обязательного пункта программы. Сидел и читал. Пил кофе, ел шоколадные пирожные и слушал читавших стихи поэтов. Купил пять книг. В половине десятого он вышел оттуда и сумел сесть на нужный поезд метро до Колумбус-Серкл. Когда он выбрался из-под земли, уже пошел снег.
«Интересно, что я тут делаю? — подумал он. — В этом городе обитает более семи миллионов человек. Как можно думать, что я попаду в точку? Пожалуй, куда больше шансов, что я заблужусь и исчезну, чем что-нибудь обнаружу».
Поднимаясь на лифте, он вспомнил, что в удаче предприятия его убедил комиссар, но это показалось довольно слабым утешением. По крайней мере, сейчас, в одинокий субботний вечер.
Когда он позвонил и вторую ночь подряд разбудил Уиннифред, та сообщила, что в Маардаме тоже идет снег.
37
Морено встретилась с Марианной Кодеска в обеденный перерыв в кафе «Роут Моор». По словам инспектора Роота, «Роут Моор» было типичным заведением для женщин в возрасте от тридцати четырех с половиной до сорока шести лет, питавшихся морковкой и пророщенными зернами, читавших «Афину» и успевших отправить на свалку одного или нескольких мужчин. Морено никогда прежде сюда не заходила и была почти уверена в том, что Роот тоже.
Фру Кодеска (год назад вышедшая вторым браком замуж за архитектора) располагала только сорока пятью минутами. Ей предстояло важное заседание. О бывшем муже она сообщить ничего не может.
Это она объяснила еще по телефону.
Они ели салат «Пиранези», пили минеральную воду с добавлением лайма и любовались видом на Рыночную площадь, впервые за долгое время (Морено не могла припомнить, за какое именно) покрытую снегом.
— Питер Клаусен… — начала она, посчитав, что с прелюдиями покончено. — Не могли бы вы о нем немного рассказать? Нам требуется его, так сказать, более четкий психологический портрет.
— Он что-нибудь натворил? — спросила Марианна Кодеска, подняв брови до корней волос. — Почему его разыскивают? Вы должны мне наконец все объяснить.
Она поправила рыжеватую шаль так, что стала лучше видна фирменная этикетка.
— Это еще не до конца ясно, — ответила Морено.
— Нет? Но вы ведь знаете, почему он объявлен в розыск?