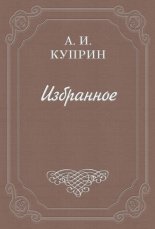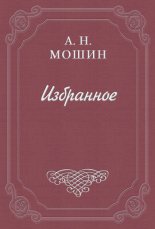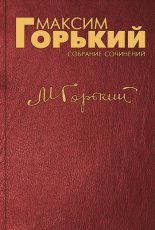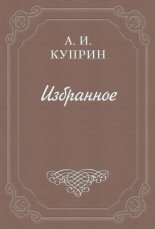Русская политическая эмиграция. От Курбского до Березовского Щербаков Алексей

Зверь-царь… Так отомстим же, братья, проклятому народом царю и всему его змеиному отродью, министрам, всем грабителям несчастной русской земли. Смерть им всем!»
То есть священник перешел, точнее, перескочил на крайние революционные позиции, этот текст напоминает листовки анархистов и максималистов. Что интересно – на тот момент непосредственно к вооруженному восстанию не призывал ещё никто. То есть революционеры всегда говорили о революции, но вот так – подымайтесь прямо сейчас…
Вскоре Рутенберг переправил Гапона в имение людей, сочувствовавших революционерам. Там священник должен был дожидаться, пока ему устроят переход через границу. Однако Гапон не был подпольщиком. Сидеть в неизвестности в ожидании, что за ним могут явиться жандармы, было выше его сил. Гапон уехал из своего убежища и самостоятельно умудрился перебраться через границу и добраться на перекладных до Швейцарии. Не очень понятно, каким образом ему это удалось. Возможно, власти отнюдь не рвались арестовывать Гапона. Ситуация-то была для них неприятная. После 9 января в Петербурге прошли массовые аресты, в том чисел и среди либералов. Однако довольно быстро выяснилось: никаких революционеров за манифестантами не стояло. Да и вообще – на тот момент о каких-то резких действиях речь не шла даже среди революционеров. Решение о подготовке вооруженного восстания и эсдеками, и эсерами было принято позже. А Гапон мог много чего наговорить. К тому же суд над ним как раз мог спровоцировать нешуточные беспорядки. Так что, возможно, и решили – пускай уматывает…
Итак, Гапон оказался в Женеве, в центре русской революционной эмиграции. Там никого и ничего он не знал, как не знал он ни французского, ни немецкого языков. Два дня Гапон бесцельно шлялся по городу, пока, наконец, не набрел на русскую читальню. В ней он узнал адрес Плеханова, к которому и явился.
И сразу же оказался в центре внимания. Причем, о двусмысленной позиции Гапона, его связи с полицией тогда никому не было известно. Хотя кое-какие выводы, проанализировав события, можно было сделать уже тогда. Но никто этим заниматься не хотел. Гапон предстал перед публикой как «герой Кровавого воскресенья». Причем занимающий на тот момент ультрареволюционную позицию. Для революционеров всех видов и лично для Рутенберга он представлял большой интерес. Это ведь был лидер, сумевший создать мощную, чисто рабочую организацию. Революционеры о таком могли на тот момент лишь мечтать. Неудивительно, что им очень хотелось понять – каким образом это ему удалось? Так что с Гапоном многим хотелось познакомиться. В том числе и Ленину. Вот что писала Надежда Константиновна Крупская:
«Через некоторое время после приезда Гапона в Женеву к нам пришла какая-то эсеровская дама и заявила, что ее хочет видеть Гапон. Условились о месте свидания на нейтральной почве, в кафе. Наступил вечер. Ильич не зажигал у себя огня и шагал из угла в угол. Гапон был живым куском нараставшей в России революции, и Ильич волновался этой встречей[48]. Ильича очень интересовало, как мог Гапон влиять на массы».
То есть, как видим, Ленин буквально места себе не находил от нетерпения. Кстати, этот мелкий эпизод очень хорошо показывает отношения в этой среде. Зашла какая-то дама из конкурирующей тусовки, договорилась о встрече… Как видим, никакой непримиримой вражды не было – несмотря на отчаянную ругань…
Но Гапон стал популярен не только в революционной среде. О нем начала писать и западная пресса. Это понятно. Это ж какой информационный повод! В столице Российской империи массовых расстрелов явно мирной демонстрации ещё не случалось. «Заклятых друзей» у России всегда имелось достаточно. А тут такое доказательство «исконно русского варварства». К тому же Гапон очень хорошо смотрелся в виде беззаветного героя. Кроме всего прочего, он являлся красивым и обаятельным мужчиной, да и говорить умел. Он ведь в России очаровывал не только рабочих – но и был вхож в светские круги, где от него тоже многие были в восторге. Особенно дамы.
И тут с полной силой расцвела одна черта Гапона – его непомерное честолюбие. Он любил славу, причем, как оказалось, в том числе – и в самых примитивных её формах. В этом с ним мог сравниться только Троцкий. Да и то не тогда, а гораздо позже.
«На rue Corraterie Гапон отстал от меня. Я обернулся. Он стоял, застывши у витрины писчебумажного магазина, очарованный, не в состоянии оторваться от своего портрета на почтовой открытке. Я не стал мешать ему. Не мог мешать – так меня поразил его вид».
(П. Рутенберг)
Ну, прямо-таки какая-нибудь малолетняя попсовая звездочка… Кстати, описанный эпизод свидетельствует и об уровне популярности батюшки. Вообще-то в те времена печатать почтовые открытки с изображением разных «героев дня» было обычным делом. Но все-таки, чтобы кто-то вложил деньги в подобную полиграфию, требовалась очень неплохая раскрутка персонажа – а ведь телевидения тогда не было, да и Гапон являлся иностранцем. Священник-то был не артистом и даже не писателем.
Одновременно Гапон ринулся и в политическую деятельность. Тут дело вышло гораздо хуже. Дело в том, что священник был совершенно невежествен в политических вопросах. Так, его представления о социализме сводились к тезису «все люди – братья». Для эмигрантской среды этого было маловато. И уж тем более – Гапон совершенно не понимал не только идеологических различий между различными оппозиционными группировками, он даже не видел причин, по которым они конфликтуют. Ну, не укладывалось в его сознании, что у каждого – у Плеханова, Ленина, Чернова – имелась своя вынесенная и взлелеянная теория о том, как обустроить Россию. И для теоретиков, каковыми они на тот момент являлись, своя правда была очень важна.
Впрочем, у него появились за границей и сторонники. Самым преданным из них был Афанасий Матюшенко – человек, возглавивший восстание на броненосце «Потемкин». В «час икс» он оказался самым отмороженным – восстание началось с крика Матюшенко «Бей их, братцы!».
Как известно, дело там закончилось тем, что броненосец ушел в Констанцу, где и был интернирован румынскими властями. Корабль вернули России, а вот моряков не выдали. Впрочем, российские власти особо и не настаивали, у них других проблем хватало. Моряки разбрелись кто куда, а вот Матюшенко не успокоился. Он ни к какой партии не принадлежал и к идеологии относился наплевательски. То есть являлся «революционером по жизни» – такие обычно шли в анархисты. Впоследствии он вернулся в Россию, пытался заняться терроризмом и был повешен. Матюшенко разделял мнение, что все эти эмигрантские разборки – никому не нужная болтовня. И он был не один такой за границей.
Так вот, Гапон решил объединить всех эмигрантов – причем не только разных революционеров, но и либералов. Причем объединить не как-нибудь, а вокруг себя, любимого. Правда, у РСДРП, как большевиков, так и меньшевиков, довольно быстро началось с Гапоном охлаждение отношений. Причиной послужил свойственный священнику авантюризм. Ведь и «Кровавое воскресенье» было типичной авантюрой. Дескать, выйдем на улицу – глядишь, что-нибудь и получится. Возможных последствий он не просчитал. А ведь, даже не случись трагического расстрела, они могли быть очень разными… Даже такие лихие ребята, как Ленин и Троцкий, по сравнению с Гапоном смотрелись очень осмотрительными товарищами. Но, кроме эсдеков, было много и других «буревестников».
24 апреля 1905 года Гапон созвал конференцию. Тон там задавали эсеры, но присутствовали представители различных национал-социалистов (разумеется, не в нацистском понимании, а сепаратисты с социалистическим уклоном) – поляки, грузины, армяне, прибалты.
На этой конференции Гапон показал класс. Напомню, что он позиционировал себя как самый революционный революционер. Однако при этом он иногда своими заявлениями буквально ввергал собравшихся в ступор. Вот что пишет очевидец Н. Симбирский:
«Председатель Гапон к немалому ужасу собрания заявил, что бесплатная экспроприация всех земель и бесплатная раздача их крестьянам внесут лишь разврат в крестьянскую среду и совершенно дезориентируют их и обратят в сообщество и даже кучу анархистов; что надо внушить крестьянину уважение к собственности, что если наделять их землей – а это чрезвычайно необходимо – то отнюдь не бесплатно».
Это позиция вообще не революционная, а праволиберальная. Может, она в чем-то даже и правильная. Но… Даже будущие конституционные демократы были тогда в земельном вопросе более радикальными. Как это соотносилось с революционными фразами? А никак. У батюшки была полная каша в голове.
В итоге конференции было принято решение о создании общего революционного комитета, в задачу которого входило «революционное воспитание масс». Да только сразу стало понятно, что это – очередная мертворожденная структура. Именно поэтому Гапон и влез в авантюру с пароходом «Джон Крафтон». Надо ведь было что-то реально делать…
Тем более что популярность Гапона в среде революционеров стала быстро падать. Он слегка утомил своим стремлением обязательно выбиться в лидеры. Мало того. Гапон и в петербургский период своей деятельности являлся, мягко говоря, не слишком честным человеком. Священнику вообще-то лгать не положено, но Гапон полагал, что это «ложь во спасение». Вот и в своей эмигрантской деятельности он постоянно привирал. К примеру, Матюшенко Гапон рассказывал, что лично был на пароходе «Джон Крафтон». Хотя священника видели как раз тогда в совсем ином месте.
Однако в узкой эмигрантской среде такие вещи не проходили. Так, один эсер в разговоре упрекнул Гапона в том, что он одновременно клянется в верности эсерам, но продолжает поддерживать контакты с большевиками. Священник стал уверять, что давно с ними не общается. На что эсер воскликнул:
– Да я совсем недавно видел, как вы выходили из квартиры Ленина!
Это о том, что эмигрантская «прослойка тонка». Как в деревне – все друг о друге всё знают… Понятно, что в такой среде постоянно привирающий человек не пользуется уважением. Ведь эти люди были не художниками или писателями, а занимались достаточно серьезным делом.
Так что эсеры в конце концов выпихнули Гапона писать воспоминания. Кстати, этот опус был заказан вполне респектабельным французским издательством – с соответствующим гонораром.
Во время эмиграции у Гапона появилась новая черта. Дело в том, что известность приносила ещё и деньги – за интервью журналисты хорошо платили. Священник в петербургский период жизни абсолютно не отличался корыстолюбием, по крайней мере, внешне – жил в задрипанных меблированных комнатах, ходил в потертой рясе, всегда был готов дать денег нуждающемуся рабочему. А тут он почувствовал вкус к хорошей жизни. Гапон отметился рядом романов со светскими красавицами, стал наведываться в Монте-Карло. Такие развлечения требуют изрядных денег. А ведь Гапон дураком не был, он прекрасно понимал, что его слава проходит. Революционеры на него стали косо посматривать, а интерес прессы проходит еще быстрее.
«За границею Гапон к сентябрю уже „надипломатичнился“, так изолгался, что не только какая-либо политическая деятельность, но и само существование его в эмигрантской среде сделалось невыносимым. Его авторитет упал здесь до нуля, а бешеное честолюбие по-прежнему не позволяло жить спокойно, никого и ничего не возглавляя».
(В. Кавторин, историк)
Что же, дело обычное. Слава – это вроде наркотика. Человеку, который был «звездой», очень трудно вернуться к обычной жизни. Это хорошо видно на примере артистов и эстрадных музыкантов. Гапон же обладал, скорее, артистическим темпераментом. Возможно, ему надо было идти в актеры…
И Гапон обратился… к Департаменту полиции. Он связывается с Евстратием Павловичем (А. Медниковым), главой знаменитого «летучего отряда филеров», да и вообще – создателем в России профессиональной системы «наружки». Гапон пишет министру финансов Сергею Юльевичу Витте (на тот момент – второй после царя человек в стране) покаянное письмо.
«Естественно, я, скорее под влиянием возмущенных чувств, гнева и мести за неповинную кровь народных мучеников, нежели под влиянием истины и разума, впал в крайность. Первый провозгласил лозунг – вооруженное восстание, временное революционное правительство, изо всех сил пытался привести существующие в России социалистические и революционно-демократические партии для планомерных боевых действий. Но мало-помалу чад начал проходить… Густой туман, окутавший было мой ум и сердце, начал рассеиваться… Разум входил в свои права…»
Это отнюдь не было радикальной переменой позиций, такой как у Тихомирова. Гапон врал. Но что ему было надо? Как агент священник был не слишком полезен – к моменту написания письма эсеры его к серьезным делам не допускали. Да и агентов среди революционеров у Департамента полиции было полно и без Гапона. Священник рассчитывал на иное – на возрождение своего «Собрания…» Такие мысли и у властей имелись. В 1905 году ситуация уже выходила из-под контроля. Профсоюзы возникали явочным порядком. Забастовки следовали одна за другой – и теперь в их руководстве отмечалось множество социал-демократов и эсеров. Мало того. Либералы, будущие кадеты, создали так называемый «Союз Союзов» – благодаря этой структуре забастовками стали баловаться и государственные служащие. Так что идея возродить легальные, а следовательно, умеренные профсоюзы имела место. В конце 1905 года Гапон вернулся в Россию и стал возрождать Собрание.
И несколько слов о его дальнейшей судьбе. В России Гапон стал вести тройную игру. Перед властями он выступал как «умиротворитель рабочих». Перед революционерами, с которыми связи не порвал, позиционировал себя как ультрарадикал, который играет в легальные профсоюзные игры из тактических соображений, а на самом-то деле… Перед рабочими провозглашал нечто среднее. Однако долго продолжаться это не могло. Рабочие уже были не те, у них стали возникать вопросы к священнику: а что это ты, батюшка, единолично рулишь? После октябрьского манифеста пресса получила некоторую степень свободы – и журналисты стали выкапывать разные неприятные для Гапона факты, в том числе и по обстоятельствам «Кровавого воскресенья»… Тем более что на это имелся заказ – как со стороны левых, так и ультраправых, которым не нравились такие игры. К этому времени возник «Союз русского народа» («Черная сотня») – они сами претендовали на роль народных лидеров. Тем более что власть стала ориентироваться именно на черносотенцев.
К этому добавились и разные некрасивые финансовые дела. Газета «Наша Жизнь»: «Вчера, 18-го февраля, на происходившем собрании фабрично-заводских рабочих (гапоновская организация), посвященном вопросу о 30 000 рублях, полученных Гапоном от министра финансов, после горячих дебатов член центрального комитета П. П.Черемухин покушался на самоубийство, четыре раза выстрелил в себя из револьвера. Жизнь его в опасности».
Конец был невеселый. Гапон окончательно запутался и сделал самую большую ошибку в своей жизни. Он заявил Департаменту полиции, что его старый знакомый эсер Рутенберг готов выдать Боевую организацию за 25 тысяч рублей. Что вообще-то тот не мог бы сделать даже при желании – к БО он не имел никакого отношения, а Азеф не подпускал к своей структуре посторонних. Получив согласие властей, Гапон сделал такое предложение Рутенбергу. Тот для окончательных переговоров назначил 28 марта (10 апреля) 1906 года встречу в пустой даче в Озерках (тогда – пригород Петербурга), приведя в качестве свидетелей двух рабочих, участников «Кровавого воскресенья»… Когда рабочие убедились в том, что Гапон работает на охранку, они его повесили…
После поражения
С поражением московского вооруженного восстания, а также подобных выступлений в ряде других городов, революция отнюдь не закончилась. Но она перешла в иную фазу, в которой роль эмиграции резко упала. То есть сидевшие там ребята продолжали суетиться, проводить собрания и писать статьи. Но…
В России продолжались массовые крестьянские выступления – с поджогом усадеб, разграблением помещичьего имущества и прочими радостями. К мужицким бунтам революционеры не имели, да и не могли иметь никого отношения.
Что касается терроризма, то именно на 1906 год выпало самое большое количество террористических актов. Но только вот в это время стреляли уже все кому не лень и по всем, кто попадался на пути. Благо кроме эсеров имелись еще и максималисты, плюс к этому расплодились в огромном количестве анархисты. Это тоже шло мимо находящихся за границей вождей. Даже знаменитая Боевая организация эсеров свила себе гнездо на территории империи. Они воспользовались своеобразным положением Княжества Финляндского, являвшегося «государством в государстве». Российские жандармы не имели права производить аресты на финской территории, они были обязаны обращаться к местным властям. А среди тех имелось множество финских сепаратистов и шведских националистов[49]. Так что революционеры всегда заранее узнавали о том, что против них нечто затевается…
В общем, БО с комфортом расположилась в лыжной гостинице на берегу озера Имандра, откуда боевики и ездили в Россию на дело. В конце концов их сумели переловить, но речь не о том.
К тому же кое-кто из лидеров эмиграции перебрался в Россию. Кроме упомянутых Парвуса и Троцкого среди них был и эсер Чернов, не говоря уже о либералах. Так что роль эмиграции как центра русского оппозиционного движения на некоторое время сильно упала. Так что там шла своя, параллельная жизнь.
В какой-то мере заграница снова стала выполнять роль своеобразного «отстойника». То есть там околачивались те, кто по каким-то причинам не мог или не хотел заниматься активной борьбой.
Можно привести пример Бориса Савинкова. Слава о нем как о неуловимом террористе возникла в значительной степени благодаря его собственным мемуарам. На самом-то деле при желании жандармы его могли много раз арестовать, но не делали этого по требованию Азефа. Но как-то он всё-таки попался. Сам Савинков описывал это так:
«Таким образом вышло так, что я поехал в Севастополь с партийным поручением убить адмирала Чухнина уже в то время, как партия постановила временно прекратить террор. Об этом я узнал только в тюрьме из газет.
14 мая в 12 часов дня на Соборной площади города было совершено покушение на коменданта севастопольской крепости генерала Неплюева. Во время торжественной праздничной церковной службы (в этот день была годовщина коронации Николая II), когда Неплюев принимал церковное шествие, 16-летний гимназист Николай Макаров бросил в него бомбу, которая не взорвалась.
Тут же взорвалась бомба в руках другого участника покушения, матроса Фролова. Площадь была полна народу. Взрывом бомбы было убито 8 человек (в том числе и сам террорист). Среди убитых было 2 детей, 37 человек было ранено».
К этому теракту Савинков не имел отношения, но его арестовали. В то время действовали чрезвычайные законы, так что террориста гарантированно ждала петля без особых разбирательств. Однако он сумел бежать. Каким образом удалось организовать его побег – это одна из многочисленных загадок первой русской революции. Как бы то ни было, Савинков сумел вырваться из севастопольской тюрьмы и бежать за границу. Но только вот… Он оказался абсолютно не способен к своему любимому делу. Видимо, пребывание в камере смертников произвело на него сильное впечатление. Куда-то исчез кураж. А без этого террором заниматься невозможно. Потом накатились и иные события…
Одним из самых шумных событий эмигрантской жизни было появление там первого руководителя эсеровской Боевой организации Григория Гершуни. В 1904 году его приговорили к пожизненной каторге. Сначала он сидел в Шлиссельбургской тюрьме, а в 1906 году, когда ввиду демократических веяний ее закрыли, был переведен на знаменитую Акатуйскую каторгу в Восточной Сибири. Но кое-кто из эсеровских лидеров полагал, что Гершуни нужнее на воле. В частности, таковым был Азеф. Дело в том, что в 1906 году в революционных кругах уже стали ходить упорные слухи, что в ЦК партии социалистов-революционеров имеется агент полиции. Так что Азефу не помешал бы легендарный сподвижник, чтобы, говоря современным языком, прикрыть задницу.
Так или иначе, Гершуни организовали побег. Он сбежал. Причем двинулся на восток – и через Японию очутился в Соединенных Штатах. Представители тамошней еврейской диаспоры его встретили с восторгом, переходящим в экстаз. О некоторых причинах я уже пояснял. Но напомню. Русская революция была вообще популярна в левых кругах. А ведь, заметим, что тогда американские евреи – это были не только банкиры и торговцы. Большинство из них тогда являлись рабочими! Они были объединены в собственные профсоюзы, которые представляли изрядную силу. К тому же царскую власть считали «антисемитской». Все сведения о погромах были преувеличены во много раз, да и подавались они так, будто чуть ли не сам Николай II отдавал приказы об их проведении. И еще одно обстоятельство. В связи с подъемом сионистского движения евреи нуждались в героях. И неважно, что цели российских социалистов-революционеров не слишком соответствовали целям сионистов. Напомню, последние мечтали о создании собственного государства в Палестине, а не о борьбе с царским правительством. То есть им выгодно было поддерживать как раз черносотенцев – так как страх перед погромами толкал многих российских евреев на отъезд на территорию будущего Израиля. Но. Пример вот таких людей, которые не боялись ни Бога, ни черта, вдохновлял[50].
В общем, Гершуни на той стороне Атлантики был устроен грандиозный PR. Он с триумфом проехал по Америке, читал лекции и собрал пожертвований на сумму 180 тысяч долларов. Теперь доллар обесценился, и, чтобы понять масштаб пожертвований, надо эту сумму умножить на 20. Так что в Европу Гершуни прибыл во всем блеске славы. Но этим его деятельность и ограничилась. Времена изменились – и романтику Гершуни места уже не было. К тому же бывший террорист был смертельно болен. Некоторое время он исполнял роль свадебного генерала, но в 1908 году умер от саркомы легких.
Вторая увлекательная история, произошедшая в эмиграции, была связана с разоблачением Азефа. Этим прославился Владимир Бурцев, 1862 года рождения, из дворян. Он являлся типичным эмигрантом. В молодости, в 1882 году, был замешан в студенческих беспорядках, арестован и сослан в Сибирь, в 1886 году бежал в Швейцарию.
Там Бурцев участвовал в разных народнических проектах. Примечательно, что он питал редкую даже для революционеров ненависть к монархии. Так, в 1897 году по настоянию российского правительства за призывы к убийству царя английские власти приговорили его к 18 месяцам тюрьмы. Впоследствии его выслали даже из Швейцарии, хотя там-то паслись чуть ли не все революционеры. При этом Бурцев являлся… либералом. Он не верил ни в революцию, ни вообще в социализм. Оставаясь при этом пламенным сторонником терроризма. То есть полагал, что с помощью убийств можно вырвать у царского правительства демократические свободы. Хотя сам не то что ни разу ни в кого не выстрелил, но и вообще никогда в руках не держал оружия. Уже интересно?
В 1905 году Бурцев вернулся в Россию и стал издавать журнал «Былое» мемуарно-исторического направления. Одновременно он начал заниматься личностью Азефа. Сама история о том, как Бурцев вывел главного провокатора на чистую воду, очень интересна, однако она далеко уводит нас от темы. Факт тот, что к 1908 году Бурцев налево и направо стал обвинять Азефа в работе на Департамент полиции.
Для социалистов-революционеров это звучало жутким кощунством. Азеф для партии являлся, говоря современным языком, культовой фигурой. Потому как партия славилась прежде всего Боевой организацией. Так что отреагировали эсеры на это весьма нервно. В августе 1908 года в Лондоне проходила конференция партии социалистов-революционеров. Там было вынесено такое решение:
«Продолжать пассивно относиться к слухам, деморализующим партийные ряды, нельзя… уже обнаружился и источник их – именно Бурцев. Необходимо привлечь его к ответственности и тем сразу оборвать нить слухов…»
Итак, Бурцева решили судить. Однако суд всячески оттягивали – до тех пор пока потенциальный ответчик не пригрозил, что опубликует свои материалы в печати. Вот это было уже никому не нужно. Выхода у революционеров не оставалось.
Собственно говоря, история с Азефом интересна для данной темы именно этим самым судом, потому как он очень характеризует царившие там нравы.
…Существует довольно много способов решения конфликтов между людьми без привлечения государства. Я не имею в виду уголовщину или обычный мордобой. Самым известным из таких способов является судебный поединок, из которого выросла дуэль. Суть ее отнюдь не в соревновании, кто лучше фехтует или стреляет. Предполагалось, что правому поможет Бог. К примеру, в русской дуэли на пистолетах, на которой погибли Пушкин и Лермонтов, особо метко стрелять и не нужно было. Там дело решал случай. Или Бог.
Существует и так называемый третейский суд. Суть его в том, что конфликтующие стороны привлекают к решению дела каких-либо авторитетных для них людей. Кстати, офицерский суд чести или блатная «правилка» – это тоже варианты третейского суда. Я не зря привел эти примеры. Из них понятно, что такой вариант решения проблем возможен лишь в достаточно закрытой корпорации – когда проигравшей стороне сложно наплевать на его решение. Революционеры-эмигранты являлись именно такой средой. И дело даже не в угрозе того, что такого персонажа убьют. Бойкот – это тоже сильное средство. Поэтому третейский суд довольно часто использовался в этой среде. Другое дело, что никогда не поднимался вопрос такого уровня. Повторюсь – речь шла не просто о главе «главного инструмента» партии социалистов-революционеров, но и о Герое, Символе. Понятно, что в узкой эмигрантской среде слухи о возне Бурцева ходили уже вовсю. Тем более что он уже успел разоблачить нескольких агентов – не только в родной партии, но и у социал-демократов. Понятно и другое – у конкурентов отношение к конфликту было несколько иным, нежели у эсеров. Отношение к БО у социал-демократов являлось смесью идеологического неприятия, личного сочувствия и зависти. (Последнее связано с тем, что шум-то террористы подняли изрядный.) Поэтому эсеры решили вынести сор из избы. В состав суда был включен идеолог анархизма, Петр Алексеевич Кропоткин. К партии эсеров он никакого отношения не имел. Об этом человеке в книге не было рассказа, поскольку в русской эмиграции он стоял несколько сбоку.
С практической точки зрения Кропоткин сделал совсем немного. Но влияние его на российских революционеров огромно.
Петр Алексеевич Кропоткин родился 27 ноября (9 декабря) 1842 года. По происхождению он был настолько родовитым, что дальше просто некуда. Кропоткин являлся Рюриковичем. По сравнению с ним члены императорской семьи были плебеями. Специально для любителей аристократии. Род Романовых пошел с XVI века, с Ивана Кошки, человека очень сомнительного происхождения. А их претензии на власть обосновывались тем, что первая жена Ивана Грозного была из этого рода. Кто они по сравнению с Рюриковичами? Автор не питает никакого уважения к длинным родословным, но факт есть факт.
Кроме того, Кропоткины были людьми не бедными. То есть они являлись нормальной российской элитой. В соответствии с этим, Петр Кропоткин поступил в Пажеский корпус. Более элитарного учебного заведения в России не существовало. Но вот только, выйдя из него, Петр Алексеевич повел себя странно. Он не вышел, как нормальные люди, в гвардию, после службы в которой открывались блестящие карьерные перспективы, а поехал служить в Восточно-сибирское казачье войско. Все крутили пальцем у виска. Но Кропоткина увлекла идея: идти «за туманом и за запахом тайги».
Кропоткин и пошел «за туманом». Он принял участие в нескольких экспедициях по Восточной Сибири. Причем забирался в самую глухомань. Он открыл, к примеру, никому до этого не известный горный хребет, и теперь носящий его имя.
Но это бы ладно. В 1864 году Кропоткин под именем купца Петра Алексеева пересек Маньчжурию. А вот это уже называется стратегической разведкой. В те времена много ходило по миру таких «путешественников в штатском» разных национальностей. И ведь впоследствии Россия полезла в Маньчжурию. Так что Кропоткин не зря там болтался. Он добывал определенные сведения о стране.
Кроме того, Кропоткин зарекомендовал себя серьезным ученым. Он являлся членом Географического общества, где пользовался полным уважением. Однако… Его понесло в революцию. Я снова напоминаю – это был не романтический мальчик, начитавшийся книжек. Автору этой книги приходилось бывать в тайге. Так что я кое-что в этом деле понимаю. Кропоткин прошел по таким местам… Снимаю шляпу.
Почему такого человека понесло в революцию? Так ведь он видел то, что видел. Сибирь тогда была местом, где закон – тайга, а прокурор – медведь. И беспредел там царил всякий. Разномастные начальники являлись местными царьками, которые делали что хотели. Управы на них не было. Плюс к этому – местные богатеи. Тогдашние золотопромышленники вели себя так, что бандиты девяностых кажутся законопослушными гражданами. А что? На тогдашних олигархов в Сибири также не имелось никакой управы. И это Кропоткин видел. Далее. Он поработал разведчиком. Но ведь разведка (а по тем понятиям – «шпионство») – дело не самое благородное, особенно по тогдашним дворянским представлениям. А потому, когда вбитые с детства представления о чести сталкиваются с жестокой реальностью, люди могут сделать разные выводы. Одни – «это тоже служба Отечеству, раз уж так вышло, будем возиться и в этой грязи». Но… Можно ведь было сделать и иной вывод. Если государство применяет такие методы, то значит, государство как институт – зло… Кропоткин подался в революционеры. Во время поездки за границу он познакомился с Бакуниным и вступил в Юрскую федерацию. Затем являлся членом народнического кружка «чайковцев». Там он отличился тем, что наладил неплохо действовавший канал переправки литературы с помощью контрабандистов (об этом способе речь шла). Во многом ему помогало вынесенное из экспедиций умение общаться с разными людьми.
Правда, недолго музыка играла. В 1874 году Кропоткин был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Впоследствии он был переведен в тюремную больницу, где режим был мягче. Откуда бежал и оказался за границей.
Пребывание Кропоткина в эмиграции было куда больше связано с международным анархическим движением, нежели с российскими революционерами. В 1882 году он был арестован французскими властями. Местные анархисты устроили в Лионе взрыв, так его на всякий случай тоже загребли. Кропоткин получил пять лет. В 1886 году его досрочно выпустили, мятежный князь переселился в Великобританию и, в общем-то, отошел от активной политической деятельности. Он стал заниматься разработкой теоретических вопросов анархизма, выпустил ряд книг, став кем-то вроде «живого классика». Причем его уважали и те эмигранты, которые анархистских идей абсолютно не разделяли, в том числе и Ленин. Ни у кого не вызывала сомнение его объективность. Кропоткин смотрел на происходившее с эдакой олимпийской высоты.
Итак, вот таким был третейский суд. Он начался 10 октября 1908 года в Лондоне, на квартире Савинкова. Поскольку судили Бурцева, то Азеф на этом сборище не присутствовал. Подробности его описывать нет смысла. Главное – Бурцев доказал свои обвинения. Козырем «охотника за провокаторами» стало признание бывшего начальника Департамента полиции Алексея Александровича Лопухина, что Азеф – агент полиции. Вопрос, почему Лопухин «раскололся», до сих пор является предметом споров историков. Но что сделано, то сделано. Кропоткин был однозначно согласен с выводами Бурцева. Другой член суда, «Герман Лопатин», сказал: «За такое убивают».
Члены ЦК эсеров были в полном шоке. Рушился весь их мир. Так что революционеры стали метаться. Савинков и Чернов в начале декабря 1908 года отправились в Лондон, где тогда находился Лопухин, с тайной надеждой, что он не подтвердит того, что сказал Бурцеву. А тот взял да и подтвердил. Так, он заявил, что Азеф являлся самым крупным провокатором в партии социалистов-революционеров и в последнее время получал до 14 тысяч рублей в год. Савинков впоследствии писал:
«В искренности Лопухина нельзя было сомневаться, в его поведении и в словах не было заметно ни малейшей фальши. Он говорил уверенно и спокойно, как честный человек, исполняющий свой долг».
И встал вопрос: а что теперь делать? «Собрания эти были почти ежедневные, в составе 15–20 человек.
Дебатировался вопрос – как быть с Азефом?»
(А. Аргунов, член партии эсеров)
Дело в том, что многие боевики ничего слышать не желали. Так что руководители партии опасались нового раскола. А ведь имелась опасность, что в случае ликвидации Азефа наиболее отмороженные из боевиков начнут стрелять и в них… Имелось и еще одно опасение.
«Казалось, что убийство в Париже (там в это время находился Азеф. – А. Щ.) человека повлечет за собой огромные репрессии для всей эмиграции, даст в руки русского правительства оружие разделаться при содействии французского со своими врагами».
(А. Аргунов)
То есть одно дело – устраивать убийства в России, другое – «наследить» в Европе, где партийные руководители обретались. Вообще-то всерьез говорить о каких-то репрессиях французских властей против партии в случае убийства Азефа не стоило. Слухи были сильно преувеличены. Впоследствии сами эсеры, а именно так называемая «судебно-следственная комиссия», созданная партией в 1911 году, признавала:
«Главой французского правительства был в то время Клемансо, который едва пожелал бы, да едва ли и мог устроить в угоду русскому правительству гонения на русскую эмиграцию или даже только на одну партию социалистов-революционеров».
То есть непосредственно убийцу, если бы поймали (а попробуй, поймай мастера подпольной борьбы), то осудили бы. Но раскручивать дело по этому поводу уже стали.
…У членов ЦК случился буквально паралич воли. В итоге приняли решение продолжить расследование – то есть из всех вариантов был выбран самый глупый. Почему? Да потому что слухи-то уже ползли.
Вскоре были получены новые данные – причем о том, что Азеф продолжает контактировать с зарубежными агентами Департамента полиции. Его снова решили допросить. 5 января 1909 года трое посланцев ЦК – В. Чернов, В. Савинков, Н. Панов прибыли на квартиру к Азефу. Примечательно, что им было запрещено иметь при себе оружие. Разговор был длинный, в ходе его Чернов предложил:
«Мы предлагаем тебе условие: расскажи откровенно о твоих сношениях с полицией. Нам нет нужды губить твою семью. Дегаев и сейчас живет в Америке».
Азеф продолжал «идти в отказ». А дальше… Революционеры ушли, обещав нагрянуть на следующий день в полдень. Причем не оставили никого следить за квартирой. Хотя ведь понятно – если человек виноват, то он сбежит. Благо Азеф, профессиональный подпольщик, бегать-то умел… Что и сделал, бросив жену и детей.
То есть получается, что Азефа сознательно отпустили. Впоследствии руководители партии уверяли, что у них не было возможности устроить слежку. Однако…
«В эсеровской эмиграции в Париже можно было найти достаточное количество людей, готовых беспрекословно повиноваться распоряжениям ЦК, так что можно было легко установить слежку за квартирой Азефа до истечения срока ультиматума – до 12 часов 9 января».
(Л. Прайсман, историк)
Есть более честные высказывания.
«Атмосфера нерешительности, скованность действий… продолжали царить до самого последнего часа… И все это в совокупности, вся эта атмосфера растерянности, порожденная хаосом, мнений, постановлений, сказалась, конечно, и в отсутствии практических мер на случай допроса и после допроса. Переход от Азефа-товарища к Азефу-провокатору оказался не под силу не для одних только членов ЦК, а и для таких людей, как боевики, которым легче, чем кому-либо, было протянуть руку к браунингу, которым легче было разобраться и осуществить практические меры, чтобы заподозренный, но не изобличенный провокатор не ускользнул».
(А. Аргунов)
«Впоследствии я задавал себе такой вопрос: понимал ли я в то время, ясно ли я давал себе отчет, что из всех товарищей по партии именно на мне и, быть может, на Карповиче лежит обязанность персонально убить Азефа. И я себе ответил, что да, я совершенно ясно эту свою ответственность сознавал. Тогда я задал себе вопрос: почему, собственно, я Азефа не застрелил тут же, на допросе? И вот я вам должен ответить совершенно искренне, как я себе ответил на этот вопрос. Нужно вам сказать, что мои отношения с Азефом в последние годы были очень хорошие, то есть мне они казались очень хорошими. Личной дружбы между нами никогда не существовало, но в моих глазах он был единственным достойным мне товарищем по прошлым боевым делам. И я не ошибусь, когда я скажу, что мое чувство к нему было приблизительно братское.
Когда я убедился в том, что он провокатор, я понял, что в тот момент мое чувство к нему не изменилось, то есть я чувством этого не воспринял. Когда я голосовал в собрании за его убийство, я голосовал чисто логически, лично же я в себе, несомненно, сил его убить в тот момент не чувствовал и на допросе я с ним говорил, зная и понимая, что он провокатор, не так, как если бы я говорил с чужим мне провокатором».
(Б. Савинков)
Впоследствии эпизод с бегством Азефа Савинкову припоминали многие. Дело в том, что глава БО прикрывал своего помощника от арестов. По простой причине – если всех вокруг тебя забирают, а ты постоянно выкручиваешься, тут и полный дурак догадается, что дело нечисто. Но пошли слухи, что Савинков тоже не без греха…
После разоблачения Азефа к Бурцеву пришла мировая слава. Это дело имело громадный резонанс во всем мире. Бурцев получил прозвище «Шерлок Холмс русской революции». Газеты наперебой заказывали ему материалы и были готовы платить за них любые деньги. И ведь платили наверняка не только издатели… Но об этом ниже.
«Через его руки прошли миллионы – в буквальном смысле слова. Прошли, но не задержались, он деньгами не интересовался и в них ничего не понимал».
(В. Зензилов, историк)
В самом деле, Бурцев все приходящие к нему деньги легко раздавал. Он помогал любому эмигранту, который об этом просил. Понятно, что кроме революционеров его помощью пользовались и всякие проходимцы, которых всегда хватало.
Сам же Бурцев решил создать в Париже нечто вроде специальной структуры по поиску полицейских агентов.
Вот что вспоминал Г. Лопатин, участник того самого третейского суда. Впоследствии он очень подружился с Бурцевым и помогал ему в его деятельности.
«Покоя не дают, пристают. На днях звонит кто-то по телефону. Подхожу. – Кто говорит? – Раскаявшийся провокатор. Можно прийти? А потом молчание, и тот же голос боязливо добавляет: – А в морду не дадите?»
Причем Бурцев работал на все революционные организации. Ему и в самом деле удалось выявить ряд крупных агентов Департамента полиции, действовавших как среди эсеров, так и среди социал-демократов.
А ответом на это…
«Ненависть, глубокая и искренняя, была ему ответом со стороны партийной эмиграции за его розыскную деятельность».
(А. Спиридович)
А чему тут удивляться? Агентов ведь было и в самом деле много. А те, кто в играх с полицией был непричастен, опасались – а вдруг
Бурцев и их объявит стукачами? Для человека, вся жизнь которого была в революционном движении, такое обвинение являлось полным крахом. Известны случаи самоубийств людей, обвиненных в сотрудничестве с охранкой (причем, как потом оказалось, напрасно обвиненных).
Но Бурцев этим не ограничивался.
«Революционеры, которым деятельность Азефа причинила столько вреда, пытались теперь использовать это разоблачение в своих интересах… Если верить им, то выходило, что Азеф был организатором и руководителем всех без исключения террористических покушений, имевших место в России за время с 1902 по 1908 г., и что все эти покушения делались… часто и с прямого одобрения высших руководителей русской политической полиции… Особенно много усилий в этой области потратил В. Бурцев. В течение нескольких лет он издавал за границей специальную газету „Общее дело“, в которой почти из номера в номер печатал статьи на тему „Столыпин, Герасимов и Азеф“, доказывая, что мы втроем были главными организаторами покушений последних лет».
(А. Герасимов, полковник)
Главной же мечтой Бурцева стало повалить премьера П. А. Столыпина. Вообще, этот «Шерлок Холмс» принадлежал к тому типу людей, которым необходим персонифицированный объект ненависти. Так, он люто ненавидел Николая II – именно его, а не монархическую власть. Потом взъелся на Азефа. А там и на Столыпина… Бурцев полагал, что, раскрутив дело Азефа, можно повалить премьера. Депутатам Государственной думы он рассылал послания вроде такого:
«Многоуважаемый депутат! Надеюсь, Вы получили письмо Азефа – его нельзя опубликовать ранее субботы, а Вы тем временем соберите в „России“ (страховое общество) все дополнительные сведения. Дайте мне знать, в чем дело.
Что же касается до моей новой заметки, то давайте ее куда-нибудь в печать, чем полнее используют ее, тем лучше.
Еще раз просьба ко всем. Как относятся к „делу Азефа“? Что можно ожидать? Хотят ли поставить вопрос не об Азефе, а об его укрывателях? Неужели, если Милюков и другие могут заявлять, что верят в то, что Азеф – убийца Плеве, то этого не могут заявить левые депутаты с кафедры (Думы) и потребовать следствия для определения виновности: первое – Азефа, второе – азефовцев? Необходимо, чтобы русское общество услышало те же самые обвинения не от меня, а от народного избранника и чтобы все могли это цитировать.
Даже если правительство сумеет вывернуться и на этот раз, то оно подготовит само почву для окончательной схватки.
Отставка Столыпина – вот девиз всех, кто верит в то, что он лгал 24 февраля 1909 г. в Думе, спасал Азефа от суда и прикрывал всех азефовцев[51], будучи сам Азефом 96-ой пробы.
Неужели никто не хочет так поставить вопрос в Думе? Готовый к Вашим услугам В. Бурцев». И так бесконечно. И вот теперь угадайте, откуда у Бурцева были деньги?
У Столыпина имелось множество разнообразных врагов – как в России, так и за границей, как слева, так и справа. К примеру, премьер был категорическим противником того, чтобы Россия в ближайшие двадцать-тридцать лет ввязывалась в любую войну, а сторонников обратного было огромное количество – начиная от французских политиков и заканчивая собственными «ястребами»…
Но в конце концов Бурцев всех немного утомил – и его активность сошла на нет.
Что касается Азефа – то он ушел в частную жизнь и больше на революционном горизонте не появлялся.
Разоблачение Азефа нанесло партии социалистов-революционеров страшный удар. Эту историю со смаком обсасывала как российская, так и западная печать. Причем более всего постарались те, кто имел очень слабое представление как о российском революционном движении, так и о России вообще. В ход пошли всякие психологические и даже мистические выверты. Так, Азефа называли «инфернальным героем Достоевского». В самом деле – эдакий «черный человек», упивающийся тем, что творит зло и манипулирует людьми как марионетками.
Разумеется, не остались в стороне и конкуренты, социал-демократы. Вот что написал язвительный Троцкий, который подвел под «азефовшину» теоретическую базу, обосновывая идейную несостоятельность конкурентов.
«Тайна азефщины – вне самого Азефа; она – в том гипнозе, который позволял его сотоварищам по партии вкладывать перст в язвы провокации и – отрицать эти язвы; в том коллективном гипнозе, который не Азефом был создан, а террором, как системой. То значение, какое на верхах партии придавали террору, привело, по словам „Заключения“[52], – „с одной стороны, к построению совершенно обособленной надпартийной боевой организации, ставшей покорным оружием в руках Азефа; с другой – к созданию вокруг лиц, удачно практиковавших террор, именно вокруг Азефа, атмосферы поклонения и безграничного доверия“…
Уже Гершуни окружил свое место полумистическим ореолом в глазах своей партии. Азеф унаследовал от Гершуни свой ореол вместе с постом руководителя боевой организации. Что Азеф, который несколько лет перед тем предлагал Бурцеву свои услуги для террористических поручений, теперь разыскал Гершуни, это немудрено. Но немудрено и то, что Гершуни пошел навстречу Азефу. Прежде всего выбор в те времена был еще крайне мал. Террористическое течение было слабо. Главные революционные силы стояли в противном, марксистском лагере. И человек, который не знал ни принципиальных сомнений, ни политических колебаний, который готов был на все, являлся истинным кладом для романтика терроризма, каким был Гершуни. Как все-таки идеалист Гершуни мог нравственно довериться такой фигуре, как Азеф? Но это старый вопрос об отношении романтика к плуту. Плут всегда импонирует романтику. Романтик влюбляется в мелочной и пошлый практицизм плута, наделяя его прочими качествами от собственных избытков. Потому он и романтик, что создает для себя обстановку из воображаемых обстоятельств и воображаемых людей – по образу и подобию своему».
Во многом Лев Давыдович был прав. В партии эсеров было много людей, руководствовавшихся более эмоциями, нежели продуманными взглядами. А потому разочарование было страшным. Вот что сказал Чернову П. Карпович, являвшийся правой рукой Азефа, человек весьма недалекий, но пламенный революционер.
«У нас один выход: всем, не медля ни минуты, разбежаться в разные стороны, чтобы не напоминать видом своим друг другу о том, что было, и о том, что надо забыть навсегда, чтобы можно было как-то еще жить».
Так он и сделал. Карпович отошел от революционного движения, стал отзываться о революционерах резко отрицательно. Но он не перешел, как Тихомиров, в противоположный лагерь, да и в частной жизни себя найти не сумел. Надолго выбыл из игры и Савинков. Он шатался по парижским кабакам и развлекался с доступными девицами. Одновременно занялся литературой. И если его «Записки террориста» являлись просто мемуарами, то в двух художественных книгах – «Конь бледный» и «То чего не было» – он пишет о бессмысленности борьбы. Это книги не «контрреволюционные». Не «Бесы» Достоевского и не «На ножах» Лескова. Это чистой воды декадентство. По Савинкову, да, мир дерьмо, но и сделать-то ничего нельзя… Позже Савинков оклемался и вернулся к любимому делу, правда, уже под иными знаменами. Но это было позже.
По большому счету от этого удара эсеры оправиться так и не сумели. Да, в 1917 году они стали самой крупной российской партией. Но «пассионарность» они растеряли напрочь. В 1917 году они, не пикнув, сдали власть большевикам, в 1918-м в Сибири – Колчаку. В общем, был один позор.