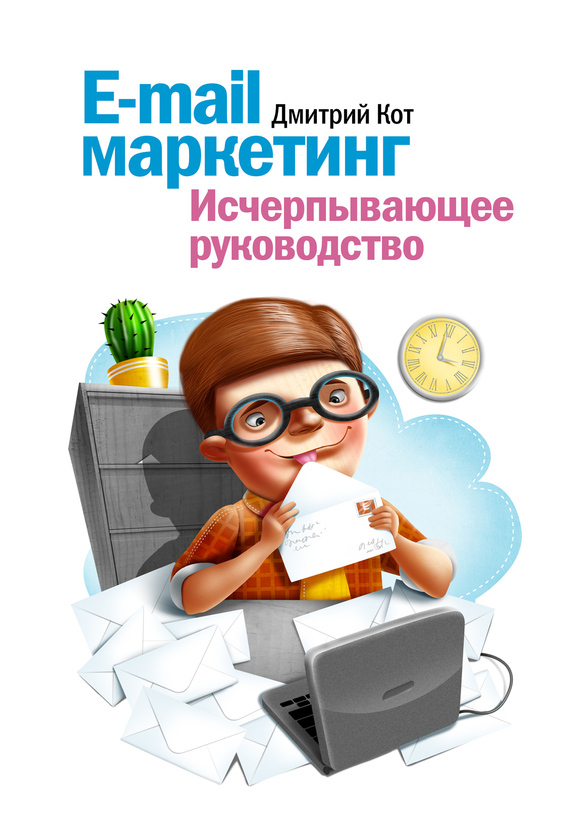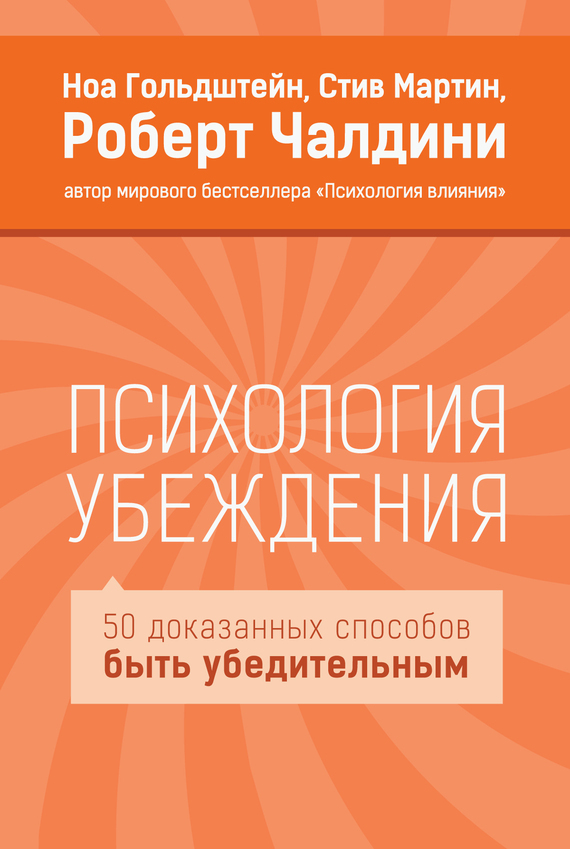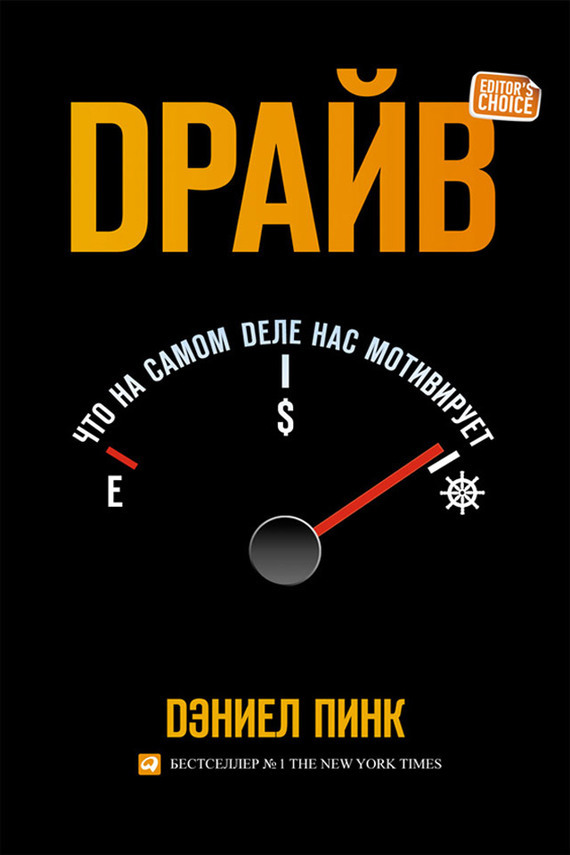Источник Рэнд Айн
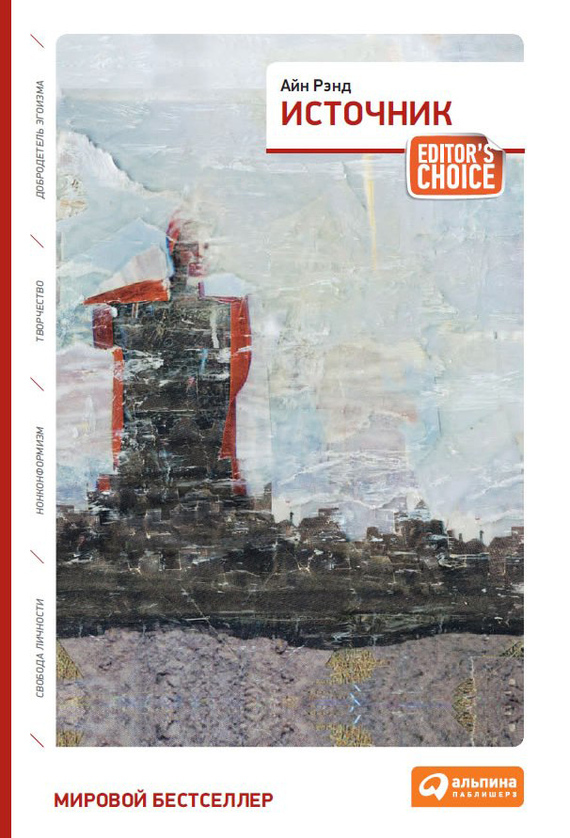
Потом он спросил, как она живет в Нью-Йорке, и она принялась оживленно рассказывать о дяде.
– Он такой замечательный, Питер. Ну совершенно замечательный! Бедный совсем и все же принял меня в свой дом. Даже освободил свой кабинет, чтобы мне было где устроиться, и теперь ему приходится работать здесь, в гостиной. Тебе непременно надо с ним познакомиться, Питер. Сейчас он в отъезде, выступает с лекциями, но тебе надо с ним познакомиться, когда он приедет.
– Да, мне бы очень хотелось.
– Знаешь, я думала устроиться на работу и зарабатывать себе на жизнь, но он мне не позволил. «Деточка моя, – сказал он, – только не в семнадцать лет. Не хочешь же ты, чтобы мне было стыдно перед самим собой? Я не сторонник детского труда». Занятная мысль, правда? У него масса занятных мыслей, я не все понимаю, но говорят, что он человек выдающегося ума. И он все так представил, будто я делаю ему одолжение, позволив содержать меня, и, по-моему, он очень славно поступил.
– Чем же ты занимаешься целыми днями?
– Пока особенно ничем. Книги читаю. По архитектуре. У дяди тонны книг по архитектуре. Но когда он здесь, я печатаю ему лекции. Мне кажется, ему не очень нравится, что я это делаю, у него есть настоящая машинистка, но мне это очень нравится, и он мне разрешает. И даже платит мне жалованье. Я не хотела брать, но он настоял.
– Чем же он зарабатывает на жизнь?
– Ой, многим, я даже не знаю, за всем не уследишь. Например, преподает историю искусств. Он что-то вроде профессора.
– Кстати, ты-то когда собираешься в колледж?
– А… Ну… в общем, понимаешь, мне кажется, дядя эту мысль не одобряет. Я ему сказала, что давно уже собиралась продолжить учебу и готова работать и учиться одновременно, но он, похоже, считает, что это не для меня. Он, правда, много на этот счет не говорит, сказал только: «Бог создал слона для тяжкого труда, а комара – чтобы жужжал, а с законами природы экспериментировать, как правило, не рекомендуется. Однако, дитя мое, если тебе так хочется…» Он на самом деле не возражает, я все решаю сама, но только…
– Не позволяй ему мешать тебе.
– Пойми, он и не хочет мешать мне. Только, понимаешь, я и в школе была не бог весть что. И еще, любимый мой, с математикой у меня вообще не ладилось, и поэтому не знаю… Но с другой стороны, спешить мне некуда. У меня есть время подумать.
– Слушай, Кэти, мне это совсем не нравится. Ты же всегда мечтала поступить в колледж. И если этот твой дядя…
– Не говори о нем так. Ты же его совсем не знаешь. Это совершенно поразительный человек. Он такой добрый, все понимает. И очень интересный, веселый, всегда шутит, да так умело – все, что казалось очень серьезным, в его присутствии оказывается совсем не таким. И при этом он чрезвычайно серьезный человек. Знаешь, он целыми часами говорит со мной, и ему не надоедает, его не раздражает моя глупость. Он мне все рассказывает о забастовках, о жутких условиях жизни в трущобах, о бедняках, которых заставляют трудиться из последних сил, – только о других, и никогда о себе. Один его друг сказал мне, что дядя мог бы стать очень богатым, если бы только захотел, он ведь такой умный. Только он не хочет, деньги его совсем не интересуют.
– Это же ненормально.
– Ты сначала с ним познакомься, а потом говори. Да, и он хочет с тобой познакомиться. Я ему про тебя рассказывала. Он называет тебя Ромео с рейсшиной.
– Ах вот как?
– Да ты пойми! Он же по-доброму. Просто он так выражается. У вас много общего. Возможно, он окажется тебе полезен. Он тоже кое-что понимает в архитектуре. Ты непременно полюбишь дядю Эллсворта.
– Кого-кого?
– Да дядю моего!
– Скажи-ка, – попросил Китинг чуть охрипшим голосом, – как зовут твоего дядю?
– Эллсворт Тухи. А что?
Китинг бессильно уронил руки и ошалело посмотрел на нее.
– Что с тобой, Питер?
Он сглотнул. Кэтрин увидела, как у него судорожно дернулся кадык. Потом он очень решительно сказал:
– Кэти, я не стану знакомиться с твоим дядей.
– Но почему?
– Не хочу. Через тебя – не хочу… Пойми, Кэти, ты же совсем меня не знаешь. Я из тех, кто использует людей в корыстных целях. А тебя я использовать не желаю. Никогда. И ты мне не позволяй. Кого угодно, только не тебя.
– Как это – использовать меня? Что это значит? Почему?
– Да все просто. За знакомство с Эллсвортом Тухи я отдал бы все. Вот так. – Он хрипло рассмеялся. – Значит, по-твоему, он кое-что понимает в архитектуре? Дурочка ты! Да он – самая важная персона в архитектуре. Возможно, пока это еще не так, но через пару лет будет так. Спроси у Франкона – эта старая лиса в таких делах не ошибается. Твой дядя скоро станет Наполеоном среди архитектурных критиков, вот увидишь. Во-первых, не так уж много охотников писать о нашей профессии, так что он быстренько сумеет монополизировать этот рынок. Видела бы ты, как все крупные шишки в нашем бюро облизывают каждую запятую в его публикациях! Ты говоришь, что он, может быть, окажется мне полезен? Да он может сделать мне имя, и сделает, и я непременно с ним познакомлюсь, когда буду к этому знакомству готов, так же как познакомился с Франконом. Но только не здесь, только не через тебя. Понимаешь? Не через тебя!
– Но, Питер, почему ты отказываешься?
– Потому что я не хочу так! Потому что это мерзко, потому что я все это ненавижу – свою работу, профессию, ненавижу все, что я делаю, и все, что буду делать! И я не намерен впутывать во все это тебя! Ведь, кроме тебя, у меня ничего настоящего в жизни нет! Умоляю тебя, Кэти, не вмешивайся в мои дела!
– В какие дела?
– Не знаю!
Не разжимая его объятий, она встала. Он припал лицом к ее бедру. Она гладила его по голове и смотрела на него сверху вниз.
– Ладно, Питер, мне кажется, я все поняла. Тебе не обязательно встречаться с ним, пока ты не захочешь. Только, когда захочешь, скажи мне. Если надо, можешь меня «использовать». Я не против. От этого ничего не изменится.
Когда он поднял голову, она тихо смеялась.
– Питер, ты перетрудился. У тебя нервы немножко не в порядке. Я заварю чаю, хочешь?
– Ой, я совсем забыл. Я же сегодня не ужинал. Времени не было.
– Надо же! Кошмар какой! Сию же минуту отправляйся на кухню! Сейчас что-нибудь придумаю.
Он вышел от нее через два часа. Он шел, ощущая в себе легкость, чистоту, светясь от счастья, позабыв о своих страхах, позабыв о Тухи и Франконе. Он думал лишь о том, что пообещал ей снова прийти завтра и что до завтра осталось ждать нестерпимо долго. Когда он ушел, она еще долго стояла у дверей, положив руки на дверную ручку, хранившую след его ладони, и думала о том, что он может прийти завтра – а может и через три месяца.
– Когда закончишь, – сказал Генри Камерон, – загляни ко мне в кабинет.
– Хорошо, – сказал Рорк.
Камерон резко развернулся на каблуках и вышел из чертежной. За весь месяц он впервые обратился к Рорку с такой длинной фразой.
Каждое утро Рорк приходил в чертежную, выполнял задания и не слышал ни единого слова, никаких замечаний. Камерон обычно заходил в чертежную и подолгу стоял за спиной Рорка, заглядывая ему через плечо. Создавалось впечатление, что он намеренно старается смутить Рорка, сделать так, чтобы дрогнула его рука, четко выводящая линии на бумаге. Два других чертежника запарывали работу при одной мысли, что такое жуткое видение может появиться у них за спиной. Рорк же, похоже, не замечал этого. Он продолжал работать, неспешно и уверенно водя рукой, столь же неспешно откладывал притупившийся карандаш и брал другой. «Та-ак», – внезапно бурчал Камерон. Рорк поворачивал голову с вежливым и внимательным видом. «Да?» – спрашивал он. Камерон отворачивался, не сказав ни слова и презрительно прищурившись, словно желая показать, что не считает нужным отвечать, выходил из комнаты. Рорк продолжал работу.
– Плохо дело, – поведал Лумис, молодой чертежник, своему престарелому коллеге Симпсону. – Невзлюбил старик этого парня. И я его хорошо понимаю. Этот здесь долго не протянет.
Симпсон был стар и немощен. Он служил у Камерона еще во времена, когда бюро занимало три этажа, застрял здесь и не мог понять, по какой причине. Лумис же был молод и выглядел совсем как те хулиганы, что собирались обычно на углах возле закусочной. Здесь он оказался потому, что со всех прочих мест его выгнали.
Они оба недолюбливали Рорка. Да и всюду, куда бы Рорк ни пошел, при первом же взгляде на его лицо окружающие обычно начинали испытывать к нему неприязнь. Лицо его было непроницаемо, как дверь банковского сейфа. В сейфе хранят только ценные вещи, но люди не желали задумываться над этим. От его присутствия в комнате тянуло холодком, и это раздражало многих. Было в нем и еще одно странное свойство – он внушал окружающим такое чувство, будто он здесь и в то же время не здесь. Или, возможно, он здесь, а вот их самих нет.
После работы он отмеривал пешком весь неблизкий путь домой – в доходный дом на Ист-Ривер. Он выбрал это жилье потому, что всего за два пятьдесят в неделю в его распоряжение предоставлялся весь верхний этаж – колоссальных размеров помещение, которое раньше использовалось под склад. В нем не было потолка, а крыша протекала. Но зато здесь по обе стороны тянулись два ряда окон, где в некоторых рамах даже сохранились стекла, а другие были заделаны картонными листами. С одной стороны из этих окон открывался вид на реку, а с другой – на город.
Неделю назад Камерон заглянул в чертежную и швырнул на стол Рорка размашистый набросок с изображением загородного дома.
– Посмотрим, сумеешь ли ты из этого сделать настоящий дом! – рявкнул он и ушел, не вдаваясь в дальнейшие объяснения. В последующие дни он не приближался к столу Рорка. Вчера вечером Рорк закончил чертежи и оставил их на столе Камерона. Утром Камерон зашел, кинул Рорку эскиз каких-то стальных перекрытий, приказал ему потом зайти в кабинет и больше в течение всего дня в чертежной не появлялся.
Остальные ушли домой. Прикрыв стол старой клеенкой, Рорк вошел в кабинет Камерона. На столе у того были разложены Рорковы чертежи загородного дома. Свет лампы падал на щеку Камерона, на бороду, в которой белели седые волоски, на его кулак, на угол чертежа, четкие линии которого словно впечатались в бумагу.
– Ты уволен, – сказал Камерон.
Рорк стоял посреди вытянутой комнаты, перенеся всю тяжесть тела на одну ногу, свесив руки по бокам, приподняв одно плечо.
– Да? – тихо спросил он, не шелохнувшись.
– Иди сюда, – сказал Камерон. – Садись.
Рорк подчинился.
– Ты слишком хорош, – сказал Камерон. – Слишком хорош для той судьбы, которую сам себе готовишь. Бессмысленно, Рорк. Лучше понять это сейчас, чем потом, когда будет поздно.
– Что вы хотите сказать?
– Бессмысленно тратить отпущенные тебе годы на идеал, которого ты никогда не достигнешь, которого тебе просто не дадут достичь. Бессмысленно превращать свой талант в дыбу, на которой сам же и будешь распят. Продай его, Рорк. Продай сейчас. Конечно, это будет уже не то, но все же тебя на это хватит. У тебя есть то, за что будут платить, и много платить, если ты будешь использовать свой талант так, как они пожелают. Не отвергай их, Рорк. Иди на компромисс. Иди немедленно – потом все равно придется согласиться на компромисс, только тогда тебе придется пройти через такое, о чем потом придется горько сожалеть. Ты этого не знаешь. А я знаю. Избавь себя от этого. Уходи от меня. Уходи к кому-нибудь другому.
– А вы разве так поступили?
– Ты нахальный выродок! Я сказал, что ты хорош, но не более того! С кем ты себя равнять вздумал? С самим… – Он резко замолчал, так как увидел, что Рорк улыбается. Он посмотрел на Рорка и вдруг улыбнулся в ответ. Ничего более мучительного Рорку еще не доводилось видеть. – Нет, – сказал Камерон, – что-то я не то говорю, да? Совсем не то… В общем, ты прав. Ты верно себя оцениваешь. Но я хочу сказать тебе кое-что. Даже не знаю, с чего начать. Я утратил навык общаться с такими людьми, как ты. Утратил? Скорее всего, никогда не имел. Возможно, именно это меня сейчас и пугает. Постарайся понять, пожалуйста.
– Я все понимаю. Не тратьте времени впустую.
– А ты не груби. Потому что сейчас я не могу позволить себе грубить тебе. Я хочу, чтобы ты выслушал меня. Ты можешь выслушать и не перебивать?
– Да. Простите. Я не хотел быть невежливым.
– Понимаешь, я последний человек из всех, к кому тебе стоило обратиться. Если я оставлю тебя здесь, я совершу преступление. Жаль, что никто не предостерег тебя от меня. Я совсем не смогу тебе помочь. Я не сумею сбить с тебя кураж. Не сумею привить тебе здравый смысл. Вместо этого я буду подталкивать тебя, тащить тем же путем, каким ты идешь сейчас. Я силой заставлю тебя оставаться таким, какой ты есть, и сделаю тебя еще хуже… Пойми же. Через месяц я уже не смогу расстаться с тобой. Даже не уверен, что смогу сейчас. Так что не спорь со мной и уходи. Спасайся, пока не поздно.
– Но как? Вам не кажется, что нам обоим уже поздно спасаться? Мне и двенадцать лет назад было поздно.
– Попытайся, Рорк. Попытайся хоть раз проявить благоразумие. Есть много крупных фирм, которые возьмут тебя и не посмотрят на то, что тебя исключили из института, если я их попрошу. Они могут потешаться надо мной в своих речах на званых обедах, но, когда им надо, беззастенчиво крадут у меня и прекрасно знают, что я сумею разобраться, хорош чертежник или плох. Я дам тебе письмо к Гаю Франкону. Когда-то давным-давно он у меня работал. Кажется, я его уволил, но это не имеет значения. Иди к нему. Поначалу тебе там не понравится, но ты привыкнешь. А через много лет будешь меня благодарить.
– Зачем вы мне все это говорите? Вы же хотите сказать совсем другое. И сами вы шли совсем другим путем.
– Потому я это и говорю! Именно потому, что сам шел другим путем!.. Понимаешь, Рорк, есть у тебя одна черта, которая меня очень пугает. Тут дело не в том, что выходит из-под твоего карандаша. Меня бы не тревожило, если бы ты был просто одаренным пижоном, который все делает не так, как другие, просто для смеха, для забавы, для того, наконец, чтобы на него обратили внимание. Это ловкий ход – одновременно и противостоять толпе, и забавлять ее, потихоньку собирая денежки за вход на персональную выставку. Если бы дело обстояло так, я бы не беспокоился. Но все не так. Ты влюблен в свое ремесло. Господь тебя спаси, ты влюблен! А это проклятье. Это клеймо на лбу, выставленное на всеобщее обозрение. Ты не можешь жить без своей работы, и они об этом знают, и еще знают, что тут-то ты и попался! Ты когда-нибудь приглядывался к людям на улице? Я приглядывался. Они проходят мимо тебя, все в шляпах, со свертками… Но не в этом их суть. А суть их в том, что они ненавидят каждого, кто влюблен в свое ремесло. Более того, они их боятся, уж не знаю почему. Ты им подставляешься, Рорк, всем и каждому!
– Но я никогда не вижу людей на улице.
– А что они со мной сделали, ты видишь?
– Я вижу только, что вы их не боитесь. Почему же вы хотите, чтобы я их боялся?
– Почему? – Камерон подался вперед, сжав кулаки: – Рорк, хочешь, чтобы я произнес это вслух? Ты ведь жесток, да, Рорк? Ладно же, я произнесу: ты хочешь закончить так, как заканчиваю я? Ты хочешь быть тем, чем стал я?
Рорк поднялся и шагнул вперед, к самому столу.
– Если, – сказал Рорк, – в конце жизни я стану тем, кем вы являетесь здесь и сейчас, я буду считать это честью, которой я не заслужил и не мог бы заслужить ни при каких обстоятельствах.
– Да сядь ты! – рявкнул Камерон. – Терпеть не могу, когда выставляют напоказ свои чувства!
Рорк посмотрел на себя, на стол, крайне удивленный тем, что оказался на ногах. Он сказал:
– Простите. Я даже не заметил, что встал.
– Ну так садись и слушай. Я все понимаю. И это очень мило с твоей стороны. Но ты так ничего и не понял. Мне казалось, что нескольких дней работы в этой дыре хватит, чтобы выбить из твоей башки поклонение героям. Но теперь вижу, что этого оказалось недостаточно. Вот ты теперь сам себе внушаешь, какой великий человек старик Камерон, благородный боец, мученик за безнадежно проигранное дело, и ты уже готов умереть со мной на баррикадах и питаться со мной в грошовых забегаловках до конца дней своих. Я знаю, сейчас все это кажется тебе таким чистым и прекрасным с высоты твоей умудренности жизнью в двадцать два года. Но знаешь ли ты, что это такое на самом деле? Тридцать лет сплошных поражений. Звучит великолепно, не так ли? Но известно ли тебе, сколько дней в тридцати годах? Известно, как проходят эти дни? Известно?
– Вам же больно об этом говорить.
– Да! Больно! Но я буду говорить. Я хочу, чтобы ты выслушал, Чтобы ты понял, что тебя ожидает. Придут дни, когда ты посмотришь на свои руки, и тебе захочется взять что-нибудь тяжелое и переломать в них каждую косточку, потому что ты будешь терзаться мыслью о том, что могли бы сотворить эти руки, если бы ты изыскал для них такую возможность. Но тебе не удастся найти ни малейшей возможности, и ты возненавидишь собственное тело, потому что оно осталось безруким. Придут дни, когда водитель начнет орать на тебя, едва ты войдешь в автобус. Он всего лишь потребует десять центов за проезд, но ты услышишь совсем другое. Ты услышишь, что ты ничтожество, что ты смешон, что это у тебя на лбу написано и все ненавидят тебя за эту никчемность. Придут дни, когда ты будешь стоять в уголке зала и слушать рассуждения какого-то кретина об архитектуре, о деле, которое ты до безумия любишь, и сказанное им заставит тебя надеяться, что кто-нибудь сейчас встанет и раздавит его, как вонючего клопа. А потом ты услышишь, как все бешено рукоплещут ему, и тебе захочется взвыть, потому что непонятно, кто же настоящий – ты или они. То ли тебя засунули в каморку, полную разбитых черепов, то ли, наоборот, кто-то только что вышиб мозги из твоей головы. И ты ничего не скажешь, ибо те звуки, которые ты будешь в состоянии издать, в этом зале уже не считаются человеческим языком. Но если ты и захочешь говорить, то все равно не сможешь, тебя небрежно оттолкнут – ведь тебе совершенно нечего сказать им об архитектуре. Этого тебе хочется?
Рорк сидел неподвижно, на лице его резко пролегли тени, на впалой щеке отпечатался темный клин, длинный черный треугольник перерезал подбородок. Он не сводил глаз с Камерона.
– Тебе мало? – спросил Камерон. – Ладно, поехали дальше! Однажды ты увидишь перед собой на листе ватмана дом, перед которым тебе захочется упасть на колени. Ты не поверишь, что его создал ты сам. Потом ты решишь, что мир прекрасен, и в воздухе пахнет весной, и ты любишь всех людей, потому что в мире больше нет зла. И ты выйдешь из квартиры с этим чертежом, чтобы построить этот дом, поскольку тебе совершенно ясно, что такой дом захочется возвести каждому, кто взглянет на твой чертеж. Но далеко от квартиры ты не уйдешь. Ведь у дверей тебя остановит газовщик, который пришел отключить газ. Ты ел немного, так как экономил деньги, чтобы закончить проект, но все же иногда надо было что-то сготовить, а за газ ты не заплатил… Ну ладно, это мелочи, над этим можешь посмеяться. Но вот ты со своим чертежом попадаешь в чей-нибудь кабинет, ругая себя за то, что вытесняешь своим телом воздух, принадлежащий другому, и ты постараешься ужаться до невидимости, чтобы другой тебя не видел, а только слышал твой голос, умоляющий его, просительный голос, лижущий ему пятки. Ты будешь проклинать себя за это, но это будет неважно, только бы он дал тебе построить этот дом. Ты готов будешь распороть себе брюхо – ведь когда он увидит, что там, в этом брюхе, то уже не сможет отказать тебе. Но он лишь скажет, что ему очень жаль, но подряд только что отдан Гаю Франкону. И ты пойдешь домой, и знаешь, что ты будешь делать дома? Ты будешь плакать. Плакать, как женщина, как алкоголик, как животное. Вот какое тебя ждет будущее, Говард Рорк. Хочешь его?
– Да, – сказал Рорк.
Камерон опустил глаза. Немного опустил голову, потом еще немного. Голова его опускалась медленно, рывками, и наконец остановилась. Он сидел неподвижно, сгорбив плечи, упираясь локтями в колени.
– Говард, – прошептал Камерон. – Такого я никому еще не говорил…
– Спасибо вам… – сказал Рорк.
После долгой паузы Камерон поднял голову.
– Теперь иди домой, – сказал он решительно. – Ты слишком много работал в последнее время. А впереди у тебя тяжелый день. – Он показал на чертежи загородного дома: – Все это замечательно. Мне просто хотелось взглянуть, на что ты способен. Только строить еще нельзя, плоховато будет. Так что придется все переделать. Завтра я тебе покажу, что мне нужно.
V
За год работы в фирме Франкона и Хейера Китинг приобрел статус кронпринца. Громко об этом не говорили, но перешептывались. Оставаясь всего лишь чертежником, он стал всевластным фаворитом Франкона, и тот постоянно брал его с собой обедать. Подобной привилегии еще не удостаивался ни один из служащих. Франкон вызывал его на все беседы с заказчиками, которым, видимо, приятно было увидеть столь декоративного молодого человека в архитектурном бюро.
У Лусиуса Н. Хейера была неприятная привычка ни с того ни с сего спрашивать Франкона: «Как давно у вас этот новичок?», показывая при этом на служащего, проработавшего здесь уже три года. Но, к всеобщему удивлению, Хейер запомнил Китинга по имени и при каждой встрече улыбался ему, всем своим видом показывая, что узнал его. В один ненастный ноябрьский день Китинг долго и обстоятельно беседовал с ним о старом фарфоре. Это было хобби Хейера; он владел прославленной коллекцией, которую собирал с истинной страстью. Китинг проявил неплохое знание предмета, хотя впервые услышал о старом фарфоре лишь накануне вечером, после чего тут же отправился в публичную библиотеку. Хейер был в восторге; никто во всем бюро не проявлял к его увлечению ни малейшего интереса; мало кто вообще замечал его присутствие. В беседе с партнером Хейер не преминул заметить:
– Ты очень неплохо подбираешь людей, Гай. Этот паренек… как бишь его?.. Китинг – просто клад.
– О да, – улыбаясь, ответил Франкон. – О да.
В чертежной Китинг сосредоточил все усилия на Тиме Дейвисе. Сама по себе работа, готовые чертежи, были неизбежными, но несущественными деталями в трудовой жизни Китинга. Сутью же ее на этом начальном этапе профессиональной карьеры стал Тим Дейвис.
Большую часть собственной работы Дейвис теперь перепоручал ему. Поначалу это касалось лишь сверхурочной работы, потом и некоторой части дневных заданий. Вначале это делалось тайком, потом открыто. Дейвис не хотел, чтобы об этом знали; Китинг устроил так, что об этом узнали все, приняв при этом наивно-доверительный тон, как бы подразумевая, что сам он, Китинг, не более чем инструмент, наподобие карандаша или рейсшины в руках Тима, а его помощь никак не умаляет, но лишь подчеркивает высочайшее мастерство Тима. Именно поэтому он, Китинг, и не считает нужным скрывать этот факт.
Сначала Дейвис передавал свои задания Китингу; затем старший чертежник стал принимать такое положение вещей как само собой разумеющееся и начал приходить к Китингу напрямую с поручениями, предназначенными для Дейвиса. Китинг был всегда готов, всегда с улыбкой говорил: «Я все сделаю. Не приставайте к Тиму с такими мелочами. Я справлюсь сам». Дейвис успокоился и пустил дело на самотек. Он беспрестанно выходил покурить, слонялся без дела по чертежной или сидел на табуретке, праздно закинув ногу за ногу, прикрыв глаза и грезя об Элен. Лишь изредка он лениво осведомлялся: «Ну что, Пит, готово?»
Весной Дейвис женился на Элен. Он стал часто опаздывать на работу и завел обыкновение шептать на ухо Китингу:
– Слушай, Пит, ты ведь со стариком в дружбе. Замолви за меня словечко, ладно, чтобы не особо ко мне придирался? Господи, ну что за наказание – работать в такое время!
А Китинг говорил Франкону:
– Простите, мистер Франкон, что мы запоздали с чертежами подвального этажа для дома Мюрреев, но, понимаете, вчера Тим Дейвис повздорил с женой, а вы ведь представляете себе, что такое новобрачные, так что, пожалуйста, не судите их строго. – Или: – Это опять из-за Тима, мистер Франкон, простите его, пожалуйста, он ничего поделать не моет. Ему сейчас не до работы!
Когда Франкон заглянул в платежную ведомость своего бюро, он обратил внимание, что самый высокооплачиваемый чертежник одновременно и самый бесполезный.
Когда Тима Дейвиса уволили, никто в бюро не удивился, кроме самого Тима Дейвиса. Он ничего не мог понять и ожесточился на весь мир до конца дней своих. Еще он почувствовал, что в целом свете у него есть только один друг – Питер Китинг.
Китинг утешал его, проклинал Франкона, проклинал людскую несправедливость, потратил шесть долларов, угощая в ресторанчике знакомую секретаршу плохонького архитектора, и нашел новое место для Тима Дейвиса.
После этого он всякий раз вспоминал о Дейвисе с теплым и приятным чувством. Он изменил судьбу человека, вышвырнул его с одной тропы и запихнул на другую; человека, который для Китинга был уже не Тимом Дейвисом, а лишь абстрактным телом, наделенным сознанием. Почему он всегда так боялся этого непостижимого явления – сознания, которым наделены другие? Ведь ему, Китингу, удалось направить чужое тело и чужое сознание по иному пути, согласно его, Китинга, воле.
По единодушному решению Франкона, Хейера и старшего чертежника место Дейвиса, вместе с рабочим столом и жалованьем, было передано Питеру Китингу. Но не только это радовало Китинга, более сильное – и более опасное – удовлетворение доставляло ему другое ощущение. Он часто и весело повторял: «Тим Дейвис? Ах да, это тот, которому я нашел новое место».
Он написал об этом матери. Она заявила подругам: «Мой Пит такой бескорыстный мальчик».
Он послушно писал ей каждую неделю. Письма его были короткими и почтительными. От нее же он получал письма длинные, подробные, полные разных советов. Он редко дочитывал их до конца.
Иногда он заглядывал к Кэтрин Хейлси. После того памятного вечера он не сдержал обещания прийти на другой день. Утром он проснулся, вспомнил все, что говорил ей, и возненавидел ее за то, что сказал ей такое. Но через неделю он вновь пришел к ней. Она не стала упрекать его, и они ни словом не обмолвились о ее дяде. После этого он встречался с ней раз в месяц или в два. Он был счастлив видеть ее, но никогда не заговаривал с ней о работе.
Он попробовал поговорить об этом с Говардом Рорком, но попытка не увенчалась успехом. Он дважды заходил к Рорку, с остервенением преодолевая пять лестничных маршей до его комнаты. Он радовался встрече с Говардом, ожидая получить у него поддержку. Питер и сам не понимал, какого рода поддержку он хочет получить и почему ее надо искать именно у Рорка. Он рассказывал о своей работе и с искренней заинтересованностью расспрашивал Рорка о бюро Генри Камерона. Говард выслушивал его, охотно отвечал на все вопросы, но при этом у Китинга возникало ощущение, будто все его слова разбиваются о стальной щит в сосредоточенном взгляде Рорка и будто они говорят о совершенно разных вещах. Во время бесед Китинг замечал обтрепанные манжеты Рорка, его стоптанные ботинки, заплатку на колене – и испытывал большое удовлетворение. Уходил он посмеиваясь, но одновременно ощущал себя как-то очень неуютно. Он не понимал, откуда бралось это неприятное ощущение, и клялся сам себе, что ноги его больше у Рорка не будет, и недоумевал – отчего же он ничуть не сомневается, что придет сюда еще не раз?
– Ну знаешь, – сказал Китинг, – у меня пороху не хватит так сразу пригласить ее на обед, но послезавтра она идет со мной на выставку Моусона. А дальше-то что?
Он сидел на полу, опираясь головой на край дивана и вытянув перед собой босые ноги. На нем свободно болталась пижама цвета ликера «Шартрез», принадлежавшая Гаю Франкону.
Через распахнутую дверь ванной он видел Франкона, который стоял возле раковины, упираясь животом в ее сверкающий край. Франкон чистил зубы.
– Прекрасно, – сказал Франкон. Рот его был полон пасты. – Так будет ничуть не хуже. Ты, конечно, понимаешь, что я имею в виду?
– Нет.
– Господи, Пит, я же тебе вчера объяснил, еще до того, как все началось. Муж миссис Данлоп хочет построить для нее дом.
– Ах да, – слабым голосом ответил Китинг, убирая с лица слипшиеся черные кудри. – Теперь вспомнил… Боже мой, Гай, как трещит голова!..
Он смутно припомнил званый ужин, на который Франкон привел его вчера вечером. Припомнил замороженную черную икру, которую подавали в глыбе льда, припомнил симпатичное лицо миссис Данлоп и ее черное вечернее платье из тюля, но так и не мог вспомнить, каким же образом он очутился здесь, в квартире Франкона. Он пожал плечами – в последний год он нередко бывал на разных приемах вместе с Франконом, и частенько его приносили сюда в беспамятстве.
– Это не очень большой дом, – говорил Франкон, засунув в рот зубную щетку. От этого на одной его щеке образовалась выпуклость, а изо рта торчала зеленая ручка щетки. – Тысяч примерно на пятьдесят. Мелочовка, да и сами Данлопы тоже. Но у миссис Данлоп есть сестра, которая замужем за самим Квимби… тем самым крупнейшим торговцем недвижимостью. Так что вовсе не повредит заполучить подходец к этому семейству. И тебе, Пит, я поручаю разузнать, что еще можно выжать из этого заказа. Могу я на тебя рассчитывать?
– Конечно, – сказал Китинг, опустив голову. – Ты можешь на меня рассчитывать во всем, Гай…
Он сидел неподвижно, разглядывая пальцы босых ног, и думал о Штенгеле, проектировщике Франкона. Он не хотел о нем думать, но мысли его автоматически возвращались к Штенгелю. И так было уже несколько месяцев – ведь Штенгель воплощал собой вторую ступеньку его карьеры.
Для дружеских отношений Штенгель был недосягаем. Два года все попытки Китинга ломались об лед его очков. Мнение Штенгеля о нем шепотом пересказывалось в бюро, но немногие решались произнести его вслух, разве что предварительно расставив кавычки. Штенгель же высказывался открыто, хотя прекрасно знал, что все исправления, с которыми его эскизы возвращались от Франкона, сделаны рукой Китинга. Но у Штенгеля было одно уязвимое место: он давно уже подумывал уйти от Франкона и открыть собственное бюро. Он уже подыскал себе партнера, молодого архитектора, совершенно бездарного, но унаследовавшего крупное состояние. Штенгель лишь дожидался благоприятной возможности. Китинг очень много размышлял над этим. Он просто не мог думать ни о чем другом. И теперь, сидя на полу в спальне Франкона, он тоже думал об этом.
Через два дня, сопровождая миссис Данлоп по галерее, где экспонировались картины некоего Фредерика Моусона, он окончательно определился с планом действий. Китинг вел миссис Данлоп через жиденькую толпу, иногда брал ее под локоток, позволяя ей уловить его взгляд, чаще направленный на ее молодое лицо, чем на картины.
– Да, – сказал он, когда она послушно разглядывала пейзаж, изображающий автомобильную свалку, и старалась придать лицу выражение надлежащего восторга. – Замечательное произведение. Обратите внимание на цвета, миссис Данлоп… Говорят, этому Моусону крепко досталось в жизни. Обычная история – борьба за признание и все такое. Старо как мир, но очень трогательно. Так происходит в любом искусстве. Включая и мою профессию.
– Ах, неужели? – сказала миссис Данлоп. Судя по выражению ее лица, в этот момент она явно предпочитала архитектуру всем прочим искусствам.
– А вот здесь, – сказал Китинг, остановившись перед изображением старой карги, которая сидела на обочине дороги и, разувшись, ковыряла пальцы ног, – здесь искусство выступает в роли социально-критического документа. Восприятие такого искусства требует смелости.
– Какая великолепная картина! – вставила миссис Данлоп.
– Да-да, именно смелости. Это редкое качество… Говорят, что Моусон умирал от голода на своем чердаке, когда миссис Стювесант открыла его. Помочь становлению молодого таланта – это так благородно!
– Да, это возвышает, – согласилась миссис Данлоп.
– Если бы я был богат, – мечтательно проговорил Китинг, – то у меня было бы такое хобби. Я устраивал бы выставки молодых художников, финансировал концерты молодых пианистов, заказал бы постройку дома начинающему архитектору…
– А знаете, мистер Китинг, ведь мы с мужем собираемся построить небольшой домик на Лонг-Айленде.
– Да что вы говорите? Миссис Данлоп, вы так мило доверили мне эту новость. Вы еще так молоды, извините за такие слова. Вы не боитесь, что я начну докучать вам, стараясь заинтересовать вас моей фирмой? Или избавили себя от такой напасти, уже подыскав архитектора?
– Отнюдь не избавила, – любезно отвечала миссис Данлоп. – И, честно говоря, вовсе не боюсь такой напасти. За последние дни я много думала о фирме «Франкон и Хейер». Я слышала о них столько хорошего!
– О, вы так любезны, миссис Данлоп.
– Мистер Франкон – великий архитектор.
– О да!
– А что такое?
– Нет, ничего. Решительно ничего.
– Вы все же скажите.
– Вы действительно хотите это услышать?
– Да, разумеется.
– Видите ли, Гай Франкон – это просто громкое имя. Он сам вообще не будет заниматься вашим домом. Это один из профессиональных секретов, который мне не следовало бы разглашать, но в вас есть нечто такое, что заставляет меня быть с вами откровенным. Все лучшие дома, созданные в нашей фирме, спроектировал мистер Штенгель.
– Кто?
– Клод Штенгель. Вы не слышали этого имени, но непременно услышите, если у кого-нибудь хватит смелости открыть его. Понимаете, всю работу делает он, он и есть настоящий, хоть и незаметный, талант, но Франкон ставит свою подпись и стяжает все лавры. Так делается повсюду.
– Но почему мистер Штенгель терпит такое?
– А что ему остается делать? Никто не хочет предоставить ему возможность работать самостоятельно. Вы же знаете, как устроены большинство людей – все хотят идти проторенными путями и готовы заплатить втридорога за тот же товар, лишь бы на нем стояло клеймо известной фирмы. Смелости им не хватает, миссис Данлоп, смелости. Штенгель великий мастер, но очень немногим дано это понять. Он готов открыть собственное дело, если только найдется выдающаяся личность вроде миссис Стювесант, которая предоставит ему такой шанс.
– Надо же! – воскликнула миссис Данлоп. – Как интересно! Расскажите-ка поподробнее.
И он рассказал. К тому времени, как они закончили осмотр творений Фредерика Моусона, миссис Данлоп уже трясла его руку и говорила:
– Так любезно, так изумительно мило с вашей стороны! Вы уверены, что не попадете в неловкое положение перед вашей фирмой, если устроите мне встречу с мистером Штенгелем? Я сама все как-то не осмеливалась это предложить, а вы так добры, что, надеюсь, не рассердитесь на меня за это, ведь правда? Вы проявили такое бескорыстие, на которое никто на вашем месте не отважился бы.
Когда Китинг подошел к Штенгелю с приглашением отобедать с миссис Данлоп, тот выслушал его, не проронив ни слова. Затем он резко тряхнул головой и столь же резко спросил:
– А ты-то с этого что будешь иметь?
Китинг не успел ответить. Штенгель внезапно выпрямился.
– Ага, – сказал он. – Все ясно. – Он снова наклонился, скривив губы в презрительной усмешке. – Хорошо. Я приду на этот обед.
Когда Штенгель уволился от Франкона и Хейера, открыл собственное бюро и, тут же получив свой первый заказ от Данлопов, приступил к проектировке их дома, Гай Франкон сломал линейку о край стола и заорал, повернувшись к Китингу:
– Какой негодяй! Какой гнусный негодяй! После всего, что я для него сделал!
– Чего же ты хочешь? – спросил Китинг, развалившись в низком кресле. – Такова жизнь.
– Вот чего я никак в толк не возьму – как этот вонючка пронюхал о заказе? Ведь прямо из-под носа у нас увел!
– Я никогда ему особенно не доверял. – Китинг пожал плечами. – Натура человеческая…
В голосе Китинга звучала неподдельная обида. Ведь он так и не дождался благодарности от Штенгеля. На прощание тот лишь бросил ему: «А ты еще больший мерзавец, чем мне казалось. Что ж, будь счастлив! Из тебя получится великий архитектор».
Так Китинг получил место главного проектировщика у Франкона и Хейера.
Франкон отметил это событие небольшой скромной оргией в одном из уютных дорогих ресторанов.
– Через пару лет, – все твердил он, – через пару лет мы такое закрутим, Пит… Ты славный парень, и я тебя люблю, и я для тебя готов на все… Разве я тебе не помогал?.. Ты еще такое увидишь… через пару лет…
– Гай, у тебя галстук съехал набок, – сухо заметил Китинг. – И не поливай коньяком жилетку…
Получив первое задание по разработке проекта, Китинг вспомнил о Тиме Дейвисе, о Штенгеле, о других, которые к этому стремились, боролись, старались – и ничего у них не получилось. Ибо всех победил он, Питер Китинг. Его переполняло чувство торжества – ведь он получил ощутимое доказательство собственного величия. И тут он заметил, что сидит в своем кабинете со стеклянными стенками совсем один и смотрит на чистый лист бумаги. Совсем один. Что-то прокатилось из горла в желудок, холодное, пустое. Это было знакомое ощущение полета в пропасть. Он облокотился о стол и прикрыл глаза. До этого момента ему как-то не вполне верилось, что от него действительно ждут, чтобы он на этом листе бумаги что-то изобразил… что-то создал.
Собственно, требовалось создать совсем небольшой коттедж. Но дом никак не вырастал перед его мысленным взором. Более того, очертания будущего строения предстали перед ним в виде глубокой ямы в земле. И такую же яму он почувствовал в себе самом – пустоту, в которой только бессмысленно трещали о чем-то Штенгель и Дейвис… Об этом доме Франкон сказал ему: «В нем должно быть благородство, понимаешь, благородство… никаких выкрутасов… строгая гармония… И не вылезай из сметы». Это, по представлениям Франкона, и означало «дать проектировщику общую концепцию и предоставить ему возможность самостоятельно проработать детали». В холодном оцепенении Китинг представил себе, как клиенты смеются ему в лицо; он услышал тихий, но полный силы голос Эллсворта Тухи, призывающий его обратить внимание на великолепные возможности, открывающиеся в области сантехники. Все сооружения, возведенные человеком на земле, стали ему ненавистны. Он ненавидел сам себя за то, что избрал профессию архитектора.
Начав рисовать, он старался не думать о том, что делает. Он думал только о том, что ведь это делали и Франкон, и Штенгель, и даже Хейер, и другие тоже, и если уж у них получалось, то непременно получится и у него.
Он потратил много дней на предварительные эскизы. Часами он не вылезал из служебной библиотеки, выбирая внешний облик дома из множества фотографий памятников античной архитектуры. Он чувствовал, как в мозгу его тает напряжение. Дом, который начинал у него получаться, – это правильный дом, хороший дом. Ведь люди не перестали поклоняться древним мастерам, строившим подобные дома много веков назад. Не надо сомневаться, бояться, не надо рисковать. За него все уже сделали другие.
Когда эскизы были готовы, он долго стоял над ними и смотрел на них в полной растерянности. Если бы ему сказали, что это самый лучший дом в мире или что здания уродливее еще не существовало на земле, он охотно согласился бы и с тем и с другим. Он не знал наверняка. А надо было знать. Он вспомнил о Стентоне, о том, что делал в те годы, работая над сходными заданиями. И тут же позвонил в бюро Камерона и попросил позвать Говарда Рорка.
Вечером он пришел в комнату Рорка и разложил перед ним планы, проекции, объемные изображения первого своего здания.
Рорк постоял над ними, широко расставив руки и держась пальцами за край стола. Долгое время он молчал.
Китинг тревожно ждал и чувствовал, как вместе с тревогой в нем нарастает гнев – из-за того, что он никак не мог понять причину своей тревоги. Когда он больше не мог этого вынести, он заговорил:
– Понимаешь, Говард, все говорят, что Штенгель – лучший проектировщик в городе, и, по-моему, он еще не собирался уходить от нас. Но я устроил так, что он уволился, а сам занял его место. Мне пришлось над этим здорово пошевелить мозгами, и я…
Он остановился. Его слова звучали отнюдь не гордо и весело, как звучали бы в любом другом месте. Они звучали как слова нищего попрошайки.
Рорк повернулся и посмотрел на него. В этом взгляде не было презрения. Глаза Рорка были лишь приоткрыты шире обычного, внимательные и озадаченные. Рорк ничего не сказал и вновь склонился над эскизами.
Китинг почувствовал себя голым и беззащитным. Здесь ничего не значили имена Дейвиса, Штенгеля, Франкона. От людей Китинга защищали только люди, Рорк же совсем не ощущал людей. От других Китинг получал ощущение собственной значимости. От Рорка он не получал ничего. У него мелькнула мысль, что надо бы схватить эскизы и бежать отсюда. Опасность исходила не от Рорка. Опасность заключалась в том, что он, Китинг, остается здесь.
Рорк повернулся к нему:
– Питер, тебе нравится заниматься такими вещами?
– Я знаю, – почти истерично отозвался Китинг, – я знаю, что ты такого не одобряешь. Но это бизнес. Я только хотел спросить, что ты думаешь об этом с практической точки зрения. Не с философской, не…
– Не беспокойся. Я не собираюсь читать тебе проповедей. Просто интересно стало.
– Если бы ты только согласился помочь мне, Говард, чуть-чуть помочь… Это ведь мой первый дом, он так много для меня значит, и для моей работы тоже… а я все как-то сомневаюсь. А тебе как кажется? Так ты поможешь мне, Говард?
– Хорошо.
Рорк отбросил в сторону эскиз красивого фасада с рифлеными пилястрами[32], ломаными фронтонами, ликторскими пучками прутьев[33] и двумя имперскими орлами у портика. Он взял чертеж и, положив поверх него лист кальки, принялся чертить. Китинг стоял, наблюдая за карандашом в руках Рорка. Он увидел, как исчезают внушительный вестибюль, кривые коридоры, неосвещенные углы. Он увидел, как в объеме, который сам он посчитал недостаточным, вырастает огромная гостиная, появляется стена, состоящая из гигантских окон, выходящих в сад, просторная кухня. Смотрел он долго.
– А фасад? – спросил он, когда Рорк отбросил карандаш.
– с ним я тебе помочь не могу. Если обязательно нужна классика, пусть будет классика, только хорошая. Не нужны три пилястры там, где хватит одной. И убери с портика этих уток – это уж чересчур.
Уходя, Китинг благодарно улыбнулся ему. Держа папку под мышкой, он спускался по лестнице, исполненный обиды и злости.
Три дня он трудился, изготовляя чертежи по эскизам Рорка и новые, упрощенные проекции. Свой дом он представил Франкону гордым, несколько витиеватым жестом.
– М-да, – сказал Франкон, изучая чертежи. – М-да, доложу я вам!.. Ну и воображение у тебя, Питер… Несколько смеловато, пожалуй, но все-таки… – Кашлянув, он добавил: – Это именно то, что я имел в виду.
– Разумеется, – ответил Китинг. – Я изучил твои дома и постарался представить себе, что бы ты сделал на моем месте. Если получилось неплохо, так только потому, что я научился понимать твои замыслы.
Франкон улыбнулся, и Китинг вдруг понял, что Франкон не верит ни одному его слову и прекрасно знает, что и Китинг ничему этому не верит. И все же оба были очень довольны. Общий метод и общая ложь еще больше сплотили их.
Письмо, лежащее на столе у Камерона, с искренним сожалением извещало его, что совет директоров Трастовой компании ценных бумаг после тщательного рассмотрения вынужден был отклонить его проект здания для нового филиала вышеозначенной компании в городе Астория[34] и что заказ передан фирме «Гулд и Петтингилл». К письму был приложен чек на заранее оговоренную сумму в уплату за затраченные усилия. Эта сумма не покрывала даже расходов на материалы, пошедшие на подготовку проекта.
Развернутое письмо лежало на столе. Камерон сидел у стола, отодвинувшись подальше, не притрагиваясь к нему, плотно сжав ладонь, лежащую на коленях, напряженными пальцами другой руки. Это был всего-навсего листок бумаги, но Камерону казалось, будто от этого листка, как от радия, исходят невидимые лучи, которые поразят его, если он только пошевелится. И он сидел, съежившись, в полной неподвижности.
Он ждал заказа от этой компании три месяца. За последние два года те немногие предложения, которые изредка еще делались ему, исчезали одно за другим, начинаясь туманными обещаниями и оканчиваясь однозначным отказом. Давно пришлось расстаться с одним из чертежников. Домовладелец приставал с вопросами – сначала вежливо, потом сухо и, наконец, грубо и без всякого стеснения. Но никого в бюро не раздражали ни выходки домовладельца, ни задержки жалованья: ведь у них была надежда на заказ от Трастовой компании. Вице-президент компании, предложивший Камерону выдвинуть свой проект, заявил: «Я знаю, что в совете директоров не все разделяют мое мнение. Но дерзайте, мистер Камерон. Доверьтесь мне, а я буду за вас бороться».
Камерон доверился. Они с Рорком работали как проклятые – лишь бы все закончить вовремя, задолго до назначенного срока, прежде чем Гулд и Петтингилл представят свой проект. Петтингилл был двоюродным братом жены президента компании и крупнейшим специалистом по развалинам Помпеи. Сам же президент был страстным поклонником Юлия Цезаря и как-то раз, будучи в Риме, целых полтора часа благоговейно изучал Колизей.
Камерон и Рорк сутками не вылезали из чертежной, встречая один холодный рассвет за другим. Камерон невольно ловил себя на мысли о счете за электричество, но тут же заставлял себя забыть о нем. Далеко за полночь в чертежной еще горел свет; Камерон посылал Рорка за бутербродами. Рорк, выходя на улицу, попадал в серое утро – в бюро, в окнах, выходящих на высокую кирпичную стену, еще царила ночь. В последний день Рорк велел Камерону отправляться домой сразу после полуночи, потому что у того немилосердно дрожали руки, а нога постоянно искала опоры в виде высокого табурета, на который Камерон медленно и очень аккуратно ставил колено. Именно на эту аккуратность было больнее всего смотреть. Рорк отвел учителя вниз, усадил в такси, и в свете уличных фонарей Камерон увидел его лицо, изможденное, с сухими губами, увидел глаза, которые закрывались сами собой. На другое утро Камерон вошел в чертежную и сразу же увидел на полу опрокинутый кофейник, вокруг которого расплылась черная лужица. В этой лужице, ладонью вверх, лежала рука Рорка с полусогнутыми пальцами. Рорк, растянувшись на полу и запрокинув голову, крепко спал. На столе Камерон обнаружил законченный проект…
Он сидел, глядя на письмо, лежащее на столе. Самое унизительное заключалось в том, что он даже не мог думать о тех бессонных ночах, о здании, которое должно было подняться в Астории, о здании, которое теперь появится там вместо него. В голове осталась лишь мысль о неоплаченном счете за электричество…
За эти последние два года Камерон иногда неделями не появлялся в бюро, а Рорк не находил его дома и прекрасно понимал, что происходит, но мог только ждать, уповая на благополучное возвращение Камерона. Потом Камерон даже перестал стыдиться своих мук и приходил на работу покачиваясь, никого не узнавая. Мертвецки пьяный, он выставлял свое состояние напоказ в стенах того единственного на земле места, к которому относился с уважением.
Рорк научился встречать своего домовладельца спокойным утверждением, что не сможет расплатиться с ним еще неделю. Домовладелец боялся его и не решался настаивать. Питер Китинг каким-то образом узнал об этом, как всегда узнавал то, о чем хотел узнать. Однажды вечером он явился в выстуженную комнату Рорка и уселся, не снимая пальто. Он извлек бумажник, вытащил оттуда пять десятидолларовых банкнот и вручил Рорку:
– Тебе нужны деньги, Говард. Я знаю, что тебе они нужны. Только не возражай. Отдашь, когда сможешь.
Рорк с удивлением посмотрел на него, взял деньги и сказал: