Жизнь зовет Кузнецова (Маркова) Агния
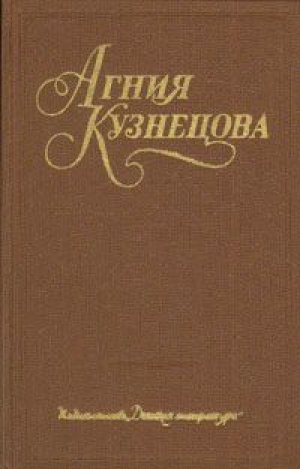
Глава первая
1
«Жизнь у людей проходит по-разному. Иным она бывает ласковой матерью, иным всегда жестокой мачехой», – шепотом читает Павел. Он закрывает книгу и задумывается, устремив невидящий взгляд в ясное небо. Он сидит на подоконнике, привалившись спиной к косяку окна, приминая накрахмаленную белую занавеску.
Летний ветер врывается в комнату, разбивает упрямый хохолок коротко остриженных темных волос мальчика, пытается разрумянить бледное, незагорелое лицо. Павел снова открывает книгу и перечитывает поразившую его фразу. Ему кажется, что строки, где жизнь сравнивается с жестокой мачехой, написаны для него. Его смущает только слово «всегда». Может быть, когда-нибудь и у него опять все будет хорошо, как прежде, как у его одноклассников и мальчишек со двора.
– Нет, никогда не будет, – шепчет Павел. Ему кажется, что он постарел.
В дверь стучат. Павел вздрагивает (он вздрагивает теперь от каждого неожиданного звука), спрыгивает с подоконника и идет к двери.
Круглолицая молодая женщина с небольшой кожаной сумкой через плечо спрашивает строгим голосом:
– Огнев Павел Николаевич здесь живет?
У Павла останавливается дыхание. Он знает – неизбежна еще одна страшная страница жизни. Эта женщина принесла ему повестку в суд.
– Пятнадцатого июля, в девять часов утра! – говорит женщина. – Вот здесь распишитесь.
Она подает ему коротенький карандаш и показывает на край повестки, отделенный тонкой полоской мелких дырочек.
Павел отходит от двери, забывая не только замкнуть ее, но даже прикрыть. Так и остается она раскрытой, изредка тихо и жалобно поскрипывая.
* * *
Нет, неприветливо встретила Павла жизнь. Горькие раздумья, желание быть наедине с собой знакомы ему еще с двенадцати лет, с того самого дня, когда отец, которого он любил больше всех на свете и считал надежным другом, уехал, оставив навсегда его и мать.
До двенадцати лет жизнь Павла была полна безмятежной и безоблачной радости.
Они втроем – Павлик, отец и мать – жили в большой квартире на шумной центральной улице. В середине асфальтированного двора летом цвели цветы на круглой клумбе и тонкой струйкой бил фонтан из рук каменного мальчика.
Павел помнит, когда он был еще совсем маленьким, они с отцом часто гуляли по двору и прохожие с улыбкой провожали глазами эту забавную пару. Павлик был отцу до колена и держался рукой за его указательный палец. Отец был очень высокий и очень красивый, с голубыми глазами, правильными чертами лица и нежным, как у девушки, цветом кожи.
Жизнь отца, по мнению Павлика, состояла из двух равных частей. Одна заключалась в нем – маленьком Павлике. Она была светлой, веселой и очень важной. Другая, недоступная еще его детскому разуму, – жизнь полковника, связанная с ночными работами, поездками и полетами в Москву, с какими-то непонятными заседаниями, ученьями на полигонах.
Павлик, конечно, тоже мечтал быть военным. Пока же он довольствовался тем, что у него были защитного цвета китель и брюки, а в карманах и коробках хранились пуговицы с пятиугольными звездами, старыми погонами и колодочками орденских лент. В его распоряжении были две изношенные отцовские фуражки, которые по субботам он прятал, опасаясь, чтобы мать не выбросила их во время уборки.
Павлик не мог жить без отца, он скучал во время его отлучек. Ему казалось, что и отец не мог жить без него. Из Москвы он посылал Павлику посылки, телеграммы, разговаривал с ним по телефону.
Вскоре Павлик заметил в поведении отца что-то странное, в доме стало как-то не так. Вечерами отец стал все реже и реже оставаться дома. Мать, как и прежде, суетилась по хозяйству, но была молчаливой, грустной, часто задумывалась. Иногда, неожиданно обернувшись или внезапно вбежав в комнату, Павлик видел, как она поспешно смахивает с ресниц слезы. Вещи стояли на своих местах, но в комнатах не было прежнего уюта.
Не разумом, а сердцем почувствовал Павлик приближение какой-то большой беды. И эта беда наступила в один из весенних солнечных дней, когда в саду зацвели яблони, по-летнему защебетали птицы и аромат земли, распустившихся почек и еще каких-то неуловимых весенних запахов ворвался в окна, раскрытые впервые.
Отец уезжал в Ленинград. Не мать, как всегда, а он сам собирал чемодан. Не маленький коричневый чемодан, который обычно брал он в командировки, а большой – черный.
У отца дрожали руки, когда он притянул к себе голову сына и поцеловал в лоб. У Павлика тоже дрожали руки. Не понимая, но чувствуя, что происходит что-то страшное, он растерянно стоял у окна, вслушиваясь в замирающие тяжелые шаги на лестнице. Он слышал, как захлопнулась дверка автомобиля и сигнал насмешливо пропел: все-е!
Павлик оглянулся. Стояли те же массивные кожаные кресла, диван с зеленой бархатной подушкой, большой стол, шкаф с книгами. В пепельнице дымилась недокуренная папироса отца.
Вокруг была непривычная, нестерпимая пустота. Павлик не мог оставаться здесь. Он подошел к двери спальни, но дверь оказалась закрытой. Мать не выходила. Павлик ушел в свою комнату, заставленную всевозможными нужными ему вещами. Бесцельно он взял в руки рубанок, подержал его. Дотронулся до полки с книгами, снял какую-то книжку, но читать не мог. Он подошел к письменному столу, посмотрел на туго набитый портфель. Сегодня экзамен…
Он услышал звонок и пошел открывать двери.
На пороге стоял разрумянившийся Генка Соловьев. Генка улыбался во весь рот. А когда он улыбался, казалось, в нем смеялось все: и коротенький нос в коричневых веснушках, и хитрые зеленоватые глаза, и рыжие волосы, торчавшие задорно из-под кепки. Но улыбка мгновенно слетела с его губ, как только он встретился взглядом с глазами товарища.
– Ты чего, Павка? – заикаясь, спросил Генка.
– Голова болит… – Павлик провел по лбу дрожащей рукой.
– А как же арифметика?
– Ничего, как-нибудь.
На экзамене Павлика вызвали первым. Пережитые утром волнения сменились странным покоем, почти вялостью. Не торопясь он вышел к доске, положил билет на стол, около полной руки ассистента, перетянутой черным ремешком часов.
Ассистент (ребята знали, что он преподает физику в старших классах) внимательно посмотрел на мальчика. Сквозь толстые, выпуклые стекла очков глаза его казались строгими.
Павлик правильно решил задачу. Но, отвечая на последний вопрос, он вдруг опустил руку, мел выпал из пальцев. Подняв голову и приоткрыв рот, Павлик задумчиво устремил глаза поверх головы учительницы и замолчал.
– Дальше! – удивленно сказала учительница, глядя на него близорукими добродушными глазами.
Мальчик не слышал ее слов. На лице его замерло скорбное изумление, взволновавшее и учителей и ребят.
В этот момент Павлик думал об отце. Он вспоминал его слова, поступки и с недоумением ощущал в них и любовь и заботу о себе.
«Как же мог он оставить меня?» – спрашивал себя мальчик и не находил ответа.
Он вновь и вновь представлял прощание с отцом, его дрожащие руки, тревожные глаза, избегающие взгляда сына.
«Нет, он вернется, – успокаивал себя Павлик. – Как же он будет жить без меня? Чем займет те часы, которые мы были вместе – каждый день, вот уже двенадцать лет?»
– Огнев! Садись. Хорошо, – мягко сказала учительница.
Павлик вздрогнул, испуганно взглянул на учителей, на товарищей, но все сделали вид, что ничего не заметили. Он поднял мел, положил его у доски и, низко опустив голову, смущенно пошел на свое место.
И снова замелькали день за днем. Жить было по-прежнему интересно, каждый день был наполнен разнообразными событиями. Но часто в сердце Павлика закрадывалась странная, ноющая пустота, прежде ему неизвестная. В эти минуты он бросал веселые игры, задумывался во время разговора, уходил от товарищей.
Осенью, в одно из воскресений, Павлик собрался на рыбалку. Накануне он долго готовил рыболовные снасти, спать лег поздно и во сне увидел отца.
Отец стоял в его комнате, склонившись над верстаком, и отбирал из железной банки крючки для удочек.
«Вот этот хорош! Смотри какой!» – говорил отец, примеряя крючок к леске большими белыми руками.
«Хорош!» – согласился Павлик.
«А ничего не забыл? – спросил отец, поглядывая на стоящий в углу зеленый рюкзак. – И на меня захватил? Я ведь тоже пойду на рыбалку».
Павлик побежал в кухню, достал из буфета белый хлеб, коробку любимых отцом сардин, кусок колбасы. Вместе с отцом все это они уложили в рюкзак.
«А теперь спать! – скомандовал отец. – Если я первый проснусь – тебя бужу. Ты первый – меня будишь».
И он ушел, осторожно прикрывая за собой дверь.
«Проснусь первым!» – крикнул Павлик вдогонку отцу и бросился в постель совершенно счастливый.
…И он проснулся в хмурый, предрассветный час. Стрелки круглых часов на столе показывали четыре. В полумраке комнаты в углу стояли рюкзак и удочка. Может быть, в этот миг он еще не совсем проснулся или слишком ярок был сон… Осторожно ступая босыми ногами, чтобы не услышала мать, Павлик побежал будить отца. Он открыл дверь и замер на месте, приложив руку к груди и чувствуя, как стучит его сердце. Там, где когда-то стояла кровать отца, было пустое место, наспех заполненное стулом и маленьким столиком.
Первый раз с того дня, как уехал отец, Павлик неутешно плакал, пряча лицо в мокрую подушку.
– Павлик, голубчик мой! – тихо говорила мать, приглаживая его всклокоченные волосы.
Он поднял голову и отчужденно поглядел на нее. «Он тоже делал вид, что любит меня. Теперь я никому не верю. Никто не любит меня, и она тоже», – подумал он о матери.
Мать поняла его мысли и заплакала над тем непоправимым несчастьем, которое оскорбило лучшие чувства мальчика, поколебало его веру в близких людей.
Вскоре Павлик получил от отца письмо. Отец писал, что сын может выбирать, с кем жить: с отцом или с матерью. Если он решит ехать в Ленинград – пусть телеграфирует, и тогда отец приедет за ним. Он писал, что по-прежнему любит сына и скучает без него. Но пусть Павлик знает, что в Ленинграде отец живет не один…
Много раз перечитывал Павлик письмо отца. Со страхом его пробежала глазами мать.
– Ну и что же ты думаешь, Павлик? Ты ведь уж не такой маленький. Скоро тебе тринадцать… – сказала она, опускаясь на стул.
Стараясь не показать волнения, она низко склонила над вязаньем голову с черными косами, уложенными венком. Но спицы не попадали в петли. Маленькая, худенькая, в пестром халатике, она в этот момент показалась Павлику несправедливо обиженной и страшно одинокой.
«Кто же поможет ей, кроме меня?» – с тоской подумал он.
Павлик не ответил отцу ни на первое, ни на второе, ни на третье письмо.
2
Павлик не доверял больше взрослым, зато он верил, и теперь глубже, чем когда-либо, в крепкую ребячью дружбу.
Был у него закадычный друг – Тышка. По-настоящему он был не Тышкой, а Яшкой. Но Яшка картавил, и ребята считали, что картавит он не от физического недуга, а от небрежности и торопливости речи. Часто он говорил: «бебята» вместо «ребята», «ченый» вместо «черный», «тышел» вместо «пошел», и за это получил прозвище «Тышка» – вместо Яшки. Тышка был на два года и на два класса старше Павлика, и поэтому все удивлялись их дружбе.
Тышка – высокий, широкоплечий; короткие черные волосы его курчавились, как у негра. Лицо широкое, скуластое, монгольского типа с небольшими умными, немного раскосыми глазами, такими черными и блестящими, что на зрачок в них нет и намека.
Друзья страстно увлекались спортом. У того и у другого на спинке кровати висело махровое полотенце для обтирания, а в углу лежали двухкилограммовые гантели для зарядки. Зимой Павлик и Тышка увлекались фигурным катанием на коньках.
В теплые зимние дни они уходили на лыжах в лес, катались с гор, устраивая трамплины; пробирались среди деревьев, и те обсыпали их снегом. Летом мальчики занимались греблей. Павлик был непревзойденным гребцом, а Тышка отставал от него. «Не подчиняется, чертова кукла, и баста!» – сердился он, когда быстрое течение поворачивало лодку не в ту сторону. Но зато во всей школе не было футболиста лучше Тышки! Мяч полностью подчинялся ему и летел туда, куда хотел Тышка.
Павлик во всем слушался своего старшего друга, даже не замечая этого.
Иногда вечерами мать Павлика появлялась в квартире Тышки. Они жили по соседству.
У дверей она спрашивала шепотом, нет ли здесь Павлика, и, получив отрицательный ответ, проходила в крошечную комнату с огромным роялем, полками, этажерками для нот и разговаривала о сыне.
– Трудно мне очень с ним, – как-то раз жаловалась она Тышке. – Ты бы, Яша, повлиял на него. На родительском собрании говорили, что он нагрубил учительнице по математике, а извиниться не хочет. Ты бы, Яша, настоял, чтобы он извинился.
Тышка задумчиво смотрел в сторону, на узком лбу его дрожала морщинка.
– А ведь Павка-то не очень виноват! – вдруг неожиданно сказал он. – Я знаю эту историю. Виновата математичка.
– Ну пусть не очень, – уговаривала Тышку Павликова мать. – Бывает, что учитель не прав потому, что вас сотни, а он один на всех вас разрывается.
– Хорошо, я поговорю с Давкой, – пообещал Тышка. – Но не знаю, сумею ли убедить. Вы сами понимаете: когда действуешь не от сердца, на успех трудно рассчитывать.
Тышка проводил ее до дверей и подошел к окну. Вскоре он увидел, как, оставляя следы на свежем снегу, бежал по двору Павлик в черной курточке и в физкультурных шароварах. В руках у него поблескивали коньки.
Павлик вбежал оживленный, разрумяненный морозом, потирая руки и приплясывая.
– Ну, сегодня холодновато! А я коньки тебе наточил. Смотри – здорово! – Он провел пальцем по острию коньков. – Ты один?.. А зачем звал меня? Просто так или есть дело?
Тышка не успевал отвечать на вопросы друга.
Они поговорили вначале о всяких пустяках, потом Павлик попросил Тышку сыграть.
Тышка хорошо играл на рояле и мечтал стать музыкантом. Павлик любил слушать его, и слушал очень внимательно. В музыке он находил какой-то другой, непонятный мир. В игре Тышки больше всего Павлика интересовала быстрота, с которой летали тонкие, длинные пальцы по клавишам, и поэтому он всегда стоял за Тышкиной спиной и смотрел на его руки.
– И ты твердо решил ехать в консерваторию? – по крайней мере в десятый раз спросил Павлик.
Года два и даже год тому назад он все еще надеялся, что друг одумается и пойдет учиться в горный институт. Но теперь Тышка кончал десятый класс и все так же уверенно ответил:
– Только в консерваторию. – Он отодвинул ноты, закрыл крышку рояля и спросил: – Ну, как с математичкой?






