Честное комсомольское Кузнецова (Маркова) Агния
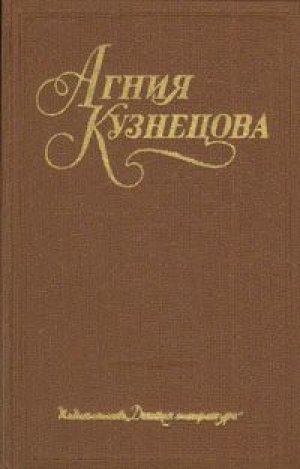
Межпланетный корабль
– Стой, ребята, стой! Межпланетный корабль! Упал на Косматом лугу. Слышали?.. Как землетрясение!
Миша Домбаев, потный, с багровым от быстрого бега лицом и ошалевшими глазами, тяжело дыша, свалился на траву. Грязными руками он расстегивал на полинявшей рубахе разные по цвету и величине пуговицы и твердил, задыхаясь:
– Еще неизвестно, с Марса или с Луны. На ядре череп и кости. Народищу уйма! И председатель и секретарь райкома…
Ребята на поле побросали мешки и корзины и окружили товарища. Огурцы были забыты. Все смотрели на Мишу с любопытством и недоверием. Он уже не раз разыгрывал ребят, но сейчас очень уж хотелось поверить ему и помчаться на Косматый луг, чтобы самим увидеть межпланетный корабль.
– Где? Когда? Какой? – сыпалось со всех сторон. – Если врешь, голову отвернем!
– Ой, сейчас отдышусь и поведу вас на место! – стонал Миша. – Катастрофа!..
– Почему? – спросил кто-то.
– Да ведь разбился же он! Груда дымящихся развалин…
Миша с трудом встал, вытер рукавом смуглое до желтизны лицо с узкими хитрыми глазами и пятерней расчесал черные волосы. Молча, не оглядываясь, он зашагал вперед, уверенный, что товарищи, охваченные любопытством, и без приглашения пойдут за ним. И они в самом деле пошли; правда, пошли нерешительно, все поглядывая в ту сторону, где работал учитель Александр Александрович и пестрели разноцветные косынки девочек.
– Ой, ребята, нехорошо как! Работу бросили, а до Косматого луга за час не дойдешь! Пошли и никому не сказали… – говорил Саша Коновалов, обгоняя цепочку ребят.
Он нагнал Мишу и пошел за ним по тропинке, след в след, нога в ногу.
– Не обманываешь? Когда упал? – спрашивал он, то и дело прикасаясь рукой к Мишиному плечу.
Миша отмахивался, как от надоедливого комара:
– Придем на место – все расскажу.
И они шли еще стремительнее, не замечая ничего вокруг, готовые даже бежать, чтобы только скорее удовлетворить сжигающее их любопытство.
А путь, по которому шли они, был так хорош, что тот, кто с детства не бывал здесь и не знал каждого откоса, каждой извилинки реки, мог часами глядеть на эти чарующие места.
Колхозные огуречные поля, на которых школьники работали в эту осень, окружала глухая тайга, та самая, о которой сибиряки говорят: «Тут не ступала нога человека». Может быть, и в самом деле не ступала. Сойти с охотничьей тропы и углубиться в лес в этих местах не так-то просто: ноги провалятся в мягком, многолетнем илистом покрове, руки и лицо будут сплошь оцарапаны; не продерешься сквозь заросли колючей боярки, дикой яблоньки, черемухи и рябины, тесно разросшихся между могучими соснами; всего тебя облепит плотная, тонкая паутина, затянувшая все таежные ходы и выходы. Стоит тайга непроницаемой стеной, в полуденный зной тихая и прохладная, а ночами разбойная, с зловещими филинами, хитрыми лисами, хищными волками и медведями.
Над тайгой поднимаются горы и цепью, одна за другой, уходят в небо. Иные из них покрыты густым хвойным лесом, иные скалистые, голые. Эту цепь гор в народе называют «Савелкина лестница». По ней, как говорится в бытующей здесь легенде, охотник Савелка восходил на небо, чтобы нанизывать на золоченые стрелы кудрявые облачка-барашки.
Красоту этих мест дополняет река. Имя у нее необычное – Куда. Видно, потому так назвали ее в недоброе старое время, что в десяти шагах от реки тянулся сибирский тракт и вел прямо к старой каторжной тюрьме. Зиму и лето, звеня кандалами, шли по тракту каторжники и с тоской мысленно спрашивали веселую серебряную речку: «Куда? Куда идем мы по этой неприветливой Сибири? Куда бежишь ты, вольная?..»
Теперь старый сибирский тракт порос травой. В стороне проложены новые дороги. А река по-прежнему называется Кудой.
Как и сто и много-много лет назад, бежит Куда по своему руслу, быстрая, прозрачная и, словно лед, холодная. Посмотрите, какой у нее особенный цвет! Это потому, что бежит она по белым камням, будто нарочно кто выложил ее дно этими отполированными валунами. У берегов вода подернута темной прозрачной каймой. Это легкая тень от высоких, крутых берегов. Если солнце на востоке, кайма с правой стороны, если солнце на западе, – с левой.
Но пора нам последовать за ребятами. Тропа обежала небольшой березовый перелесок, изогнулась зигзагом и кончилась. Ребята выскочили на поляну.
– Вон! – крикнул Миша, указывая на что-то большое, распластанное на зеленой траве.
Все бросились вперед, но постепенно, по мере приближения, стали уменьшать шаг и наконец остановились, отыскивая возмущенными глазами Мишу Домбаева.
Но его и след простыл. На поляне в нескольких шагах от ребят лежали сваленные в кучи доски и бревна, привезенные, видимо, для постройки колхозного стана.
Саша в изнеможении опустился на траву, вытирая рукавом пот с лица:
– Ну, что вы, дураки-ротозеи, скажете? Межпланетный корабль! – Он отвернул обшлаг клетчатой ковбойки и взглянул на часы. – Два часа пробегали впустую, а тем временем девятиклассники заканчивают свой участок. Хитро придумано, а? Здорово отомстил нам Домбаев за то, что перевели его работать в бригаду девятого класса!.. Дураки, ротозеи!
Саша сорвал с головы пеструю, выгоревшую на солнце тюбетейку, бросил ее на землю и лег ничком в траву, вернее – в цветы, потому что белые и сиреневые ромашки цвели здесь густым ковром.
Большой и стройный, с огненными от возмущения глазами и ярким румянцем на загорелом лице, Саша был в эту минуту так же хорош, как этот лес, горы, река, среди которых он родился и прожил неповторимо прекрасные шестнадцать лет.
Разочарованные и виноватые, стояли около Саши товарищи, а Пипин Короткий – самый маленький из десятиклассников – попробовал тоже, как Саша, трахнуть кепкой о землю и свалиться на траву, но это не произвело впечатления. Тогда Пипин Короткий, как всегда туманно, выругался:
– Свинячье рыло! Не впервой! Идиоты!
Он сорвал несколько ромашек, прикрепил их над козырьком кепки и спокойно надел кепку на голову.
Не хотелось даже говорить о происшедшем – так нелепо оно выглядело.
Сваленные бревна ребята внимательно осмотрели, а коренастый, медлительный Никита Воронов даже подобрал несколько ржавых, но вполне добротных гвоздей и положил их в карман.
– Зачем они тебе? – равнодушно спросил высокий и прямой как жердь Сережка Иванов.
– В хозяйстве пригодятся, – серьезно отозвался Никита и, помолчав, добавил: – Мы с отцом баню строим.
Возвращаться на поле было бессмысленно – солнце уже садилось, – и мальчишки поплелись на Куду купаться.
– Не в первый раз Мишка нас вот так за нос водит! – возмущался Саша.
Не останавливаясь, он на ходу снимал ковбойку и стягивал физкультурные шаровары, прыгая то на одной, то на другой ноге. Перебросив одежду на руку, он шел теперь по дороге в одних трусах, подставляя сентябрьскому, еще жаркому солнцу покрытое загаром тело.
– Свинячье рыло! – равнодушно повторял Пипин Короткий, тоже раздеваясь на ходу.
– Да его-то чего ругать? Он в деда пошел. Улегерши – сочинитель, – продолжал Саша. – На бумагу лень записывать, так он в жизни сочиняет. А мы-то развесили уши…
– Идиоты! – окончательно определил Пипин Короткий, вылезая из штанов и первый кидаясь в холодную неглубокую речку. – Ай!
Он взвыл от холода и, поочередно взмахивая над водой короткими руками и поворачивая голову на крепкой шее то вправо, то влево и почти по пояс высовываясь из воды, быстрыми бросками поплыл вперед. Пловец в нем чувствовался отменный.
За ним не спеша вошел в реку Саша. Покрякивая срывающимся баском, он сначала окунулся, а потом бросился догонять товарища. Полезли в воду и остальные.
В это же время, когда мальчишки, обманутые Мишей Домбаевым, купались в холодной осенней речке, с огуречного поля возвращался домой классный руководитель, Александр Александрович Бахметьев.
Сзади него утомленно шагали шесть девочек. Их разморило от жары. Недавно подул ветер, и мошкара, не кусаясь, серыми тучками кружилась над их головами. Сетки с девичьих лиц были отброшены, платки, целый день туго облегавшие головы, шеи и щеки, развязаны. К уставшим за день от сеток и платков лицам так приятно прикасался ветерок…
Девочки шли, сбившись в кучу, и горячо обсуждали неожиданное исчезновение мальчишек. Десятый класс, всегда и везде первый, сегодня явно отстал от всех бригад. Девочки тараторили на все лады, доискиваясь до причины бегства своих одноклассников. Они были уверены, что только какое-то необычайное происшествие могло заставить всех мальчишек сразу покинуть поле. Высказывались самые различные догадки, но, обсудив, девочки тут же их отвергали. Нетрудно было предвидеть, каким жалким будет выглядеть десятый класс в очередном номере полевого листка.
В разговоре не участвовала Только одна Стеша Листкова. Она и всегда-то была молчаливее и сдержаннее других, а сегодня ей и вовсе приходилось молчать. С девятилетнего возраста она дружила с Сашей Коноваловым и его вину – уход с поля – в какой-то мере считала своей виной.
Стеша шла сзади всех. Она была ростом выше подруг, полнее и уже выглядела совсем девушкой. Школьницы не удивлялись дружбе Стеши и Саши. По пригожести своей из всей школы только Стеша Листкова была под стать красавцу Саше. Тяжелая коричневато-рыжая коса Стеши опускалась ниже пояса. Кожа на ее лице и руках была такой белой, как это бывает только у людей с рыжеватым цветом волос. Золотисто-коричневые глаза, всегда веселые и даже смешливые, Стеша щурила, потому что была близорукой, но казалось, это она нарочно прикрывает их своими густыми темными ресницами, чтобы скрыть безудержно-веселый огонек. Говорили на селе, что к директору МТС Федору Николаевичу Листкову не раз старомодные родители засылали сватов…
Классный руководитель и девочки вышли на тракт, по которому то и дело проносились грузовые и легковые автомобили, мотоциклы. Тут же плелись стада коров и овец, поднимая страшную пыль.
Александр Александрович остановился, подождал, пока подойдут девочки, и, когда они поравнялись, помахал им рукой: «До завтра» – и свернул в тихую улицу с канавами и дорогой, заросшей травой.
Он подошел к небольшому дому, выкрашенному в зеленоватый цвет, и вошел во двор через скрипучую калитку. Мохнатая дворняжка приласкалась к нему. Старуха хозяйка, перебиравшая рассыпанный на земле лук, приветливо улыбнулась.
Александр Александрович вошел в свою небольшую холостяцкую комнату, очень опрятную, с кроватью, заправленной по-солдатски, с книжными шкафами, полными книг, с картой звездного неба, повешенной на стене, и старым пианино, заваленным нотами.
Окно было открыто, и на самом краю подоконника, выкрашенного голубой эмалью и заставленного комнатными цветами, лежало письмо.
Александр Александрович посмотрел адрес отправителя: город Новосибирск, Маркса, 18, Потемкина. Все эти сведения ничего ему не сказали, но, вглядываясь в почерк, он вздрогнул и побледнел.
– Катя! Неужели Катя?! – вслух сказал он и дрожащими руками разорвал конверт.
Да, это писала Катя Крутова.
В «Учительской газете» я прочла заметку об учителе Александре Александровиче Бахметьеве.
Саша, неужели это ты! Впрочем, я всегда знала, что где-нибудь, хотя бы на самом краю жизни, я обязательно услышу о тебе.
Многое хочется рассказать тебе, о многом спросить, но я подожду до получения твоего письма.
К а т я К р у т о в а.
Ниже написаны адрес, имя, отчество и фамилия:
Екатерине Ермолаевне Потемкиной.
Потемкина… Эта новая, чужая фамилия рядом с дорогим именем больно кольнула Александра Александровича, хотя было естественно, что за двадцать лет, которые он не видел Кати и ничего о ней не слышал, она могла выйти замуж и изменить фамилию.
Александр Александрович снова опустился на стул, снял с головы белую фуражку, расстегнул белую, подпоясанную крученым пояском косоворотку. Еще и еще раз пробежал он глазами короткое письмо.
– Какая неожиданность, какая счастливая неожиданность! – прошептал он. – Катя… Подсолнушек… (Так называли ее в школе.)
Александр Александрович опустил на руки голову со светлыми седеющими волосами и задумался…
Катя
Он не знал своих родителей. Не знал, где родился. Родители его, видимо, погибли во время гражданской войны. Какие-то люди пригревали его в раннем детстве, но и они не сохранились в памяти. Он помнил себя с тех пор, когда грязный, обовшивевший и всегда голодный ходил с компанией таких же безродных детей и все они носили кличку «беспризорники». Спали на чердаках, днем гоняли на базарах, воровали. Их приводили в милицию, определяли в детские дома, которых неизвестно почему они боялись и откуда старались поскорее убежать. Правда, в одном детском доме он задержался.
…Городок Камень-на-Оби. Белый двухэтажный дом с балконом и террасой. Сад у дома, окруженный густой порослью крыжовника и смородины. За садом – огород, за огородом – речушка Суева, а за Суевой – большой мир, непонятный, загадочный…
В детдоме – безродная детвора, няни, кухарка, конюх, учительница-воспитательница и «наша мама» Олимпиада Николаевна – самая главная распорядительница. Здесь началась его сознательная жизнь.
У Олимпиады Николаевны был сын-школьник. Он любил маленького белоголового Сашу. Это он помог Саше раньше времени одолеть букварь и от букваря проторить тропинку к «Слепому музыканту», «Хижине дяди Тома», к «Робинзону Крузо», к «Тому Сойеру», к произведениям Пушкина и Лермонтова.
В этом детском доме девятилетний мальчик получил имя. Стал он Александром Бахметьевым. Кто дал ему это имя? Почему именно такое – осталось неизвестным.
Так протекало его детство. В школу он пошел поздно. Учился с желанием, хорошо. В точных науках не было ему равного, и учителя прочили ему завидное будущее.
В своем классе он был на два года старше товарищей. Но чувствовал себя старше их не только по годам. Все они имели родителей, счастливое детство. Их еще не заботило будущее. У Саши детства не было. И он знал: как только окончит седьмой класс, его отчислят из детского дома и устроят на работу. Он будет жить самостоятельно. Этот момент вступления в большую жизнь Саша почему-то представлял себе эпизодом из сказки. Он на белом коне, c копьем в руке останавливается на развилке трех дорог. Дороги идут в разные стороны, и на развилке лежит камень с надписью: «Направо пойдешь – коня потеряешь, налево пойдешь – сам погибнешь, прямо пойдешь – и коня не станет, и сам пропадешь…»
Саша Бахметьев рос не по возрасту серьезным, застенчивым, немного нелюдимым. Кроме математики, он имел пристрастие к музыке. Научился играть на рояле, мандолине, гитаре, балалайке. И надо сказать, на рояле он играл не хуже тех девочек и мальчиков, которые учились музыке у преподавателей.
Вот в это-то время он и встретился с Катей Крутовой. Она была младше его, но училась в восьмом классе. Внешне она ничего особенного собой не представляла. В школе учились девочки и покрасивее ее. Была Катя небольшая, темноголовая, с чуть косящими черными глазами, с золотыми веснушками на коротком носике. На недлинных, слегка вьющихся волосах, по моде того времени, она носила большой черный бант. Саша Бахметьев обратил внимание на Катю потому, что она очень хорошо играла на рояле.
Сейчас Александр Александрович ясно представил себе Катю на крутящемся стульчике у рояля, ее властные маленькие руки, покоряющие многозвучный большой инструмент. Александр Александрович помнил сочные, бархатные аккорды, которые брала Катя, играя увертюру из оперы «Кармен» Бизе.
Музыкой или чем другим взяла за сердце Катя шестнадцатилетнего Сашу, но так уж случилось, что, кроме нее, за всю молодость не заметил он ни одной девушки.
В то время он начал писать музыкальные произведения, одно из них – по его мнению, лучшее – посвятил Кате. Оно называлось «Первая любовь».
Превозмогая застенчивость, Саша Бахметьев передал Кате ноты. Было это в школе, у вешалки… А потом он долго стоял у окна и глядел ей вслед. Она бежала с подругами, в черной шубке, в черной меховой шапочке с длинными ушами, развевающимися на ветру…
Александр Александрович закрыл глаза и опять представил себе Катю так ясно, точно было все это не двадцать лет назад, а лишь вчера. Грустно и, пожалуй, отрадно стало на душе.
«Какая теперь она?.. Ей уже около сорока. Кто она? Что за человек сложился из прежней маленькой Кати?»
Последний раз они виделись студентами. Она была студенткой медицинского института, он – физико-математического факультета университета. Она приехала к родным на каникулы. Саша с трудом ходил после крупозного воспаления легких. Катя принесла ему букет полевых цветов. Эти цветы долго стояли у него на столе, уже совсем сухие, а он все еще не мог расстаться с ними. Никогда ни он, ни она не сказали друг другу о своей любви. И оба знали, что любили гораздо сильнее, чем могли любить их друзья и подруги. И все же пути их, как то часто получается в жизни, неизвестно почему разошлись.
Годы шли… Александр Александрович окончил университет, затем аспирантуру и неожиданно увлекся педагогической работой. Школа и музыка, которую он по-прежнему страстно любил, заполняли его жизнь. Девушки лучше Кати он не встретил и остался ей верен.
Вспомнился 1941 год. Александр Александрович был в самом пекле войны. Вместе с армией вначале отступал. Вместе с ней пошел потом в наступление, прошел чуть ли не по всей Европе. Был возле рейхстага в тот исторический момент, когда взметнулось на нем красное знамя. В те дни ему особенно хотелось найти Катю. Он писал письма ей и ее родителям, ее друзьям. Но никто не отозвался. Желание найти Катю с годами не только не исчезало, но становилось все сильнее.
Однажды летом он даже приехал в тот город, где прошла их юность. Не без труда он нашел дом, где жила Катя. Улица теперь называлась по-другому. Дом, очевидно не раз ремонтированный, стал неузнаваемым. Но калитка ему показалась прежней, со старинным круглым кольцом, даже скрип ее был знакомый. И такую тоску разбудил этот звук в сердце, что Александр Александрович, прежде чем шагнуть во двор, постоял несколько мгновений у калитки, еле переводя дыхание. Во дворе было почти так же, как и раньше. В глубине – двухэтажный дом, справа – маленький, одноэтажный. Здесь когда-то жила Катя, поднималась по этим ступенькам крыльца, касалась рукой этой двери. Он никогда не был в ее доме: не решался зайти. Только провожал до двери. И часто вечерами ходил мимо дома до тех пор, пока в окнах не гасли огни. Где она теперь? Жива ли? Вспоминает ли о нем хоть когда-нибудь, хоть изредка?..
На крыльцо вышла сгорбленная, низенькая старушка.
– Вам кого, гражданин?
– Мне?.. Скажите, не осталось ли в этом доме старожилов?
– Да я сама тут тридцать годков живу…
Они разговорились. Старушка смутно помнила семью Крутовых. Катю называла Наташей, но говорила именно о ней, вспоминая, как хорошо она играла на рояле.
Этот старый дом, связанный с дорогими воспоминаниями, он покинул глубоко взволнованный. Может быть, впервые за всю жизнь он почувствовал бессилие своей большой любви против безжалостного времени. Он спрашивал себя, как же могло так случиться, что он потерял Катю? И не находил ответа. Прожив до сорока лет, он так и не понял, почему его товарищи и знакомые могли любить снова и снова, а он не мог забыть Катю. «Или я действительно не такой, как все, странный, как говорила когда-то Катя?» – думал Александр Александрович.
Он по-прежнему сидел за столом, уронив на руки седеющую голову.
Многого из его жизни Катя не знает. Не знает и той трагической истории, что случилась с ним несколько лет назад.
После контузии все слабее и слабее становился слух Александра Александровича. Он уже плохо слышал музыку и вскоре почувствовал, что преподавать ему трудно и в школе им тяготятся. Он уехал в деревню, стал работать в МТС. Но тоска по школе, по ученикам не давала покоя. И через год он снова стал преподавать математику в старших классах Погорюйской школы. Глухота все больше и больше мешала ему, и он жил в постоянном нервном напряжении.
Делегация
Александр Александрович не слышал громкого стука. Затем дверь приоткрылась, и раздался напряженный кашель.
Александр Александрович повернул голову, прислушался. Дверь снова закрылась, и кто-то три раза с силой ударил по ней ногой.
– Можно? – спросил Саша Коновалов, держась за ручку и просовывая в комнату мокрую голову.
– Заходи, заходи! – сказал Александр Александрович и встал навстречу ученику. Катино письмо он бережно спрятал в нагрудный карман.
За дверью было несколько человек, но в комнату вошел один Саша.
– Что, тезка, с челобитной? – усмехаясь и прищуривая серые, с большими зрачками глаза, спросил Александр Александрович и рупором приставил ладонь к уху.
Наклонясь к учителю, Саша громко и раздельно объяснил, почему мальчишки убежали с огуречного поля.
– Межпланетный корабль? – переспросил Александр Александрович. – Вот это фантазия! Хитро выдумал Домбаев, хитро! А вы поддались на эту удочку! – Александр Александрович весело рассмеялся.
Дверь приоткрылась, и в комнату заглянули осмелевшие мальчишки. Саша сделал знак рукой – и дверь закрылась.
– Садись, тезка! – все еще смеясь, сказал Александр Александрович, подвигая Саше стул.
Саша подождал, пока сядет Александр Александрович, и сел рядом.
– На Домбаева жаловаться нечего. Сами виноваты. А выдумал он великолепно и разыграл, как артист. Занятный парень!
– Одно плохо, – громко сказал Саша в ухо учителю, – не просто так выдумал – отплатил нам. Мы его за плохое поведение перевели в бригаду девятого класса, а он теперь свою бригаду на первое место и выдвинул.
– Выходит, ради общественных целей старался! – – Александр Александрович снова улыбнулся.
Дверь скрипнула, опять образовалась щель, но Саша за спиной показал ребятам кулак.
– Простите нас, Александр Александрович! – с искренним раскаянием сказал Саша.
– Что ж прощать? В ваши годы на межпланетный корабль любой ценой взглянуть можно… Я, пожалуй, и сам на вашем месте с урока удрал бы. Плохо только, что ваша бригада на последнем месте оказалась. Теперь на первое и не вытянуть.
– Не вытянуть! – уныло повторил Саша и, помолчав, спросил: – Мне можно идти?
– Иди, тезка. Еще не ел, наверное?
– Не ел.
– А выкупаться успел? – Александр Александрович с ласковой усмешкой дотронулся до мокрых волос мальчика.
– Успел.
– Ну, вот и хорошо.
Саша попрощался и вышел.
Александр Александрович подошел к окну и увидел, как от дома удалялись мальчишки его класса.
Он негромко засмеялся им вслед и подумал о том, что с появлением этого милого черноглазого юноши на душе у него стало теплее.
Бабушка и внук
Миша пришел домой уже в темноте. Бабушка, прозванная Саламатихой за то, что никто в селе лучше ее не умел готовить национальное бурятское блюдо саламат, встретила его на ступеньке крыльца.
– Ну, что? – спросила она по-бурятски густым, почти мужским голосом.
– Совсем плохо вышло, – по-русски ответил Миша с сильным бурятским акцентом.
Он мог говорить по-русски совершенно чисто, но дома почему-то всегда коверкал язык.
– Поверили? – спросила бабушка, и голос ее зазвенел по-молодому.
– Совсем поверили. Бежали, высунув языки… – уныло отозвался Миша.
– А потом что? – Звенящие нотки не покидали голоса бабушки. – Рассердились?
– Шибко рассердились. Я убежал вовремя. Дальше будет что, не знаю. Наверное, плохо. Полевой листок в школе вывесили. Нашей бригаде первое место дали. Ребята про все знают, кричат: «Незаконно первое место, обманом захвачено!» Комсомольское собрание собирать хотят. Вот как плохо!..
Но бабушка не считала, что все так плохо, как рисуется внуку:
– Весело было. Смешно. Значит, хорошо. День не зря прожит.
Саламатиха, большая и полная, поднялась в темноте и шагнула к дверям. Миша пошел за ней.
В горнице пол был застелен свежими березовыми ветками, и от этого пахло лесным, совершенно особенным, не домашним запахом. Побеленные недавно стены почти сплошь были завешаны фотографиями: в рамках, без рамок, большими и маленькими, расположенными веером. Со стен глядел Мишин прадед в национальном бурятском костюме: в ватном халате с серебряным позументом, с широким поясом, в остроконечной меховой шапке, в меховых унтах до колен. Здесь же был и небольшой портрет Ленина с широкими скулами и узкими глазами. Местный художник изобразил Ильича похожим на бурята. Среди фотографий, развешанных на стенах, особенно много было солдат на конях с ружьями в руках – друзей Мишиного отца, погибшего на фронте в Великую Отечественную войну.
В легком деревянном кресле около стола сидел дед Миши, знаменитый бурятский улигерши Хоца Тороевич, и дымил длинной, тонкой трубкой. Его седые редкие волосы доходили почти до плеч, на худощавом лице застыла напряженная улыбка слепого. Черные очки закрывали глаза.
Дед был слепой уже около пятидесяти лет. В одной из своих замечательных сказок он поведал о тех страшных днях, когда потерял зрение. Это было еще до революции. Хоца Домбаев работал тогда пастухом у богача – нойона. Как-то он заметил, что стал видеть хуже, но особенно не встревожился: думал, что пройдёт. Однажды он встретился со студентом медицинского института, будущим окулистом, который летом приехал в те края. Студент сказал пастуху, что если он хочет спасти зрение, то должен немедленно ехать в город на операцию. Но где было взять денег? Хоца Домбаев умолял нойона дать ему небольшую сумму взаймы, но тот только посмеялся над работником и сказал: «А что ты можешь дать в залог?»
Через два года пастух ослеп. Бабушка Саламатиха, тогда еще совсем молоденькая девушка с длинными черными косами, румянцем во всю щеку и миндалевидными темными глазами, за руку увела пастуха из бурятского улуса в русскую деревню. Тут они и завековали. Хоца Тороевич стал сочинять сказки, а бабушка их записывала и увозила в город. Перед войной, в 1940 году, Хоца Тороевича выбрали депутатом областного Совета. Бабушка энергично помогала ему в депутатских обязанностях, была его глазами. В войну погиб на фронте их единственный сын, умерла невестка, и старики стали воспитывать внука Мишу.
С бабушкой Миша жил душа в душу, ценил ее веселый характер, удивлялся ее молодому задору и необыкновенной энергии. Она не походила ни на одного взрослого человека из тех, кого встречал Миша.
Любила Саламатиха поозоровать, совсем как девчонка. Несколько лет назад, когда Миша был поменьше, случалось, соберется он с товарищами совершить налет на соседний огород. Бабушка, вместо того чтобы отговорить внука, сама принимала участие. Вставала она на крыльце, вроде дозорной, и, как только замечала, что ребятам грозит опасность, кричала своим зычным голосом: «Кыш, проклятые!» – будто бы кур с крыльца гнала.
Миша рос озорником в бабушку и выдумщиком в дедушку. Деда он побаивался, о шалостях своих ему ничего не рассказывал. Хоца Тороевич узнавал о проделках внука в школе на родительских собраниях. Когда Миша был меньше, дед пытался воздействовать на него нравоучительными, специально сочиненными сказками. Но это не помогало. Теперь дедушка разговаривал с Мишей, как взрослый со взрослым.






