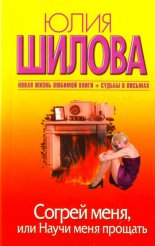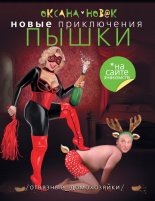Брат Томас Кунц Дин
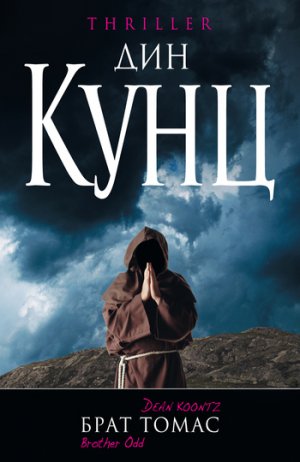
— Полной уверенности у нас нет, мистер Томас. Но я думаю, сейчас самое время это выяснить… и быстро. У вас же есть универсальный ключ.
— Да.
— А почему, мистер Томас?
— Брат Константин остался в этом мире. Мне дали ключ, чтобы я мог быстро найти его в любом месте на территории аббатства, где он устраивал полтергейст. Я пытался… уговорить его уйти в последующий мир.
— Интересная у вас жизнь, мистер Томас.
— Да и вам тоже скучать не приходится, сэр.
— Вам даже разрешен доступ в John's Mew.
— Мы общались, сэр. Он выпекает вкусные пирожные.
— Вы нашли общий язык на почве кулинарии.
— Похоже, мы все, сэр.
Сестра Анжела покачала головой.
— Я не могу приготовить и воду.
Брови Романовича надвинулись на глаза.
— Он знает о вашем даре?
— Нет, сэр.
— Я думаю, вы — его Мэри Райли.
— Вы опять говорите загадками, сэр.
— Мэри Райли была экономкой доктора Джекиля. И хотя он все от нее скрывал, его подсознание надеялось, что она сможет вывести его на чистую воду и остановить.
— Эту Мэри Райли в конце концов убили, сэр?
— Не помню. Но, если вы не вытирали пыль в апартаментах Хайнмана, беспокоиться вам не о чем.
— Что теперь? — спросила сестра Анжела.
— Мистер Томас и я должны живыми попасть в John's Mew.
— И живыми выбраться оттуда, — добавил я.
Романович кивнул.
— Мы, конечно же, попытаемся.
Глава 47
Число одетых в комбинезоны монахов было на десять больше семи. Только двое или трое посвистывали во время работы. Коротышек среди них не было. Но я ожидал увидеть Белоснежку, которая предлагает им бутылки с водой и для каждого находит доброе слово.
Начали они с юго-восточной и северо-западной лестниц.
По соображениям противопожарной безопасности, двери на лестницу не запирались. На каждом этаже имелась просторная площадка, и дверь открывалась на нее, а не в коридор.
В подвале, на первом и третьем этажах со стороны лестничной площадки монахи у каждой двери просверлили по четыре дыры в дверной коробке, благо толщина позволяла, две — справа, две — слева. В дырки вставили металлические втулки, во втулки — болты диаметром в полдюйма.
Болты на дюйм выступали из втулок, не позволяя двери открыться. Ставилась цель задействовать для поддержки двери не только дверную коробку, но и всю стену.
Поскольку резьбы на втулках не было, да и сами втулки были чуть шире болтов, требовались какие-то секунды на то, чтобы вынуть болты и обеспечить быстрый уход с лестницы.
На втором этаже, где находились жилые комнаты детей, задача решалась обратная: не допустить открытия двери с лестницы, на случай если кто-то проникнет туда с другого этажа, выломав усиленную болтами дверь. Братья как раз рассматривали один из трех предложенных вариантов.
Из тех, кто работал на юго-восточной лестнице, Романович и я выбрали брата Костяшки, а с северозападной сняли брата Максуэлла, с тем чтобы поручить им защиту Джейкоба Кальвино. Каждый взял с собой по две бейсбольные биты, на случай если первая сломается в бою.
Если мистер-хайдовская сторона Джона Хайнмана враждебно относилась ко всем людям с физическими и умственными недостатками, то опасность грозила всем детям, находящимся в школе Святого Варфоломея. Каждого из них могли убить.
Но здравый смысл тем не менее предполагал, что Джейкоб («Пусть он умрет») оставался главной целью. Скорее всего, он стал бы единственной жертвой или первой из многих.
Когда мы вернулись в комнату Джейкоба, он впервые на моей памяти не рисовал. Сидел на стуле с высокой спинкой, с подушкой на коленях, на которой при необходимости отдыхала рука. Наклонив голову, очень сосредоточенный, ниткой персикового цвета он вышивал цветы на белой материи, вероятно на носовом платке.
Занимался вроде бы странным для мужчины делом, но выказывал удивительное мастерство. Наблюдая, как ловко он управляется с иголкой и ниткой, видя получающийся результат, я понял — эти широкие руки с короткими пальцами вышивают так же здорово, как рисуют.
Не отрывая Джейкоба от его занятия, я отошел к окну, где собрались Романович, Костяшки и брат Максуэлл.
Брат Максуэлл окончил школу журналистики университета Миссури. Семь лет проработал криминальным репортером в Лос-Анджелесе.
Число серьезных преступлений в этом мегаполисе превосходило число репортеров, которые могли о них написать. Каждую неделю десятки трудолюбивых головорезов и мотивированных маньяков совершали чудовищные акты насилия и обнаруживали, к своему разочарованию, что им не уделили даже двух дюймов газетной колонки.
Как-то утром Максуэлл оказался перед нелегким выбором. Он мог написать об убийстве сексуального извращенца, особо кровавом убийстве, совершенном топором, киркой и лопатой, убийстве с элементами каннибализма и о нападении и ритуальном обезображивании четырех пожилых женщин-евреек в интернате.
К собственному удивлению (не говоря уже об удивлении коллег), он забаррикадировался в кафетерии редакции. В торговых автоматах хватало шоколадных батончиков и крекеров с арахисовым маслом, вот Максуэлл и решил, что протянет как минимум месяц, прежде чем у него начнется цинга, вызванная дефицитом витамина С.
Когда к двери кафетерия прибыл на переговоры главный редактор, Максуэлл тоже поставил того перед выбором: или он каждую неделю получает трехлитровую банку апельсинового сока, который доставляют ему по лестнице через окно кафетерия на третьем этаже, или его немедленно увольняют. Обдумав оба, учтя даже привычку вице-президента по персоналу тянуть с увольнением сотрудников, во избежание получения судебного иска, редактор тем не менее уволил Максуэлла.
Торжествуя, Максуэлл покинул кафетерий и только дома, хохоча, как безумный, осознал, что ведь мог просто уволиться. Журналистику он уже воспринимал не как карьеру, а как тюремное заключение.
Закончив смеяться, решил, что его временное помешательство — дар Божий, знак, требующий покинуть Лос-Анджелес и отправиться туда, где больше людей и меньше бандитов. Пятнадцать лет тому назад он стал сначала кандидатом в послушники, потом послушником и, наконец, принял монашеские обеты.
— Когда это здание перестраивали из старого аббатства, — говорил он, оглядывая окно комнаты Джейкоба, — некоторые окна на первом этаже увеличили и заменили. Перемычки между стеклянными панелями там теперь деревянные. Но на этом этаже остались прежние окна. Они меньше, и всё здесь из литой бронзы, в том числе и перемычки.
— Так легко через них не вломиться, — кивнул брат Костяшки.
— И оконные панели — квадраты по десять дюймов, — добавил Романович. — То чудовище, с которым мы столкнулись на дороге, в такую дырку не влезет. Даже если оно высадит окно целиком, все равно в комнате не поместится. Слишком большое.
— В градирне чудовище было меньше того, что перевернуло вездеход, — заметил я. — Через десятидюймовую дырку оно бы не пролезло, но через окно — вполне.
— Окно открывается наружу, — указал Максуэлл. — Даже с разбитыми стеклами внутрь оно не подастся, его придется выбивать вместе с оконной коробкой.
— Прижимаясь к стене здания, — уточнил Романович.
— И на сильном ветру, — напомнил Максуэлл о неблагоприятных погодных условиях.
— Вполне возможно, что чудовищу все это под силу, — ответил я, — да при этом оно еще сможет крутить семь тарелок на семи бамбуковых шестах.
— Нет, — брат Костяшки покачал головой. — Может, три тарелки, но не семь. Ему еще придется иметь дело с нами. А мы ему спуска не дадим.
Я подошел к Джейкобу, присел на корточки.
— Прекрасная вышивка.
— Не теряю времени даром, — он не поднимал головы, не отрывал глаз от работы.
— Это правильно.
— Кто занят — тот счастлив. — Я подозревал, мать при жизни говорила ему, как важно давать миру все то, на что ты способен.
Опять же работа позволяла ему избегать визуального контакта. В свои двадцать пять лет он уже увидел в других глазах слишком много отвращения, презрения, нездорового любопытства. И понял, что лучше не встречаться взглядом ни с кем, кроме монахинь и теми глазами, которые ты рисуешь карандашом, наполняя их нежностью и любовью.
— Все у тебя будет хорошо.
— Он хочет, чтобы я умер.
— Что он хочет и что получит — не одно и то же. Твоя мама дала ему имя Кого-не-было, потому что его никогда не было в те моменты, когда он требовался вам двоим.
— Он — Кого-не-было, и нам все равно.
— Совершенно верно. Он — Кого-не-было, но он также и Кого-не-будет. Он никогда не причинит тебе вреда, никогда не доберется до тебя, пока я здесь, пока здесь хотя бы одна сестра или брат. И они все здесь, Джейкоб, потому что ты — особенный, потому что ты дорог и им, и мне.
Подняв бесформенную голову, он встретился со мной взглядом. Не стал сразу же застенчиво отводить глаза, как бывало.
— Ты в порядке?
— Я в порядке. А ты?
— Да. Я в порядке. А ты в опасности?
Я понимал, что он отличит ложь от правды.
— Может, небольшая опасность и есть.
Взгляд его стал острым, как никогда, а вот голос еще больше смягчился.
— Ты винил себя?
— Да.
— Отпущение грехов?
— Я его получил.
— Когда?
— Вчера.
— Так ты готов?
— Надеюсь, что да, Джейкоб.
Он не только смотрел мне в глаза, но и что-то, похоже, в них отыскивал.
— Я сожалею.
— О чем ты сожалеешь, Джейкоб?
— О твоей девушке.
— Спасибо, Джейк.
— Я знаю, чего ты не знаешь.
— Чего же?
— Я знаю, что она видела в тебе, — и он склонил голову к моему плечу.
Ему удалось то, к чему стремились многие, но редко кто добивался: лишил меня дара речи.
Я обнял его, и мы застыли на добрую минуту. Слов больше не требовалось: у нас все было в порядке, мы были готовы ко всему.
Глава 48
В единственной комнате, где в настоящий момент не жили дети, Родион Романович положил на одну из кроватей большой «дипломат».
Чемоданчик принадлежал ему. Брат Леопольд ранее поднялся в его комнату в гостевом крыле и перенес чемоданчик в вездеход.
Русский откинул крышку, и я увидел два пистолета, побольше и поменьше, которые лежали в специальных углублениях.
Он достал большой.
— Это «дезерт игл» калибра ноль пятьдесят «магнум».[41] Есть еще ноль сорок четыре «магнум» и ноль триста пятьдесят семь «магнум», но ноль пятьдесят — самый громкий из всех. Вам тот грохот точно понравится.
— Сэр, в кактусовой роще вы могли бы устроить очень громкую медитацию.
— Оружие это хорошее, но отдача очень сильная, мистер Томас, поэтому я рекомендую вам взять другой пистолет.
— Благодарю вас, сэр, но нет, благодарю.
— Второй — «СИГ про» калибра ноль триста пятьдесят семь, удобный и надежный.
— Я не люблю пистолеты, сэр.
— Вы же убили тех террористов в торговом центре, мистер Томас.
— Да, сэр, но тогда я впервые в жизни нажал на спусковой крючок, и оружие принадлежало другому человеку.
— И этот пистолет принадлежит другому человеку. Это мой пистолет. Чего там, берите.
— Я обычно беру оружие только в определенных ситуациях.
— Каких ситуациях?
— При самообороне. Если на меня не нападает змея, настоящая или резиновая, я предпочитаю отмахиваться ведром.
— Сегодня я знаю вас лучше, чем вчера, мистер Томас, но, по моему разумению, в некоторых аспектах вы по-прежнему необычный молодой человек.
— Спасибо, сэр.
В «дипломате» лежали и по две снаряженные обоймы для каждого пистолета. Романович загнал по одной в рукоятки пистолетов, а запасные рассовал по карманам брюк.
Нашлось место в «дипломате» и плечевой кобуре, но ее русский брать не стал. Держа по пистолету в каждой руке, сунул их в карманы пальто. Глубокие карманы.
Вытащил руки уже без пистолетов. Карманы его хорошо сшитого пальто даже не оттопыривались.
Романович посмотрел на окно, потом на часы.
— И не подумаешь, что еще только двадцать минут четвертого.
За окном мертвенно-серый день дожидался скорейших похорон.
Закрыв крышку «дипломата», щелкнув замками и убирая чемоданчик под кровать, он добавил:
— Я искренне надеюсь, что он просто пошел не тем путем.
— Кто, сэр?
— Джон Хайнман. Я надеюсь, что он не безумен.
Безумные ученые не только опасны, они — люди скучные, а я терпеть не могу зануд.
Чтобы не отвлекать братьев от их работы, в подвал мы спустились на лифте. Музыки в кабине не было. И это радовало.
Закончив укрепление дверей (детей к тому времени уже развели бы по комнатам), монахи намеревались поднять оба лифта на второй этаж и там их обесточить.
Если бы что-то мерзкое проникло в лифтовую шахту то ли на первом, то ли на третьем этажах, кабина блокировала бы твари доступ на второй.
В кабине каждого лифта имелся аварийный люк. Но братья уже забили эти люки изнутри, так что в кабину через них никто попасть не мог.
Они вроде бы предусмотрели все, но были людьми, а потому по определению все предусмотреть не могли. Если бы мы могли предусмотреть все, то по-прежнему жили бы в раю, ничего не платили бы в круглосуточно работающих в режиме «Все, что можете съесть» салат-барах, да и дневная сетка телепрограмм была бы у нас несравненно лучше.
В подвале мы прошли в бойлерную. Шипел горящий газ, насосы урчали, техника, как и положено созданиям западного технического гения, работала безупречно.
Для того чтобы добраться до подземного убежища брата Джона, мы могли выйти в буран и на своих двоих дошагать до нового аббатства, рискуя вновь встретиться с одним из uber-скелетов. Этот маршрут следовало рекомендовать искателям приключений: экстремальные погодные условия, ужас, мороз, достаточно сильный, чтобы заморозить сопли в ноздрях, и возможность полежать в снегу, оставив после себя картину «Снежный ангел».
Служебные тоннели оберегали от капризов погоды и завывания ветра, который мог замаскировать пронзительные звуки, издаваемые чудовищами. Если эти груды костей бродили вокруг школы, дожидаясь наступления темноты, тогда мы могли безо всяких проблем добраться по тоннелю до подвала нового аббатства.
Я снял с крючка специальный ключ, которым откручивались болты стальной панели, мы присели около нее, прислушались.
— Слышите что-нибудь? — спросил я через полминуты.
— Ничего, — ответил Романович еще через полминуты.
Следующие полминуты мы прислушивались оба, потом я постучал одним пальцем по стальной панели.
И тут же из-за нее донесся перестук костей и знакомые мне пронзительные звуки, которые переполняла дикая ярость.
Закрепив болт, который я уже начал отворачивать, я вернул ключ на прежнее место.
— Сожалею, что здесь нет миссис Романович, — сказал русский, когда мы на лифте поднимались на первый этаж.
— По какой-то причине, сэр, я думал, что никакой миссис Романович нет вообще.
— Есть, мистер Томас. Мы женаты уже двадцать пять лет. У нас много общих интересов. Будь она здесь, ей бы все это очень даже понравилось.
Глава 49
Если все выходы из школы держались под наблюдением костяными часовыми, они бы, конечно, сосредоточили свое внимание на парадной двери, гаражных воротах и двери черного хода, которая вела в примыкающую к кухне раздевалку.
Романович и я решили покинуть здание через окно в кабинете сестры Анжелы, который находился далеко от всех трех дверей, в наибольшей степени интересовавших наших врагов. Хотя матери-настоятельницы в кабинете не было, на столе горела лампа.
Я указал на постеры Джорджа Вашингтона, Фланнери О'Коннор и Харпер Ли.
— У сестры есть загадка, сэр. Какую наиболее общую восхитительную черту находит она в этих людях?
Он не стал спрашивать, кто эти женщины.
— Мужество, — ответил он. — Вашингтон, несомненно, им обладал. Мисс О'Коннор страдала от волчанки, но не позволяла болезни победить ее. И мисс Ли требовалось мужество, чтобы жить в этой стране в то время, опубликовать ту книгу и иметь дело с фанатиками, которых разозлил нарисованный ею их портрет.
— Две были писательницами, вы воспользовались преимуществом библиотекаря.
Я выключил лампу и раздвинул занавески.
— Там все белым-бело, — покачал головой Романович. — Мы заблудимся, отойдя на десять шагов от школы.
— Мой психический магнетизм выведет нас на цель.
С чувством вины я выдвигал ящики стола сестры Анжелы, пока не нашел ножницы. Отрезал кусок портьерного шнура длиной в шесть футов. Намотал на правую, уже в перчатке, руку.
— Как только мы спустимся на землю, я дам вам конец шнура. Тогда мы не потеряемся, даже если ослепнем от снежной белизны.
— Я не понимаю, мистер Томас. Вы говорите, что этот шнур укажет нам путь к новому аббатству?
— Нет, сэр. Шнур будет нашим связующим звеном. Если я сосредоточусь на человеке, который мне нужен, и буду идти или ехать куда глаза глядят, мой психический магнетизм почти всегда выводит меня на него. Я собираюсь думать о брате Джоне Хайнмане, который находится в своем убежище под новым аббатством.
— Как интересно. Самое интересное для меня это ваше «почти всегда».
— Видите ли, я готов первым признать, что живу не в раю, где нет необходимости платить за аренду квартиры.
— И как нужно понимать ваше признание, мистер Томас?
— Я не есть совершенство, сэр.
Убедившись, что липучки моего капюшона застегнуты под подбородком, я поднял нижнюю половину окна и вылез в ревущий буран и оглядел день в поисках кладбищенских беглецов. Если б увидел эти двигающиеся кости, попал бы в большую беду, потому что разглядеть что-либо я мог лишь на расстоянии вытянутой руки.
Романович последовал за мной и опустил окно. Запереть его мы не могли, но наши монахи-воины и монахини все равно были бы не в силах охранять все здание. Они собирались отступить на второй этаж и уже там занять круговую оборону.
Я наблюдал, как русский привязывает свободный конец шнура к руке. Расстояние между нами теперь не превышало бы четырех с половиной футов.
Отойдя от школы на шесть шагов, я потерял ориентировку. Не знал, в какой стороне находится новое аббатство.
Призвал из памяти образ брата Джона, сидящего в одном из кресел его таинственной подземной гостиной, и зашагал, напоминая себе о том, что должен следить за натяжением шнура.
Житель пустыни, я находил обжигающий холод чуть лучше автоматного огня. Досаждали и рев ветра, и окружавшая со всех сторон белизна. Но ноги делали свое дело, я шел, шел и шел.
Раздражал и еще один момент: из-за царящего вокруг шума я и Романович не могли перемолвиться ни словом. В гостевом крыле, где русский прожил не одну неделю, он производил впечатление молчаливого старого медведя. Но этот день показал, что он довольно-таки разговорчив. Мне нравились наши с ним беседы и когда мы стали союзниками, и когда я видел в нем врага.
Некоторым людям нечего друг другу сказать, после того как, беседуя, они обменялись всеми известными фактами об Индианаполисе, но я не сомневался, что мы с Романовичем без труда нашли бы новые темы.
Я понял, что мы добрались до каменных ступеней к первой из дверей, ведущих в John's Mew, лишь когда споткнулся на них и чуть не упал. Снега навалило и у двери.
Налип снег и на большей части отлитых в бронзе слов «LIBERA NOS A MALO» над дверью. Поэтому вместо «Убереги нас от зла» видимым осталось только последнее слово, «MALO».
Выходило, что за дверью нас ждало зло.
После того как я открыл моим мастер-ключом полутонную дверь, она легко повернулась на петлях-шарнирах, и перед нами предстал залитый светом коридор.
Мы вошли, а когда дверь закрылась, избавились от шнура, который соединял нас по пути к новому аббатству.
— Это впечатляет, мистер Томас.
— Психический магнетизм не приобретенный навык, а плод упорных тренировок. Гордиться им — все равно что гордиться хорошей работой почек.
У стальной двери с выгравированными словами «LUMIN DE LUMINE» я постучал одной ногой об другую, чтобы сбить с ботинок как можно больше снега.
— Свет из света, — перевел Романович слова на двери.
— Пустота и мрак, пустота и мрак. Темнота пропасти. А потом Бог скомандовал: да будет свет! И свет этого мира спускается из Вечного света, который есть Бог.
— Это одна трактовка, — кивнул Романович. — Но, возможно, есть и другая: видимое может родиться из невидимого, материя образоваться из энергии, мысль — это форма энергии, и сама мысль может быть превращена в тот самый объект, который она воображает.
— Сэр, всего три слова, и такое обширное толкование.
— Да уж, — согласился он.
Я приложил ладонь и пальцы правой руки к плазменной панели.
Пневматическая дверь уползла в стену с шипением, призванным напоминать брату Джону, что за каждым человеческим предприятием, с какими бы добрыми намерениями оно ни затевалось, маячит змей. С учетом того, куда, похоже, завела брата Джона его работа, к шипению следовало добавить громкий звон колоколов, мигающие огни и записанный на пленку зловещий голос, раз за разом повторяющий: «Есть такое, чего людям знать не дано».
Мы вошли в желто-восковую, без единого шва кабину, гипсовый сосуд, стенки которого излучали масляный свет. Двери зашипели, закрываясь за нашими спинами, свет потух, нас поглотила темнота.
— У меня нет ощущения движения, — сказал я, — но я уверен, что это кабина лифта и мы опускаемся на несколько этажей.
— Да, — согласился Романович, — и я подозреваю, что вокруг нас огромный свинцовый резервуар, наполненный тяжелой водой.
— Правда? Такая мысль не приходила мне в голову.
— Понимаю, что не приходила.
— Что такое тяжелая вода, сэр, помимо того, что она тяжелее обычной воды?
— Тяжелая вода — это вода, в которой атомы водорода заменены дейтерием.
— Да, разумеется, я забыл. Большинство людей покупают ее в бакалее, а я предпочитаю брать бочками по миллиону галлонов в магазине скидок.
С шипением дверь перед нами открылась, и мы вышли в вестибюль, залитый красным светом.
— Сэр, для чего нужна тяжелая вода?
— Она главным образом используется как охладитель в атомных реакторах, но здесь, полагаю, задачи у нее другие, возможно, второстепенные, скажем, как изолирующий слой от космического излучения, которое может повлиять на эксперименты на субатомном уровне.
В вестибюле мы проигнорировали две гладкие стальные двери по левую и правую руку и направились к центральной, с выгравированными на ней словами: «PER OMNIA SAECULA SAECULORUM».
— Во веки веков, — хмурясь, перевел Романович. — Не нравится мне все это.
Полианна Одд вновь дала о себе знать:
— Но, сэр, это всего лишь хвала Господу. «Ему слава и держава во веки веков, аминь».
— Несомненно, Хайнман так и думал, когда выбирал эти слова. Но нельзя не заподозрить, что подсознательно он гордился собственными достижениями, предполагая, что его работы, завершенные здесь, будут жить вечно, переживут даже конец времени, ничего с ними не случится и после того, как останется только царство Божье.
— Я не думал о таком толковании, сэр.
— Да, вы не думали, мистер Томас. Эти слова могут указывать на гордыню, превосходящую простое высокомерие, на самовосславление человека, которому более не нужны похвалы других.
— Но брат Джон не самовлюбленный эгоист, сэр.
— Я этого и не утверждаю. Более того, он, возможно, искренне верит, что своей работой смиренно ищет путь к Богу.