Предать – значит любить Демидова Светлана
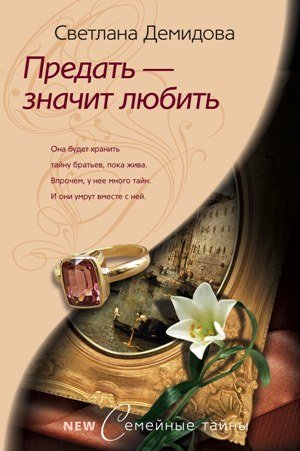
– Куда же ты их спрятал?
– Сейчас они в камере хранения на вокзале.
– Но они же...
– Они в рулоне, Катя. И не такие уж большие. Но действительно очень ценные. Я показывал их в Москве знающим людям. Большие деньги сулили.
– Чего ж не продал?
– Не знаю... Какая-то связь с прошлым... с тобой... с городом... с юностью. Если уж и отдать их куда, то в наш музей. Сама, в общем, решай. Ты, Екатерина Георгиевна Кривицкая, являешься наследницей по прямой. Захочешь – вставишь картины в рамы и повесишь на даче. Хотя это опасно. Узнают, что у тебя такие ценности, обворуют, да и пострадать кто-нибудь может.
– Костя! Прошу тебя! – взмолилась Екатерина Георгиевна. – Забери их с собой. Не нужны мне эти картины. От них одни беды!
– Катюш, я в самом деле скоро уезжаю, у меня нет времени даже на то, чтобы сдать их в музей. Они у вас много места не займут. Но в тяжелые времена могут сослужить службу. Это же всегда капитал. А с течением времени цена картин только увеличивается. Мало ли что, Катя! Жизнь в этой стране совершенно непредсказуема! А у тебя всегда будут средства на самый-самый черный день!
– У меня уже был черный день, – вздохнула Катя и прикусила язык. У нее было несколько черных дней, и нет никакой гарантии, что их больше никогда не будет.
Екатерина Георгиевна прислонилась спиной к шершавой коре тополя и, задумавшись, замолчала. Константин посмотрел на расстилающуюся перед ним гладь реки и, не поворачивая к ней головы, спросил:
– А ты очень любишь этого... своего Николая?
Екатерина Георгиевна вздрогнула. Зачем он ее об этом спрашивает? Она не знает ответа на этот вопрос. Она любила в своей жизни только единожды. Герман и Виталий Кривицкие слились для нее в одно любимое лицо. А Николай? Она без него не выжила бы, когда вместо институтской кафедры оказалась у разбитого корыта. Но любит ли она его? Екатерина Георгиевна отлепила спину от дерева и сказала правду:
– Я в своей жизни любила только раз! И эти мальчишки... которые пошли чистить клетки... они не внуки мне.
– А кто?
– Сыновья, – ответила Екатерина Георгиевна и пошла по дорожке обратно к дому.
– Так они, значит... – начал Константин, но осекся и молча пошел за ней следом.
– Тебе лучше уехать, – сказала Катя, когда они поравнялись с калиткой.
– Да, похоже на то, – согласился он. – Вот тебе ключ от камеры хранения и... – Он порылся в кармане и вытащил квадратик визитки. – Тут мои московские телефоны на всякий случай. Еще неделю будут действительны. На обороте – код ячейки. Думаю, надо картины забрать пораньше. Там всякие проверки бывают.
– Хорошо, – согласилась Екатерина, взяла визитку и, прямо глядя ему в глаза, сказала: – Прощай, Костя.
Константин помолчал, потом как-то неловко пожал плечами и ответил:
– Прощай, Катя. Береги сыновей... Кривицкие как-никак... князья...
* * *
А она вот не уберегла... Князья... Какие там князья? Она, Екатерина Георгиевна, никогда так не думала. Она вообще не могла предположить, что у нее когда-нибудь родятся собственные дети. Она так привыкла к Грише, что давно забыла: по сути дела, его ей подарили на городском вокзале. Ей казалось, она даже припоминает тяжкие родовые муки. Гришенька стал ее частью. Но однажды, когда Екатерине Георгиевне шел сороковой год, в Анисимов приехал Виталий. Сказал – чтобы попрощаться, поскольку сильно болен и вряд ли протянет еще год. Он действительно был сильно худ и как-то неухожен, но по-прежнему красив. Виталий был абсолютно седым, но седина шла ему, так же как белоснежная короткая бородка и усы. Может быть, доктор Кривицкий выжил бы или хотя бы прожил дольше, если бы Екатерина Георгиевна поехала с ним в Москву и они вместе занялись бы его лечением. Но она не могла оставить Гришу и кафедру. Нет, не так! Кафедру и Гришу. Сын никогда не доставлял Екатерине Георгиевне хлопот, а к тому времени уже был женат на хорошей девушке Риточке, с которой они жили отдельно. На тот момент главным ее детищем была кафедра научного коммунизма.
Виталий Кривицкий, который был беспартийным, да еще и княжеского происхождения, с недоумением воспринял новый род деятельности своей Кати, но любить ее от этого не перестал. Катя чувствовала это всем своим существом. Они провели упоительную ночь. Всего одну. Насквозь больному Кривицкому перевалило за шестьдесят пять, Екатерине было к сорока. Ни он, ни она не могли предположить, что эта последняя в их жизни совместная ночь будет иметь какие-то последствия. Виталий уехал, и через три месяца Екатерина получила известие о его кончине. Именно тогда она и поняла, что беременна. Но ей ли, известной на весь город общественнице, доценту педагогического института, члену городской парторганизации, в сорок лет идти в декрет и рожать неизвестно от кого? А потом еще возиться с пеленками и распашонками, вместо того чтобы пестовать студентов и ковать из них неутомимых борцов за светлое коммунистическое будущее?
Екатерина Георгиевна, находясь в самом дурном расположении духа, как раз раздумывала над тем, как выйти из создавшегося положения, когда к ней в гости зашли Григорий с женой. У Риточки глаза были на мокром месте.
– В чем дело? – довольно строго спросила Екатерина Георгиевна, которая уже очень давно не плакала, а потому презирала женские слезы. – Чего ревешь?
– Вы даже не представляете, что Гриша придумал! – ответила невестка и снова захлюпала носом.
– И чего же ты такого ужасного придумал? – Екатерина Георгиевна повернулась к сыну.
Он, как всегда, вытянулся почти во фрунт перед суровым материнским оком и отрапортовал:
– Я ей говорю, что надо взять ребенка из детдома, раз уж у нас никак не получается! А она – ну... ни в какую! А ведь сама детдомовская! И я ведь тебе не родной сын, а все сложилось хорошо... Хоть ты объясни ей, что...
– А я говорю, что надо подождать! – прервала мужа Риточка. – Я, может, еще сама... – Она закрыла лицо руками и опять расплакалась.
Екатерина Георгиевна посмотрела на плачущую невестку, потом на свой еще вполне плоский живот, и в ее голове мгновенно сложился план. Она подняла глаза на сына, который так и стоял столбом посреди комнаты, и сказала:
– Вот что... Ты, Гриша, сходи-ка в магазин... Купи нам чего-нибудь вкусненького к чаю. И не в соседний иди, а... куда-нибудь подальше... А мы с Ритулей поговорим тут... о своем, о женском...
Григорий, не привыкший перечить матери, пожал плечами, молча покинул комнату и отправился туда, куда послали: за вкусненьким, за два квартала, в кулинарию, где продавались самые лучшие в городе пирожные.
Екатерина Георгиевна в это время излагала невестке только что созревший в голове план. Правда, когда она призналась Риточке в беременности, та посмотрела на нее с таким недоумением, что руководитель факультета научного коммунизма поняла: жена сына вообще не держала ее за женский пол. Риточкино недоумение пришлось проглотить и продолжить вдалбливать в ее бестолковую голову то, что надо сделать в ближайшее время. А надо было, чтобы она сказала Грише, что еще раз посетила женскую консультацию и у нее наконец констатировали беременность.
– Так они ж не конста... тируют... – запинаясь, пробормотала Риточка.
– А ты скажи, что констатировали! Вряд ли Гришка потребует врачебную запись!
– А что потом?
– А потом ты скажешь, что тебе рекомендуют всю беременность пролежать на больничной койке!
– Да ну... – отмахнулась Риточка. – Так не бывает!
– Много ты понимаешь! Еще как бывает! А я предложу положить тебя в больницу в Твери.
– В Твери? – окончательно испугалась невестка. – Почему вдруг в Твери?
– Потому что это областной центр, а не наше захолустье! – Екатерина Георгиевна хотела добавить, что после Виталия Кривицкого так больше ни одного нормального врача и не воспитали, но сказала другое: – Там врачи лучше! А я поеду с тобой! Тебе все время лежать... А кто ухаживать за тобой будет?
– А как же? А где же мы будем жить? Прямо в больнице? – Риточка ничего не поняла.
Екатерина Георгиевна покачала головой и с нечеловеческим терпением принялась ей объяснять:
– Ну в какой больнице?! Ты что, впрямь себя почувствовала беременной?! У сестры моей поживем, у Людмилы. У нее мужа перевели на работу в Тверь. Не могу же я здесь ходить беременной...
– А она согласится? – с большой надеждой спросила Риточка, которая наконец смекнула, что может обзавестись ребенком, особенно не утруждаясь.
– Людмилка-то? Да куда она денется, – устало ответила Екатерина Георгиевна, производя в уме расчеты. – В общем, все складывается удачно. За свой счет мне придется взять только три месяца, а там законный отпуск и... родим мы с тобой кого-нибудь.
– А вас отпустят из института? – продолжала сомневаться Риточка.
– Ну... я попытаюсь это устроить... думаю, что заслужила... Я в прошлом году вообще в отпуске не была. Ремонт у нас делали. Надо было за всем приглядывать. Так что... все получится. Главное, чтобы ты согласилась и Гришке ни о чем не проболталась. – Могила! – прошептала невестка и даже ударила себя в грудь кулачком.
* * *
Людмила, конечно, в восторг не пришла, когда к ней заявились сестра с собственной невесткой, но деваться было некуда. Своего ненаглядного Петечку она родила после нескольких лет лечения, которое долгие годы казалось совершенно бесперспективным, поэтому юную Риту поняла сразу. Людмилу несколько смущало, что рожать для жены Гриши взялась ненормальная Екатерина, но потом она успокоилась: в конце концов, не ее же заставляют это делать!
В положенный срок Екатерина Георгиевна Кривицкая родила на свет двух мальчиков-близнецов. Риточка поначалу испугалась. Она и к одному-то боялась подойти, а тут еще и второй рядом лежит и покрикивает. Но потом как-то приспособилась. Ей захотелось назвать мальчиков родовыми княжескими именами: Родиславом и Эдуардом. На Родислава Екатерина Георгиевна никак не могла согласиться, поскольку уменьшительное имя ей сразу напоминало ненавистную Славочку. Она уговорила Риточку назвать мальчика Родионом. Та хотела было возразить, но потом одумалась. В конце концов, не она мучилась, рожала, да и имя Родион – тоже очень неплохое, редкое.
Гриша был несказанно счастлив тем, что Риточка так удачно разродилась двумя мальчишками сразу. На глаза матери с набухшими красными веками он не обратил внимания. Да и Риточка, увлеченная новыми материнскими обязанностями, как-то сразу забыла, кто настоящая мать мальчишек. Екатерина Георгиевна пыталась оправдать ее тем, что сама навязала ей своих детей. Риточка ее об этом не просила. Но теперь все свершившееся казалось Екатерине ужасным, диким и даже кощунственным, особенно по отношению к памяти Виталия, единственного мужчины, которого она по-настоящему любила. Получалось, что она предала его дважды: когда отказалась выйти за него замуж и когда отдала другой женщине его детей. Грозная руководительница кафедры научного коммунизма не могла найти себе оправдания ни в учении Маркса и Ленина, ни в собственной душе. Ее тянуло к близнецам физически, ныла грудь, наливалась молоком. Она мучительно сцеживала его, разливала в стеклянные рожки и носила Риточке. Гриша предлагал взять на себя обязанность носить сыновьям питание из детской кухни, но Екатерина Георгиевна, которая сама была этой кухней, сказала, что хочет посильно участвовать в жизни долгожданных внуков. Она тогда впервые произнесла это слово – «внуки». Оно отдалось в ее сердце нестерпимой болью. Настоящей, физической. Пришлось даже вызывать к ней скорую помощь.
Лежа под капельницей, Екатерина Георгиевна внушала себе мысль, что она теперь бабушка, бабушка, бабушка... А Родион и Эдуард ее внуки, внуки, внуки... По каплям вливалось в ее вену лекарство, избавляющее от боли физической, а в мозг гипнотически внедрялось осознание того, что у нее один-единственный сын – Гришенька. Это потихоньку избавляло Екатерину Георгиевну от боли душевной.
После сердечного приступа у нее как-то враз пропало молоко. Она оказалась свободной от ежедневной мучительной обязанности сцеживать его и носить на квартиру сына. Екатерина старалась видеться с близнецами как можно реже, объясняла это занятостью на кафедре и написанием докторской диссертации. И в конце концов волевая Екатерина Георгиевна смирилась с тем, что стала бабушкой собственным детям. И даже сумела полюбить их как внуков.
А потом в ее жизни появился Николай Солоницын, преподаватель истории КПСС. Николай был младше ее на целых десять лет. Его ухаживания были настолько навязчивы, что Екатерина Георгиевна однажды сказала:
– Милый Колечка, мне пятый десяток. Со всякими романтическими чувствами покончено навсегда. У меня есть все, что нужно женщине моих преклонных лет: любимая работа, любимый сын, любимые внуки. Вы в мое окружение никак не вписываетесь.
На Николая Солоницына эти правильные слова, произнесенные решительным тоном, с брезгливой интонацией, не произвели ровно никакого впечатления. Он сказал:
– А я и не предлагаю ничего романтического. Я тоже покончил с романтикой, когда умерла моя жена Машенька... У меня тоже есть дети, а через пару месяцев родится внук... или внучка. Но вы мне нравитесь. Меня не смущает разница в возрасте. Мне кажется, после сорока все люди вообще примерно одного возраста, ну... если не считать глубоких стариков. Так что соглашайтесь, Екатерина Георгиевна. Я не строю никаких розовых иллюзий, но вижу, что мы подходим друг другу по складу ума, по мироощущению. Мы будем друзьями, а там, глядишь, что-нибудь выйдет и еще...
– Что еще? – удивленно спросила она.
– Ну... я не рассчитываю на вашу любовь, но, возможно, вы почувствуете необходимость моего присутствия подле вас.
Екатерина Георгиевна попросила на раздумье несколько дней, а потом взяла да и пригласила к себе Солоницына.
– То есть вы зовете меня в гости? – глухим голосом спросил он.
– Нет, я приглашаю вас к сожительству, – заявила Екатерина. – Ведь именно так будет называться наше сосуществование, не правда ли?
– Да, собственно... мне все равно, как оно будет называться...
– Вот и славно. У вас ведь комната в коммуналке, а у меня – отдельная квартира.
– У меня еще есть дача... Страшненькая такая... но есть. Ее можно отремонтировать...
– Ну... дача... это потом... Если мы сможем жить вместе, тогда уж и дача пригодится. А пока... переезжайте, Николай. – Екатерина сказала и испугалась. И зачем ей все это? Ведь обратного пути не будет. По крайней мере, на некоторое время. Сама ведь пригласила...
Солоницын, будто читая ее мысли, спросил:
– Вы хорошо подумали, Екатерина Георгиевна?
Она помолчала с минуту, потом решительно тряхнула головой и ответила:
– Да. Сегодня после семи вечера я буду вас ждать.
И он пришел. Без вещей. С цветами и бутылкой вина. После того как была выпита эта бутылка, Екатерине Георгиевне показалось, что этот человек жил с ней всегда, а потому общая постель для них – совершенно естественна.
Николай предлагал ей законный брак, хотя бы для того, чтобы не вязалась партийная организация. Но Екатерина Георгиевна была непреклонна. Она сказала:
– Знаешь, Коленька, я всю жизнь себе переломала, оглядываясь на всякие организации. А потому сейчас буду жить так, как хочу. И пусть какая-нибудь организация только попробует направить меня на путь истинный. Честное слово, я сложу с себя сан доцента и пойду работать дворником, но манипулировать собой больше никому не позволю!
Никакая организация на Екатерину Георгиевну не покусилась. Слишком хороша она была на своей должности, да и студенты ее любили, несмотря на строгость и сухость преподаваемого предмета. Об одном Екатерина Георгиевна забыла. О существовании в этом мире Константина Кривицкого. Так получилось, что Родик с Эдиком слышали ее разговор с Константином и после его отъезда явились выяснять подробности собственного происхождения. Екатерине Георгиевне не хотелось рассказывать им все. Мальчики предположили, что являются детьми уехавшего Константина. Она не стала их разубеждать. Не рассказывать же им про последнюю ночь с Виталием... Не поймут. А про картины пришлось рассказать. Слишком много они слышали. Глазки у них разгорелись. Екатерине Георгиевне это не понравилось. Она поняла: близнецы не выдадут тайну своего происхождения никому, потому что раскатали губенки на картины. Они будут молчать, если она отдаст им наследство. Но отдавать не хотелось. Екатерина боялась за сыновей, а потому сказала, что картины приносят несчастье.
– Почему же ты не передашь их в музей? – спросил Эдик.
– Я не знаю, чего еще ждать от этого государства: каких революций, перестроек, дефолтов... Пусть эти картины лежат на черный день. Что бы ни случилось, у нас всегда будет что продать. После моей смерти они достанутся вам, но только в том случае, если вы по-прежнему будете называть меня бабушкой и никогда не скажете Григорию, что он вам не отец.
– Думаю, он давно уже догадался, – улыбнулся Родик.
– Почему? – встрепенулась Екатерина Георгиевна.
– Ну... мы же совсем не похожи ни на него, ни на мать. На тебя похожи и еще... на того... Константина...
– Это ни о чем не говорит... Так бывает. Я сама похожа не на родителей, а на своего деда. Это все лишь игры природы...
* * *
...Екатерина Георгиевна еще раз оттолкнулась ногой, и кресло мерно закачалось. Да, если бы она согласилась выйти замуж за Виталия, все было бы по-иному. А надо ли ей, чтобы было по-иному? Разве она может представить свою жизнь без Родика с Эдиком? Ведь у нее тогда родились бы совсем другие дети... Впрочем, Эдика уже нет. Она точно знает, что нет именно Эдика. Она, их мать, всегда умела различать близнецов, как бы одинаково они ни были одеты. Эдик всегда был более порывист, а Родик – немножко трусоват. Она знала, что они оба влюбились в Юлю. Видимо, на роду у братьев Кривицких написано, что они могут влюбляться только в одну женщину, одному придется отступить, но быть для этой женщины вечным злым демоном. И картины... Такое же вечное искушение братьев Кривицких. Почему она не отдала их в музей? Конечно, Эдик погиб из-за картин. Она давно заметила, что их нет, но решила не поднимать этого вопроса. Братья конечно же их продадут. Ну и пусть... Пусть картин больше не будет. Деньги потратятся, и тогда жизнь, возможно, пойдет другим путем, более счастливым. Неправедно нажитые Родиславом картины перестанут приносить зло братьям Кривицким. Но они принесли.
Она, Екатерина Георгиевна, никогда не спросит у Родиона, что случилось с Эдуардом. Ей ли не знать, как Родик с Эдиком любили друг друга. Раз один брат решил жить жизнью другого, значит, иначе было нельзя. Она оплакала одного из своих сыновей и приняла это. Она будет хранить их тайну, пока жива. Впрочем, у нее много тайн. Тайн, которые умрут вместе с ней.






