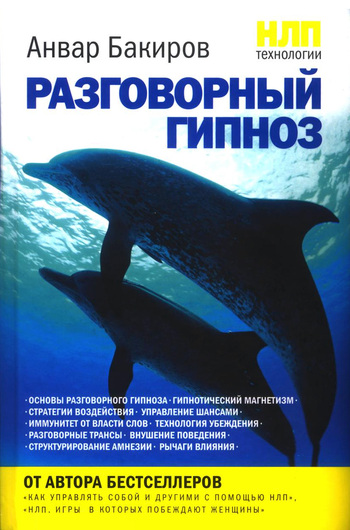Третий ключ Корсакова Татьяна

Родителям с любовью и благодарностью
Смородиновый сок стекал по пальцам липкими ручейками, вслед за крупными, сортовыми ягодами падал в пятилитровое ведерко, которое стараниями Аглаи было заполнено уже наполовину. Аглая сунула в рот уже бог весть какую по счету ягоду, тыльной стороной ладони утерла со лба пот и почти с ненавистью посмотрела на ведерко. Цивилизации рушатся, города и народы уходят в небытие, а баба Маня не меняется. И неважно ей, что внучка нынче не босоногая, голенастая Глашка десяти годков от роду, а успешная и даже весьма известная журналистка Аглая Ветрова тридцати двух цветущих лет. Сказано до обеда обобрать куст красной смородины, и попробуй только ослушаться.
Аглая уже и не помнила, что бывает, если ослушаться бабу Маню. Память подсовывала какие-то размытые, на первый взгляд совсем не страшные воспоминания в виде сорванной тут же, в маленьком огородике, розги или в виде мокрого льняного полотенца, которыми баба Маня грозилась отлупить внучку за непослушание, но вот припомнить, чтобы эти атрибуты деревенского воспитания хоть раз пошли в дело, никак не получалось. По всему выходило, что воспитывали Глашку больше словом, чем делом. И это только в детстве казалось, что воспитывали излишне строго, что многого не позволяли и ко многому принуждали. Что ни говори, а дети – эгоистичные существа…
Носком сандалии Аглая отпихнула ведерко, поправила сползший на самые глаза ситцевый платок, из заднего кармана джинсов достала пачку сигарет и закурила, разглядывая развешенные для просушки на заборе полосатые самодельные половички. А хорошо, что она решила уехать! И правильно сделала, что махнула не на оскомину уже набившие заграничные курорты, а к бабушке. Здесь, в деревне под названием Антоновка, даже воздух пах по-особенному: еще не вызревшими, но уже наливающимися соком яблоками, перезрелой и от малейшего движения норовящей просыпаться рубиновым дождем смородиной, парным молоком и свежескошенным сеном и еще сотней почти забытых, но затрагивающих самые глубокие струны души ароматов.
И не найдет ее никто в этой вроде бы и не такой уж глухой – от столицы всего-то триста километров, – но в то же время еще не задохнувшейся в тисках цивилизации деревеньке. Не найдет, потому что никому и в голову не придет искать королеву глянца, светскую львицу и первейшую столичную стерву Аглаю Ветрову под кустом смородины в обнимку с пластмассовым ведром. Ей место где-нибудь в Париже или, на худой конец, в Милане, но никак не здесь, в этом всеми позабытом райском уголке. Значит, есть у нее фора. Значит, можно пару недель побыть самой собой, не опасаясь потерять лицо, не вглядываясь в чужие, опротивевшие донельзя, сплошь знаменитые и сплошь успешные лица, не ожидая на каждом шагу подлянки от коллег по творческому цеху и голодной до всякого рода сенсаций журналистской братии. Хватит с нее того, что однажды она уже потеряла лицо, не смогла сдержать эмоций, уронила маску невозмутимой стервозности на каменные плиты Рудого замка, повела себя как деревенская баба, – не просто расплакалась на публике, а кажется, даже причитала и кликушничала.
От воспоминаний, до сих пор острых и болезненных, рука дрогнула, стряхивая на грядку с помидорами столбик сизого пепла. Это только те, другие, друзья, коллеги, конкуренты, думали, что Паркер для нее всего лишь игрушка, этакий дополнительный способ заявить о своей принадлежности к богеме, пустить звездную пыль в глаза. Ну, конечно, псина размером с недокормленную кошку, постриженная по последней собачьей моде, упакованная в комбинезончик, сравнимый по цене с одежками самой хозяйки! Ну, это ж модно сейчас, чтобы шавка мелкая под мышкой или в дамской сумочке, еще один штрих к образу успешной и избалованной жизнью! А того никто не знает, что Паркеру шел уже шестнадцатый год, что появился он в жизни Аглаи задолго до того, как возникла эта самая мода на собачек, и что комбинезончик в его преклонном возрасте – это никакие не понты, а обыкновенная забота о вечно мерзнущем, уже не слишком здоровом друге. А что недешевый, так она в своем праве! На кого ей еще тратить заработанные потом, кровью, злословием и стервозностью деньги? На Паркера и бабу Маню! И то, что Паркера Аглая брала с собой даже в дальние командировки, объяснялось просто: боялась доверить заботу о единственном друге чужому человеку, как могла, старалась продлить недолгий собачий век.
Не продлила… Этот мерзкий тип, секретарь Закревского, сказал, что на Паркера напали сторожевые псы, те самые, что должны были охранять треклятый замок от волков, обещал разобраться. При этом улыбался он так искренне и одновременно так мерзко, что Аглае, сжимающей в объятиях растерзанное, окровавленное тельце Паркера, самой хотелось вгрызться в чье-нибудь горло. Кровь за кровь…
Она уже тогда решила, что напишет о хозяевах этого жуткого карпатского замка совсем не то, за что ей обещана весьма внушительная сумма, а чистую правду и, возможно, даже погрешит против правды, выдаст что-нибудь этакое в своей убийственно-язвительной манере. И написала бы! Написала бы разгромную статью про уродливые потуги олигарха-самодура добавить свадьбе единственного внука средневекового антуража, про кровавые картинки на церковных витражах и непрестанный волчий вой вместо ангельских песнопений, про то, что молодожены не выглядели счастливыми ни секунды, а замок, казалось, выпивал из обитателей силы и разум. Написала бы, да только события неожиданно перешли из разряда светских в разряд криминальных, а гости из участников торжества сделались свидетелями страшного преступления. Тут уже не до злословия и мелкой журналистской мести, тут бы собственную шкуру уберечь. Шкуру, а еще нервы, изрядно потрепанные следователем, которому не было никакого дела ни до угроз, ни до высокого социального статуса гостей-свидетелей.
Аглая думала, что стоит только вырваться из этой липкой паутины средневековых тайн на волю, окунуться в мутные, но стремительные волны московской жизни, как все наладится, и так больно уже не будет, и по ночам не придется вздрагивать, когда рука вместо привычного горячего бока Паркера коснется равнодушной прохлады шелковых простыней.
Ошибалась. Дома стало еще хуже. Не спасала даже работа. Любимый журнал, детище всей ее жизни, не возвращал оптимизма и радости. Наоборот, с каждым днем становилось все муторнее и муторнее, пока Аглая наконец не решилась на побег…
– …Глашка! Да что ж ты делаешь, окаянная?! – Сердитый голос бабы Мани отвлек Аглаю от нерадостных воспоминаний.
– Все, бабуля, перекур! – Она по въевшейся в кровь подростковой привычке спрятала руку с сигаретой за спину.
– Я тебе дам перекур! – баба Маня погрозила выпачканным в муке кулаком. – И без того вон зеленая да худющая, что та вобла, так еще и курить удумала! Бросай! Бросай, кому говорю?!
– Брошу, – привычно соврала Аглая, загасила недокуренную сигарету, бычок завернула в фантик от конфеты, сунула в карман. Проще было бы выбросить здесь же, на огороде, но тогда баба Маня заругается еще сильнее, а у нее сердце слабое, ей расстраиваться нельзя. – Бабуля, может, ну ее, эту смородину? – спросила без особой, впрочем, надежды. – Полведра вон насобирала.
– Да как же можно? – Баба Маня неодобрительно следила за Аглаиными манипуляциями с бычком, и было совершенно непонятно, что раздражает ее больше: сигареты или внучкина попытка увильнуть от работы. – Что ж, прикажешь ягодам пропадать?
– А куда их столько? – Аглая еще сопротивлялась, но вяло, понимала, что, пока не домучает этот несчастный смородиновый куст, покоя ей не видать. В лучшем случае баба Маня будет ворчать до самого ужина, а в худшем примется убирать ягоды сама, а у нее ж сердце…
– Это ты сейчас не знаешь куда, а вот зимой вспомнишь! Где ты там в своей Москве варенье из смородинки найдешь?!
Сказать по правде, привезенное от бабушки варенье Аглая никогда сама не ела, раздавала друзьям и сослуживцам. Видать, в детстве перекушала, потому и была равнодушна к таким вот деревенским деликатесам. Зато соленья, хрусткие бочковые огурчики и сладчайшие, по особенному рецепту маринованные помидоры готова была есть трехлитровыми банками и каждое лето порывалась поассистировать бабе Мане на кухне, постичь тайны закаток-маринадов, но намерения так и оставались только намерениями, в бурной Аглаиной жизни места деревушке с яблочным названием Антоновка оставалось все меньше и меньше. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вдруг на этот раз что получится…
– Бабуль, может, киселек сваришь? – Аглая попыталась увести разговор в более безопасное русло.
– Так сварю! – Баба Маня, для которой не было большего счастья, чем наблюдать, как любимое дитятко за обе щеки наворачивает ее нехитрые угощения, расплылась в довольной улыбке. – А вареничков? Вареничков из вишни хочешь?
Вареничков Аглая хотела. Варенички с домашней сметанкой, присыпанные сахаром, она любила с детства, и даже процесс извлечения из ягод косточек ее не раздражал, а скорее успокаивал.
– Хочу! – Осторожно, стараясь не испачкать цветастую ситцевую блузку смородиновым соком, Аглая обняла бабушку за плечи, поцеловала в морщинистую щеку. – И вареничков, и киселька, и картошечки с укропчиком.
– Фу, ты! Воняет от тебя цигарками, как от нашего председателя! – Баба Маня слегка отстранилась, но было видно, что все эти «телячьи нежности» ей до ужаса приятны. – Так он же мужик, а ты, Глашка, девка! Вот как захочет тебя кто поцеловать, а от тебя, прости господи, табаком за версту несет!
– Да кто ж меня такую захочет поцеловать?! – Аглая похлопала себя по тощим боками. – Где тот принц, что на белом коне? – Она завертела головой, точно и в самом деле пыталась среди кустов смородины и вымахавшей в человеческий рост кукурузы разглядеть принца.
– Тут, может, и нет, а вот в поместье скоро каких хочешь принцев можно будет сыскать. – Баба Маня покачала головой.
– В поместье? – Кончики пальцев закололо, и Аглая скорее удивилась, чем испугалась этого давно забытого чувства. – А что делать принцам в старом поместье?
– Сразу видно, что давно ты сюда не заглядывала. Нашелся на графский дом хозяин. Сама я туда не ходила, но Семеновна говорит, дом теперь и не узнать: все чистенькое, новенькое, прямо дворец. Старый парк до ума довели, пруд собираются почистить, дорожки проложить – красота.
– И кто ж в теремочке живет? – Забыв о данном бабе Мане обещании, Аглая выбила из пачки сигарету, рассеянно повертела в руках, но так и не закурила. – Чье теперь поместье-то?
– Так говорят, что Михаила Свириденко. Ты должна его помнить, вы ж с ним кажись… – баба Маня не договорила, смущенно замолчала.
– Бабуль, мы с ним не кажись, – Алая тряхнула головой, – мы с ним были знакомы сто лет назад, так давно, что я уже и забыла, как он выглядит.
Сказала и ведь почти не солгала. Что было, то быльем поросло. То лето осталось в памяти жуткой, просто убийственной жарой, обрывочными картинками, размытыми лицами и еще чем-то мутным, душным, таким, что и вспоминать страшно. Аглая и не вспоминала, позволила себе роскошь забвения. Получилось не сразу, но в конце концов ей это удалось. И вот сейчас похороненные под толстым слоем ярких впечатлений и памятных дат воспоминания снова грозились просочиться в ее жизнь, нарушить размеренное полурастительное существование.
– Уволю! К чертям собачьим уволю! – Люся обмахнулась невесть откуда взявшимся на ее рабочем столе журналом «Здравоохранение», вперила грозный взгляд в мнущегося на пороге ремонтника. – Я тебе еще два дня назад сказала, что у меня в кабинете кондиционер сломался! Два дня! А ты что?
– Так, Людмила Аркадьевна, во втором люксе тоже кондиционер того… – промямлил ремонтник.
– Что – того?
Люся отшвырнула журнал, побарабанила выкрашенными в ярко-алый, в тон помаде, цвет ногтями по прозрачной столешнице. Этот стеклянный стол на сияющих хромом ножках она увидела лет пять назад в каком-то модном журнале и с тех самых пор решила, что, доведись ей стать большим боссом, стол она себе непременно прикупит точно такой же. И вот пожалуйста: и она – большой босс, и стол у нее дизайнерский, стеклянный, а счастья как не было, так и нет. Кто ж думал, что это такая непрактичная вещь?! Что заляпывается он мгновенно и все свое хрустальное сияние утрачивает уже на втором часу эксплуатации?! Что ей, Людмиле Аркадьевне Свириденко, вместо того чтобы решать насущные и куда более важные задачи, приходится полдня полировать свое рабочее место, чтобы было красиво, гламурно и пафосно?!
– Так сломался кондиционер во втором люксе, – пробубнил ремонтник.
– Значит, сломался? – Люся недобро сощурилась. – А я, значит, узнаю об этом только сегодня? Хоть починили? – спросила она уже другим, чуть более спокойным тоном. Что толку орать на этих олухов? Только нервы рвать. А нервы ей еще ого как пригодятся.
– Так не починили.
– А почему?
– Так на гарантии еще кондиционеры-то. Вот ждем, когда из города наладчики приедут.
– А у самого-то, что, руки не из того места растут? – Как ни пыталась Люся сохранять терпение, а все ж таки стремительно выходила из себя.
– Почему не из того? – обиделся ремонтник. – Очень даже из того, только вы ж, Людмила Аркадьевна, сами запретили трогать то, что на гарантии.
Запретила! Потому что ванну для подводного массажа эти кретины уже потрогали, так потрогали, что никакая гарантия не спасла, пришлось новую покупать. А стоит она, между прочим, побольше, чем кондиционер. Эх, за что ж ей такое наказание? Отчего ж кругом одни идиоты? Это еще повезло, что удалось в завхозы Василия Степаныча сманить. Без его помощи она бы хрен что в этом чертовом поместье сделала. Да и руки у мужика золотые, вон какую роскошную входную дверь вырезал! Не дверь, а целые дубовые ворота!
Хорошо Свириду, отвалил денег, дал ценные указания и свинтил в свою Москву, а она тут корячься за всех, ругайся со строителями, с наладчиками, персонал подбирай, да не лишь бы какой, а чтобы соответствовал самым строгим требованиям. За шеф-поваром вон пришлось в область ездить, уговаривать, сманивать запредельной зарплатой и шикарными условиями работы. И поехала, потому как знающие люди сказали, что на кухне Сандро – царь и бог, что равных ему не найти.
Сманила, но чего ей это стоило! Сандро, может, и повар от бога, но до чего ж у него характер скверный! «Вай, что это за плита такая?! Дорогая Люси, кто может за такой плитой работать? Сандро не может, Сандро к другой плите привык! Вай, кто тебя просил посуду покупать?! Это не та посуда! Уйди, женщина, Сандро думать будет, как тебя спасать!» Вот так! И все громко, с криками, с жестикуляцией, с мимикой такой, что хоть сейчас в кино на характерные роли. А сам-то – высокий, худой, лысый! Носяра на пол-лица, руки, как грабли. И все туда же – кулинарный гений, профессор кислых щей.
Ладно, этот хоть орет, но свою работу знает, а вот что делать с жопорукими медтехниками, которые ведать не ведают, с какого бока к забугорной аппаратуре подойти? Они, видишь ли, к отечественным аппаратам приучены, а буржуйские им в диковинку.
Единственные, с кем у Люси разговор был коротким, но конструктивным, это люди из обслуги: горничные, посудомойки, санитарки. Их она набрала из местных за деньги, смешные для Москвы, но запредельные для здешней глуши. Эти слушались безоговорочно, в рот заглядывали и работали не на страх, а на совесть, потому как Люся для них была и царь, и бог, и мать родная.
А Свирид взял на себя медперсонал. В этом деле он Люсе не доверял, да ей не больно и хотелось, и без того геморроя хватало. Пусть и он чем-нибудь озаботится. Тем более что специализации, категории, дипломы и стажировки – это как раз по его медицинской части.
Отвлекшись на тяжкие думы, Люся не сразу заметила, что ремонтник, успокоенный долгим и с виду мирным молчанием хозяйки, просочился в кабинет, уселся в кресло для посетителей и от нечего делать лапает край ее стеклянного, только что до зеркального блеска надраенного стола.
– Чего расселся? – рявкнула она. Получилось громко и устрашающе, потому что орать Люся умела и любила, и даже почти пятнадцать лет столичной жизни не выбили из нее эту маленькую, временами досадную слабость. – Вон пошел! Хотя стоп, подожди! – Она взмахнула рукой. – Иди к Степанычу, он тебе работу на лодочной станции найдет, будешь лодки красить, если ни на что другое не годишься.
Как только ремонтник исчез с глаз долой, Люся достала из сумочки носовой платок и принялась полировать заляпанный стол, будь он неладен вместе с дизайнером, его придумавшим!
Дверь распахнулась без стука, Люся едва успела спрятать платок. Так бесцеремонно, как к себе домой, к ней в кабинет вваливался только один человек – Сандро. Даже Свирид, который по большому гамбургскому счету был здесь полновластным хозяином, и тот непременно стучался, а этому носатому закон не писан.
– Вай, как жарко у тебя, дорогая! Прямо как у меня на кухне! – не дожидаясь дозволения, он настежь распахнул окно, поставил на стол перед Люсей дымящуюся чашку кофе.
Кофе Сандро варил исключительно вкусный. Собственно говоря, благодаря этому факту заядлая кофеманка Люся и терпела подобную фамильярность. Но сегодня настроение у нее было не то, сегодня хотелось орать и бить посуду.
– Зачем кофе?! Сам же говоришь, что жарко! – Она плюхнулась обратно в кресло, забросила ногу за ногу. Не без злого умысла, надо сказать, забросила. Ноги у нее были красивые, в меру длинные, в меру стройные, несмотря на жару, затянутые в тончайшие чулочки. Вот и стеклянный стол пригодился, потому как сквозь него все замечательным образом видно, даже кружевная резинка, кокетливо выглядывающая из-под словно невзначай задравшегося подола платья.
Прежде чем ответить, Сандро сглотнул, жадно сверкнул сливовым своим глазом. Вот и пусть глотает и сверкает, это у себя на кухне он хозяин, а здесь – ее территория.
– Так зачем же здесь, дорогая моя Люси? – Он всегда, с первого дня знакомства, называл ее либо дорогой, либо этой дурацкой Люси. – А не сходить ли нам на природу, к пруду?
Люся хотела уже сказать, что недосуг ей на природу ходить, что у нее еще дел полным-полно, но неожиданно для самой себя согласилась, грациозно выпорхнула из-за стола, одернула подол платья, чем вызвала грустный вздох Сандро, и направилась к выходу из кабинета.
Оленька умерла на рассвете. Я точно знаю, что на рассвете: ночью слышал скрип половиц в ее комнате, слышал и мучился, все порывался зайти, упасть на колени, вымолить прощения. Я не зашел, а она умерла. И жизнь моя нынче ничего не значит, потому что без Оленьки и нет вовсе никакой жизни – тьма кромешная…
Я – старик, шестой десяток разменял, мне бы умереть, а не ей, любимой, ненаглядной моей девочке. Ведь девочка и есть! Всего-то двадцать пятый год шел, через три дня должны были именины справлять. Я и платье модное, такое, как она хотела, из столицы выписал, и дом к приему гостей подготовил, парк задумал фонариками разноцветными расцветить, чтобы как в сказке все было. А Оленька, жена любимая, хохотушка-веселушка, умерла. Еще ночью половицы скрипели, а на рассвете, когда только-только веки смежил, закричала не своим голосом Парашка, ворвалась без стука, упала у порога на колени, завыла так, что слов не разобрать: «Не дышит барыня-то! Я к ней, как велено, ранехонько, с петухами, а она лежит поперек кровати, разметалась… Померла! Ой, Господи, померла наша Ольга Матвеевна!»
Я не поверил: ни Парашке, ни сердцу своему, которое вдруг заныло, затрепыхалось в груди. Баба пустоголовая, деревенская, навыдумывала глупостей! Оттолкнул Парашку, кинулся в Оленькину комнату…
…Лицо красивое, античное, чеканный профиль, ресницы пушистые на полщеки, ямочка на подбородке – нет, не умерла моя Оленька, просто уснула крепко. Вот сейчас я ее поцелую, шепну на ухо, как люблю ее сильно, попрошу прощения, и проснется моя спящая красавица…
Губы холодные, щеки холодные, руки по-покойницки на груди скрещены. На левом запястье, с внутренней стороны, родинка, там, где пульс и горячее биение жизни. Сколько раз я целовал эту родинку, трепетно, несмело прикасался губами к тоненькой жилке! Прикоснулся и на сей раз, хотя уже знал, сердцем чувствовал – нет больше Оленьки на этом свете. Обиделась, бросила меня, дурака старого, и душу мою с собой забрала.
Не помню, что дальше было. Лица чередою, шелест слов, раздражающие прикосновения, во рту что-то горькое, а в сердце – выжженная дыра. Слаб я оказался, недостоин любви своей ненаглядной Оленьки, ни отпустить ее не сумел, ни проводить…
Мария, кузина, приехала в тот же день, сразу вслед за Ильей Егоровичем, тем самым, что сначала Оленьке моей помог на этот свет появиться, потом двойняшек наших, Настеньку и Лизоньку, принимал, а сейчас вот, больно сказать, стал посредником между бытием и небытием.
Наверное, если бы не они, я пропал бы. Может, руки на себя наложил бы, а может, сам от сердечного приступа помер. Близок я был к тому порогу, что отделял меня от любимой жены, как никогда близок. Но не дозволили! Мария, дважды вдовая, единственного ребенка еще в юности потерявшая, а поди ж ты, счастливая, за жизнь свою одинокую цепляющаяся неистово, не дозволила, все на свои плечи взвалила: и дом, и Настеньку с Лизонькой, и заботы о погребении. А я только и мог, что у гроба сидеть, держать жену за руку, всматриваться в любимые черты в тщетной попытке найти ответы на бесчисленные «почему?» и «за что?».
Вопреки ожиданиям, к самому пруду Сандро ее не повел, увлек в ажурную, точно из кружев сделанную беседку на берегу, придержал под локоток, помогая с максимальным комфортом усесться на каменной скамеечке, чашку с уже, наверное, остывшим кофе аккуратно поставил рядом. Сам он остался стоять, то ли случайно, то ли намеренно заслоняя Люсю от пробивающихся сквозь ветви старой липы нестерпимо ярких солнечных лучей. Теперь он смотрел на нее сверху вниз, и от этого Люся, сама привыкшая посматривать на всех свысока, чувствовала себя не в своей тарелке. Чтобы не пялиться на отполированную до сияющего блеска пряжку на брюках Сандро, она отвернулась к пруду, делая вид, что наблюдает за тем, что творится на лодочной станции.
Сказать по правде, Люся считала идею Свирида, который вознамерился очистить дно старого пруда от столетиями копившегося там хлама, пустой тратой денег. На ее практичный взгляд, внешне графский пруд и без очистки выглядел очень даже ничего, ряской и прочей водной гадостью не затягивался, прозрачность и глубину имел весьма приличную, а для особо романтичных клиентов-пациентов в начале лета расцветал кувшинками и лилиями, которые запросто можно было собирать с лодки. У пруда имелся даже небольшой песчаный пляжик, так что желающие имели возможность и позагорать, и покупаться. Впрочем, после событий пятнадцатилетней давности никто из местных в пруду не купался, но то ж местные, а приезжим все нипочем. Но Свирид, в некоторых вопросах разумный и даже покладистый, на сей раз проявил настойчивость и велел в кратчайшие сроки привести пруд в надлежащий вид. И даже нанял команду аквалангистов, которые прямо сейчас черными диковинными рыбами ныряли в воду с ярко-голубой моторной лодки.
– Хорошо им, – вздохнул Сандро.
– Да что ж хорошего? – На мгновение Люся отвлеклась от аквалангистов, запрокинула голову, чтобы получше рассмотреть расплывающуюся по смуглому, угловатому и вообще некрасивому лицу визави мечтательную улыбку.
– Я, когда в Гаграх жил, тоже нырял, – пояснил Сандро. – Только не с аквалангом, а так, сам по себе. У нас все ныряли и плавали как дельфины.
Люся на мгновение представила Сандро в образе дельфина и презрительно фыркнула. Тоже еще Ихтиандр выискался!
На пруду тем временем происходило что-то необычное, заставившее сидящего в моторке парня спрыгнуть в воду к товарищу, а потом выскочить обратно и призывно замахать стоящему на лодочной станции Степанычу.
– Нашли! – донесся до Люси его звенящий от возбуждения голос.
– Что нашли? – Степаныч неспешно подошел к краю дощатого настила, смахнул с головы льняную кепку, вытер ею лицо.
– Да хрень какую-то нашли! Здоровую, тяжеленную! Сейчас попробуем достать!
– Пойдем, что ли, посмотрим, что они там за хрень такую нашли. – Люся одним глотком допила остывший кофе, решительно вышла из беседки.
Сандро звать дважды не пришлось, тоже, видать, стало любопытно.
– Люся, а ты что здесь делаешь? – спросил Степаныч, не оборачиваясь, стоило только Люсе ступить на настил.
– А откуда?..
Договорить он ей не дал, предвосхитил вопрос:
– Духами твоими за версту несет.
– За версту несет от твоих архаровцев, когда они зарплату получают, а я благоухаю натуральной Францией, между прочим.
– Благоухаешь. – Степаныч все ж таки обернулся, хитро ухмыльнулся в густые усы, подмигнул Сандро. – Только уж больно сильно благоухаешь, красавица ты моя.
Люся уже хотела разразиться возмущенной тирадой, но Сандро, в обычной жизни едва ли не более вспыльчивый, чем она сама, поспешил загасить пламя разгорающегося конфликта.
– Что там, Степаныч? – спросил он, прикладывая козырьком ко лбу широкую ладонь и силясь рассмотреть в бликующей на солнце воде хоть что-нибудь.
– А хрен его знает. – Степаныч лениво обмахнулся кепкой. – Аквалангисты нашли что-то.
– Эй, нам бы подсобить! – послышалось со стороны моторки. – Степаныч, у вас тут кто-нибудь плавать хорошо умеет?
– Вот вопросик! – Степаныч в раздражении сплюнул себе под ноги. – Откуда ж мне знать, кто тут у нас плавает хорошо!
– Вай, дорогой, зачем обижаешь? Сандро в воде родился. – Не дожидаясь приглашения, повар сбросил сандалии, через ворот, не расстегивая, стянул рубашку, зыркнул в сторону Люси сливовым своим глазом, покрасовался с секунду, поиграл мускулами и щучкой ушел под воду.
Вынырнул он лишь метрах в семи от настила, фыркнул, что тот жеребец, помахал Люсе рукой. Вот ведь пижон! Можно подумать, ей интересно на него смотреть! Можно подумать, ей вообще есть дело до того, как он красуется, как гребет неспешно, выверенно, толкая поджарое тело все ближе к лодке.
– Красуется, – сказал Степаныч не то осуждающе, не то одобрительно. – Люська, ты глянь, какой мужик хороший. И холостой, я узнавал.
– Был у меня уже один такой хороший, – отмахнулась Люся. – Спасибо, Степаныч, накушалась.
Вот еще глупость какая – обращать внимание на какого-то там повара! Да за ней в Москве мужики табунами ходили! Потому что она не только умница, но еще и красавица, каких поискать. Ну и что, что от природы ее волосы невыразительного мышиного цвета?! Какая женщина сейчас помнит свой натуральный цвет волос? Сейчас она самая что ни на есть натуральная голубоглазая блондинка, с бюстом полноценного четвертого размера, осиной талией и стройными ногами. Мерилин Монро – вот она кто! А Свирид не оценил… То есть сначала вроде как оценил, а потом ему, понимаешь ли, стало все равно. Ну да бог с ним, со Свиридом, было и было! У нее теперь новая жизнь, она большой босс, управляющая элитным не то санаторием, не то реабилитационным центром. Она теперь о-го-го каких высот достигнет! Что ей какой-то Сандро…
Сандро тем временем уже подплыл к аквалангистам, уцепился мускулистыми руками за край лодки. Совещались они недолго, после короткого спора один из аквалангистов сбросил в воду трос, второй снова нырнул. Сандро тоже нырнул. Не было его так долго, что Люся помимо воли начала волноваться. Мало ли что! Еще потопнет, где ей перед самым открытием центра замену искать?!
Наконец вода возле лодки забурлила, пошла кругами, и на поверхности показалась лысая башка Сандро. Он что-то коротко сказал аквалангисту и снова нырнул. Люсе стало скучно. Мало интереса стоять под палящими лучами и, щурясь от солнца, пытаться рассмотреть хоть что-нибудь. Солнцезащитные очки остались в кабинете, а заработать ранние морщины она совсем не стремилась. Но и уходить с пристани тоже не хотелось, вдруг окажется, что нашли они не какой-нибудь поломанный велик, а что-то на самом деле интересное! Наконец, когда Люсино терпение уже почти лопнуло, моторка медленно направилась к берегу.
– Волоком тащат, – со знанием дела сказал Степаныч. – Что-то тяжелое. Гляди, как лодка наклоняется.
– Да что ж там может быть тяжелого-то? – спросила она раздраженно.
– А вот сейчас и посмотрим.
Находку вытаскивали на берег долго, матерясь и переругиваясь, позвав на подмогу того самого нерадивого ремонтника, подключив Степаныча. Наконец на желтый пляжный песок выползло что-то большое, зеленое, покрытое осклизлыми водорослями, похожее на дохлое чудище.
– Это что еще такое? – шепотом спросила Люся.
– Это? – Степаныч обошел находку со всех сторон, присел на корточки, поскреб пальцем зеленый бок, сказал озадаченно: – А это, Люся, похоже, она и есть.
– Кто – она? – в один голос спросили все, кто участвовал в спасательной операции.
– Спящая дама. – Степаныч резко выпрямился, обвел присутствующих мрачным взглядом.
– Да ты что?! – Люся тихо охнула, попятилась подальше от находки.
– Вот, значит, куда твой батяня ее дел. – Степаныч не смотрел в ее сторону, он почти с нежностью водил ладонью по чему-то отдаленно напоминающему женское лицо. – Значит, не решился-таки на переплавку, в пруду утопил.
– А что за статуя такая? – спросил Сандро, присаживаясь на корточки рядом со Степанычем.
– Местная достопримечательность. – Завхоз достал из кармана брюк носовой платок, промокнул им выступивший на лбу пот. – Считается, что статуя была сделана итальянским скульптором Антонио Салидато по заказу хозяина здешних мест графа Ильи Полонского сразу после скоропостижной смерти его жены Ольги Матвеевны. В лихие революционные годы статуя пропала. Поскольку особой исторической ценности она не представляла, искать ее не стали. А потом, уже при моей памяти, когда старый графский дом было решено переоборудовать под сельский клуб, мы ее и нашли в подвале под кучей хлама.
– Эй, Степаныч, а ты откуда такой умный, а? Про скульпторов итальянских знаешь, про революционные годы. – Сандро выглядел непривычно мрачным, наверное, обиделся на то, что Люся осталась равнодушна к его выкрутасам.
– Спрашиваешь! – Люся заглянула поверх его плеча, поморщилась при виде осклизлого бока статуи. – Это сейчас Степаныч – завхоз, а раньше-то он был учителем истории и смотрителем в поместье. Между прочим, лучше него про здешние места, – она широким жестом обвела пруд и виднеющийся в просветах старого парка графский дом, – никто не знает.
– А почему она называется Спящей дамой? – спросил один из аквалангистов.
– Долгая история, – Степаныч пожал плечами, – как-нибудь потом расскажу.
– Там, на дне, еще две статуи поменьше, – вмешался в разговор второй аквалангист. – Эта почти на виду, а те сильно заилены, придется поковыряться, чтобы достать.
– Еще две?! – глаза Степаныча зажглись жадным блеском. – Это, надо думать, ангелы, графские дочери. Удивительно! Просто поразительно! Я только читал про них, видел старую репродукцию…
– Так уж и ангелы? – усмехнулся Сандро.
– Статуи называются Ангелы скорби, сделаны все тем же Антонио Салидато после трагической смерти девочек. Пропали они одновременно со Спящей дамой. Только вот Дама нашлась, а Ангелы – нет. Все думали, большевики их уничтожили или куда-нибудь вывезли, а они, оказывается, все это время были здесь, у нас под носом…
– Слышишь, Степаныч, – Сандро потемнел лицом, – мы там, в пруду, еще кое-что нашли. Только это нужно будет поднимать с ментами.
– С ментами? – насторожилась Люся.
– Ага, – поддержал Сандро один из аквалангистов, – там жмурик на дне…
«Уазик» лихо скакал по колдобинам, буксовал в рытвинах, вгрызаясь в высохшую до каменной твердости землю, ревел на всю округу. Можно было, конечно, не выпендриваться, подъехать к графскому дому с другой стороны, там стараниями Свирида дорогу проложили вообще шикарную, от самого райцентра, но участковому милиционеру Петру Огонькову захотелось вдруг вот так, с ветерком, через прерии. Да, честно говоря, не просто так захотелось, а по причине весьма прозаичной: езда с препятствиями по колхозному лугу позволяла отсрочить неприятный момент опознания трупа. Вот, казалось бы, здоровый он, Петруха, мужик, крепкий, рослый, подкову может двумя руками согнуть, работает в органах на должности серьезной и ответственной, даже табельное оружие при себе имеет, а к виду смерти так и не привык. И если обычных покойников он еще кое-как мог выносить, то с утопленниками дело обстояло гораздо серьезнее. Утопленников бравый милиционер Петр Огоньков боялся до икоты, хотя не признался бы в этом никому, даже самому себе.
Вот и сейчас он убеждал себя в том, что спешить некуда – пока еще приедут спецы из райцентра! – так что можно прокатиться с ветерком по свежему воздуху, обозреть, так сказать, окрестности. Жаль только, что, как ни петляй, а дорога уже подходит к финишной прямой. Вон и липовая аллея впереди, значит, до поместья осталось полкилометра.
По аллее неспешно шла какая-то дамочка. По виду нездешняя, потому что никто из здешних не вырядился бы в драные джинсы и безрукавку, похожую на мужскую майку, и на голову бы не повязал дурацкий платочек с черепами. Видать, дачница, потому как санаторий еще закрыт и постояльцев в нем пока нет.
Поравнявшись с дамочкой, Петр намеренно сбросил скорость, вытянул шею, всматриваясь в скуластое, наполовину закрытое большими, какими-то стрекозиными очками лицо. Сейчас бдительность не помешает, труп – это вам не хухры-мухры, труп – это ЧП. И нечего всяким шастать возле места преступления.
– Петя, ты или проезжай, или притормаживай, – сказала вдруг дамочка низким, с прокуренной хрипотцой голосом. – Напылил тут…
– А мы, гражданочка, с вами знакомы? – Петр все-таки притормозил, наполовину высунулся из «уазика».
– Знакомы, товарищ милиционер. – Дамочка сняла очки, улыбнулась широкоротой, чуть кривоватой ухмылкой, от которой на одной щеке образовалась симпатичная ямочка.
– Глашка? Глашка, ты, что ли?! – Петр выключил мотор, спрыгнул в пыль на дорогу, обвел дамочку уже другим, жадным, взглядом. Вот, значит, как выглядит их антоновская знаменитость. Он-то уже решил, что Глашка в своей Москве красавицей-раскрасавицей стала, пластических операций наделала, рожу подрихтовала, а она, оказывается, почти ничуть и не изменилась, как была тощей уродиной, так и осталась. Только остатки стыда растеряла, вон под майку даже лифчик не надела. Хотя зачем ей лифчик?! То ли дело его Маринка! Вот где красота настоящая, ни в какой рекламе не нуждающаяся.
– Что смотришь, Петенька? – Глашка продолжала улыбаться, но взгляд ее сделался колючим, настороженным, как когда-то давным-давно. – Никак не признал?
А и правда, что это он пялится, да еще и судит? Ну не повезло девке с внешностью, зато карьеру сделала! Мужиков, говорят, каждый день меняет, по курортам модным раскатывает.
– Да признал. – Петр смущенно улыбнулся, поколебался немного, а потом раскрыл подруге детства объятия. – К нам-то какими судьбами? Ты ж, говорят, сейчас крутая.
– Крутая. – Глашка усмехнулась, потрепала его по свежевыбритому подбородку, зыркнула черными цыганскими глазюками так, что на какое-то мгновение у примерного семьянина, отца двоих детей Петра Огонькова занялось дыхание. Теперь понятно, чего в ней мужики столичные находят. Она на них вот так посмотрит, и все, пиши пропало… И пахнет от нее так непривычно, чем-то нежным, горьковатым, как в саду после дождя. Не то что от Маринки. У Маринки проще все: духи сладкие, как леденцы, и такие же дешевые. Эх, надо будет на днях в райцентр смотаться, купить любимой жене что-нибудь настоящее, французское…
– Я к бабушке приехала в отпуск. – Глашка отступила на шаг, снова нацепила свои стрекозьи очки и стала самой обыкновенной тощей и некрасивой городской бабенкой. Прошло наваждение, слава тебе, господи…
– А сейчас-то куда топаешь? – Петр с опозданием вспомнил, что он не просто так раскатывает, что он при исполнении, а до места преступления пять минут ходу.
– Да вот, решила к поместью прогуляться. Бабушка говорит, там по-другому все, хозяин у него теперь есть. А ты куда?
– И я туда же. – Петр секунду подумал, а потом распахнул перед Глашкой дверь «уазика». – Садись, подвезу.
– Да тут же недалеко.
– Садись, садись, – велел он строго. – Я ж не просто так катаюсь, я в поместье по делу. Без меня тебя туда вообще не пустят.
– А что так? – В Глашкином прокуренном голосе послышалась насмешка, и Петру вдруг сделалось обидно.
– А то, что водолазы из пруда утопленника выловили, – сказал он мрачно. – Скоро бригада подъедет, посторонних туда точно не пустят.
– Утопленника? – Смуглое, до бронзы загорелое лицо Глашки вдруг сделалось пепельно-серым, и Петр, который вовсе не был злым, тут же себя укорил за черствость. Совсем забыл, что у Глашки к старому пруду особенное отношение.
– Слышь, это я зря, видно, тебе сказал, – пробормотал он. – Ты это… если не хочешь, не ходи. Домой ступай, пока я там буду разбираться.
Сказать честно, никто ему разбираться не даст, но пыль в глаза пустить охота. Чтобы не думала, что они там у себя в Москве крутые, а он тут в Антоновке просто так, не пришей кобыле хвост.
– Не, Петь, я с тобой съезжу, если, конечно, можно. – Глашка упрямо мотнула головой, и стрекозьи очки слетели на землю. Взгляд у нее теперь был уже совсем другой, не насмешливый, а напуганный и, кажется, решительный. Вот этот взгляд он помнил хорошо, он был Петру привычен и не нервировал непонятными потаенными искрами, не сбивал с пути истинного.
– Поехали, – решил он, поднял очки, черканул радужными стеклами по рукаву форменной рубахи, стирая пыль, протянул Глашке. – Только чтобы тихо мне. С вопросами всякими не лезь и под ногами не путайся. А то знаю я вас, журналистов.
Московская знаменитость возражать не стала, поблагодарила за очки, забралась в «уазик».
К месту преступления подъехали спустя пять минут. Петр нарочно максимально сбавил скорость, чтобы Глашка смогла рассмотреть и оценить перемены, произошедшие в графском поместье. Она смотрела во все глаза, даже про сигарету, зажженную, но так ни разу и не поднесенную к губам, забыла. А Петр, который всего полгода как бросил курить, адски мучился, вдыхая необычный, как и духи, табачный дым. Если бы не страшная клятва, данная Маринке, то точно не удержался бы, стрельнул сигаретку, а так терпел из последних сил.
У пруда, у той его части, где строители организовали новенькую лодочную станцию, толпился народ. Петр смог рассмотреть коренастую фигуру Степаныча, ярко-красное, вульгарное, как сказала бы Маринка, платье Люськи Самохиной и лысую башку грузина, числящегося в поместье шеф-поваром. Остальной народ был незнакомый и явно на месте преступления лишний. Хотя какое здесь место преступления! Утопленника-то не на берегу нашли, а в пруду. И не факт, что преступление имело место быть, может, просто потонул кто по дури или по пьяни.
– Ну, что у вас тут? – Петр лихо спрыгнул на землю, не дожидаясь, пока из «уазика» выберется Глашка, направился к пруду.
– Утопленник, – буркнул незнакомый парень, затянутый в гидрокостюм.
Позади него у самой кромки воды лежало тело, зеленое, оплетенное водорослями, безобразное. Петра замутило.
– Да не туда смотришь, товарищ милиционер, – усмехнулся грузин. – Это не труп, это статуя. Труп мы со дна не доставали, ждали разрешения официальных властей.
Значит, это не труп, а всего лишь статуя! Кислый ком, уже подкативший было к горлу, соскользнул обратно в желудок.
– Так вот вам официальное разрешение, – сказал Петр нарочито громко и зло. – Доставайте!
– А я, между прочим, не подряжался жмуриков со дна вытаскивать, – огрызнулся парень в гидрокостюме.
– Да брось ты, брат, – грузин примирительно взмахнул рукой, – надо человеку помочь. Ну хочешь, я вместо тебя нырну?
– Обойдусь как-нибудь без помощников. – Парень кивнул напарнику и уселся в лодку. – Под твою ответственность! – он с неприязнью посмотрел на Петра.
Ясное дело, под его ответственность! А кто ж здесь еще уполномочен брать на себя ответственность?
– А это кто с тобой? – Люська бесцеремонно ткнула наманикюренным коготком в сторону Глашки. – Маринка-то твоя знает, что ты в рабочее время дачниц на служебной машине катаешь?
Вот ведь язва! Как была заразой языкатой, так и осталась, даже городская жизнь ее не изменила. Небось сегодня же побежит Маринке докладывать…
– А я не дачница. – Глашка, похоже, решила, что пора выйти на сцену, шагнула из тени старой липы на желтый пляжный песок, сняла очки, кивнула всем сразу, ухмыльнулась козырной своей кривоватой улыбкой.
– Какие люди в Голливуде! – пропела Люська. – Никак сама Аглая Ветрова, звезда столичного бомонда, к нам пожаловала! – Голос у нее сделался сахарный, аж до одури.
Вот ведь бабы! Им и время нипочем! Старая дружба не ржавеет. Хотя про дружбу это он зря, дружбой здесь никогда и не пахло, а чем пахло, вспоминать не хочется, да и незачем.
– Сама, сама. – Из заднего кармана джинсов Глашка достала пачку сигарет, сунула одну в рот, но прикуривать не спешила, ждала, пока кто-нибудь из мужиков поможет. Зря ждала, не тот здесь народишко собрался. Вот он, Петр, обязательно помог бы, если бы не бросил курить.
Оказалось, ошибся он в оценке собравшихся на лодочной станции мужиков: к незажженной Глашкиной цигарке потянулись сразу три руки: мокрая аквалангиста, влажная от пота Степаныча и волосатая грузина. А залетная звезда Аглая Ветрова кивнула по-королевски, улыбнулась всем и сразу, но прикурила от зажигалки грузина, и Петр, привыкший проявлять бдительность, с удивлением заметил, как размалеванное Люськино лицо перекосила гримаса злости. Ох, Люська-Люсинда! Вечно ей мужиков мало, вечно хочется вырвать кусок пожирнее из пасти конкурентки. Только кого ж здесь вырывать-то? Ну разве что аквалангиста. Молод, накачан, хорош собой – как раз в Люськином вкусе. Даже странно, что с такими-то вкусами замуж она вышла за Свирида. Вот уж кто ни по каким статьям не укладывался в ее стандарты. Впрочем, время показало, что Люська не прогадала: изо всей их удалой компании фортуну за горло взял именно Свирид. Да вот еще Глашка. А кем были-то? Как же это старший сын Ванька таких называет? Лузеры – вот! Лузерами они были, что Глашка, что Свирид…
– А какими судьбами? – Люська больше не кривилась, Люська улыбалась широко и ласково, так, словно встретила любимую подругу. – Ты ж, говорят, сейчас все больше по заграницам разъезжаешь. Что тебе в нашей глуши?
– Так уж и в глуши? – Глашка глубоко, по-мужски, затянулась, многозначительно посмотрела на графский дом. – У вас здесь, как посмотрю, настоящий эдем организовался.
– Организовался, – фыркнула Люська, – не организовался, а организовала. Я организовала, между прочим. Вот этими руками. – Она задумчиво посмотрела на свои остро заточенные, ну точно как у упыря, когти. – Свирид, понимаешь ли, сейчас очень занятой, у него денег куры не клюют, а времени нет нисколечко. Говорит: «Бери, жена, деньги, сколько нужно, и начинай свой бизнес».
– Так ты теперь бизнес-леди? – В голосе Глашки прозвучал вежливый интерес.
– Ага, у нас семейный бизнес! – Люська сделала ударение на слове «семейный», и Петр мимоходом удивился: ну ладно бизнес, но с какого перепугу семейный! Ведь всем антоновским давно известно, что не сложилось у них со Свиридом ничего, если еще не разошлись, то уж точно скоро разойдутся. А то, что Свирид доверил это дело Люське, так он в своем праве. Во-первых, он всегда был чутк того, непредсказуем, а во-вторых, Люська, хоть и стервозина, каких поискать, но свое дело знает, если уж вцепится во что, так мертвой хваткой. Без нее бы ничего путного из этой затеи с санаторием не вышло.
– А ты, Аглая, надолго к нам? – Не то чтобы Степаныч спешил погасить назревающий пожар, скорее, просто проявил вежливость. Он же интеллигент, даром что завхоз, ему нужно, чтобы все чин по чину было – с церемониями.
– Василий Степанович? – А вот сейчас Глашка, похоже, удивилась. Неужто не признала наипервейшего антоновского сказочника?!
– Не узнала меня, Аглая? – Степаныч расплылся в добродушной улыбке. – Так и немудрено. Мы с тобой сколько лет не виделись? Десять?
– Пятнадцать.
– Вот, пятнадцать! – Степаныч потеребил густой ус. – Пятнадцать лет – это только для таких нимф, как вы с Люсей, не возраст, а для меня, старого пня, практически рубеж.
– Так уж и рубеж? – Глашка выпустила струйку сизого дыма, уставилась на Степаныча внимательным и беззастенчивым взглядом, точно пыталась сравнить тот образ, который сохранился в памяти, с нынешней картинкой. – Вы еще о-го-го какой мужчина! – сказала с усмешкой.
– Ой, ну прямо дворянское собрание какое-то! Развели церемонии! – хмыкнула Люська. – А ничего, что у нас тут Спящая дама отыскалась, а там труп в пруду плавает? Или вас это нисколько не смущает?
– Можно подумать, тебя смущает! – не удержался Петр, которому упоминание о предстоящей нелегкой процедуре извлечения и, возможно, опознания утопленника не подняло настроение.
– Меня смущает! – Люська притопнула каблучком от негодования. – Нам через неделю пансионат открывать, а тут такое! Как думаешь, много народу к нам приедет, если станет известно про этого твоего жмурика?!
– Он не мой жмурик, – отмахнулся Петр. – Он пока ничейный. Что-то долго они там возятся.
Словно в ответ на его претензию, вода возле лодки запузырилась, и на поверхность всплыл сначала аквалангист, а потом еще что-то, с берега не различимое. Кислый ком, который, оказывается, никуда не делся, медленно, но неуклонно двинулся вверх по пищеводу.
Не заметил, как день прошел, перетек в непроглядную ночь. Вдвоем мы сейчас: я и Оленька. Она мертвая и в смерти своей прекрасная, как ангел. Я тоже уже почти мертвый, безобразный в своем никчемном существовании.
Не установил Илья Егорович причину смерти. Или мне не захотел сказать? Вместо ответа про неисповедимость путей Господних заговорил, советовал смириться, никого не винить в трагической этой случайности.
Случайность! Оленьки нет, а он мне про случайность! Знаю, кто виноват, не нужно далеко ходить, достаточно сдернуть с зеркала черную кисею да вглядеться повнимательнее. Я виноват! Упреки мои, ревность неизживная довели Оленьку до последней черты. Вместо того чтобы радоваться, счастье свое пить полной чашей, я травил и себя, и ее унизительными подозрениями, ревновал, как мальчишка, обижал неверием и злыми словами, не мог или не хотел поверить, что такая, как она, может искренне любить такого, как я. Не за титул, не за деньги и модные платья, а просто так. Не как благодетеля и спасителя, а как мужа, как мужчину, в конце концов!
Бесприданница, бессребреница, сирота – легкая добыча для алчных и подлых. Моя добыча. Она ведь и не раздумывала почти, когда я к ней в дом явился с предложением руки и сердца, потому как умная была девочка, понимала, что лучше уж стать законной женой старого графа Полонского, чем любовницей какого-нибудь молодого прощелыги. Вот потому что не раздумывала, я и сделался таким подозрительным, понимал, что любви между нами никакой нету, боялся, что повзрослеет моя Оленька, поймет, что проходит молодость с нелюбимым мужем, к другому уйдет.
А она все твердила: «Одного тебя люблю, Ванечка, никто мне не нужен». И ведь ласковая какая со мной была, терпеливая! Я, бывало, сорвусь, накричу на нее, а она в ответ только улыбнется печально, будто знает обо мне что-то такое, что мне самому неведомо. Мне бы с рождением дочек угомониться, взять в толк, что моя она теперь, навеки моя, да только материнство Оленьку еще краше сделало, а любовь мою еще мучительнее. Ревновать начал, к малым детям ревновать, к собственным кровиночкам. Понимал, что страшно это, не по-христиански, а ничего с собой поделать не мог, не хотел делить Оленьку ни с кем. Потом-то поостыл, посмотрел на Настеньку с Лизонькой другими глазами, понял, что жена их иной любовью любит, недоступной мужскому пониманию. Смирился. До тех пор пока девочки наши не подросли, пока не стали мы в свет выезжать.
Я бы не выезжал. Что мне эта напыщенность, суета и тщеславие! Для балов я слишком стар, для интриг слишком равнодушен, для борьбы за власть слишком богат. Но свет не желал оставлять нас в покое, свет желал видеть графа Полонского непременно с молодою супругой. Чтобы оценить новых рысаков, запряженных в новую же золоченую карету, из Санкт-Петербурга выпсанное, по последней моде сшитое Оленькино платье да старинное бриллиантовое ожерелье. Чтобы с жадностью подметить то, что еще не подмечено, лишний раз позлословить по поводу чудовищного мезальянса. Я понимал это остро и болезненно, а Оленька успокаивала, уговаривала, с честью несла и бриллиантовое ожерелье, и модное платье, и титул графини Полонской. И в чести этой она была куда большей аристократкой, чем те, кто мнил себя таковым.
А я ревновал, забывал дышать, когда какой-нибудь молодой хлыщ приглашал Оленьку на вальс, бесновался, когда ловил восхищенные взгляды, на нее направленные, умирал, когда Оленькиной ручки касались чужие жадные губы, готов был убивать…
И убил… Неверием, упреками, любовью своей сумасшедшею.
Свечка в Оленькиных тонких пальчиках потрескивает, желтое пламя вздрагивает, как от ветра, а на губах застыла улыбка. И мотылек – над огнем, мечется, не боится обжечь крылышки. Доверчивый, совсем как моя Оленька… Нет сил смотреть, и слез нет. Ничего нет – выгорело все на рассвете вчерашнего дня.
– …Не закапывай… – голос, скрипучий, ненавистный, колышет пламя свечи, грозится загасить. – Не закапывай Ольгу в сырую землю, барин. Не убивай дважды.
Ульяна, старая карга! И как только пробралась, ведь велел же никого не пускать, не мешать мне! Но этой ведьме мое слово не указ, у нее одна только хозяйка была, которой она верой и правдой, точно собака, служила, – Оленька. Потому как ведьма – Оленькина кормилица и единственная на всем свете заступница. Во всем моя жена была покорной, кроме одного: не позволяла никому ведьму обижать, даже мне. Вот и терпел я это кособокое, хромое, в лохмотья закутанное существо в своем доме, ради Оленьки терпел.
– Уйди! – Лучше смотреть на свечу, на тонкий Оленькин профиль, на мотылька, запутавшегося в Оленькиных волосах, лучше не слышать змеиного шипения за спиной.
– Не закапывай. Не мертвая она…
Не мертвая… Как бы я хотел в это верить, но не могу! Изменилась моя девочка, стала другой: тонкой, полупрозрачной, хрупкой – неживой.
– Уйди, старая! – Сжатым в кулак пальцам больно, и дышать больно, а перед глазами кровавая пелена. – Уйди, не доводи до греха!
– За что ж она тебя любила, жестокосердного? – Ульяна обошла гроб, коснулась высокого Оленькиного лба, и мотылек доверчиво перепорхнул на ее заскорузлый палец, сложил крылышки, затаился. – Что ж ты слепой-то такой?! Что ж ты сердцу своему не веришь?!
– Пошла вон! И чтобы глаза мои тебя не видели! – Сгреб визжащую, беснующуюся ведьму в охапку, вытолкал за дверь, почти без чувств упал на стул рядом с гробом, сквозь кровавый туман заметил, что свечка в Оленькиных руках погасла, а неугомонный мотылек опустился мне на плечо, точно утешая…
Ничто не изменилось. То есть люди, деревня, графский парк, даже старый пруд изменились – кто в худшую, кто в лучшую сторону, – но атмосфера осталась прежней, вязкой, тревожной, навевающей уныние и всякие бредовые мысли. Аглая глубоко затянулась, мимоходом отметив, что даже привычный табачный дым здесь трансформируется, приобретает неприятные горьковатые нотки. Странное место – отталкивающее и притягательное одновременно. И ведь не избавиться от его тяжелого очарования никак, не выбросить из головы обрывки мутных воспоминаний. Может, оттого, что воспоминания обрывочные, не складывающиеся никак в цельную картинку, ее по-прежнему тянет сюда с такой неудержимой силой. Даже в этот старый парк, особенно в парк. И Дама нашлась, словно специально поджидала, когда она, Аглая, вернется, чтобы вспомнить то, что похоронено под толстым илом воспоминаний. Она вернулась, а вот вспомнить никак не получалось…
А Люська как была стервой, так и осталась. До сих пор небось считает, что мир существует исключительно для исполнения ее капризов. Ох, всем хорош был Аркадий Борисович, председатель богатейшего колхоза, а вот с любимой дочкой сладить не сумел, распустил еще с пеленок, приучил к вседозволенности. Нет больше колхоза-миллионера, и Аркадий Борисович уже десять лет как умер, а Люська до сих пор считает себя пупом земли.
– Что-то не похоже, чтобы они утопленника выловили. – Петя сощурился, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть на дне приближающейся к берегу лодки.