«The Coliseum» (Колизей). Часть 1 Сергеев Михаил
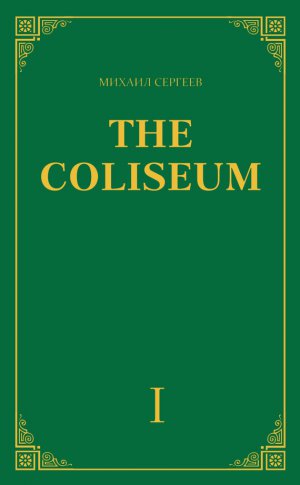
Он помолчал.
– Немногим, ох немногим удается оставить ремесло позади. – Председатель покачал головой. – И заметь, явный признак, что ты в «жопе» – плодовитость!
– В чем же отличие ремесла… от таланта? – Андрей вздернул брови. – Полно достойных и молодых. Всегда, подозреваю, было так. Толстой тоже не в пятьдесят начал.
– Верно. Но ремесло он оставил в пятьдесят. Кстати отличие того от другого мне помог понять один профессор, из «Строгановки». Много лет назад дочка моя, радость папина… дай бог ей здоровья, заканчивала школу и была, так сказать, на перепутье. Сын-то на футболе помешался, как и я по сей день, а она ничем особо не увлекалась, но при этом рисовала. Причем странные выходили рисунки. Изгибы, линии, переходы, оттенки, что-то похожее на миры… и вдруг подобие розы… из наколок иглой, короче, абстракция. Но смотришь – завораживает. Рисовала везде, в школе на уроках, дома, в гостях… где бумага попадалась. Взял я в охапку листочки те, да поехал в «Строгановку». Нашел профессора и спрашиваю: «Что выйдет из нее, куда поступать?» А он помолчал и говорит: «Раннее творчество. А вот, куда… даже не скажу. Могла бы на любой наш факультет, да не поступит. Обязательный экзамен – рисовать лицо натурщика. Фас, профиль… там. А ведь она в художественную школу не ходила? Впрочем, что спрашиваю, там выбивают все это. – И тычет в листки. – Убили бы творчество. – Потом подумал и огорошил: – Но если уж очень захотите, я за три месяца могу научить ее. Не бесплатно, конечно». – И смотрит на меня обалдевшего. «Как научить? – говорю, – разве для этого талант не нужен?» – «Да какой талант? Ремесло. Там полпальца отступить, здесь добавить, вот и нос с бровями. Ремесло». – Тут я осмелел: «И меня сможете? Научить»?.. – тогда еще жил надеждой поездить на этюды – девки молодые всё вокруг вертелись. – «Три месяца, и можете пробовать портрет, – отвечает». Вот тогда и понял: научиться живописи может любой, а в искусство превратит один из тысяч. Так и в литературе. – Виктор Викторович достал сигареты, помял пачку и, смутившись, со вздохом сунул обратно в карман. – Бросаю. Дочери обещал.
– Значит, всё лучшее впереди? – Андрей грустно улыбнулся.
– Главное… человек делает в конце.
– А как же умирают молодыми? Или вообще детьми?
– Заметь, я не сказал: в старости. Выходит, уже сделали главное. Повезло. Раньше нас к богу с ответом приступят… за то, что признавали идолов, да кумиров. А мы попозже, но с грузом потяжелее. Набиваем неудобными вопросами, своё предсталище перед богом-то! Так-то брат, не завидуй.
– А дети?
– Тоже сделали. Может, кому-то просто своим рождением… Даже, скажу страшнее, – порой нерождением. Этот факт сам по себе меняет мир… каждого из нас, а не только участников… того и другого.
– Что-то невероятное говорите.
– Давай-ка вернемся к тебе. Вот ты говоришь, и странички не выходит иногда. Поверь, забирать у себя, отдавать книге душу, больше двух, трех часов в день нельзя. И не потому что не хочешь – она не может. Душа. Рвать сердце сверх и жить – не получится. Срабатывает защита. Бессилен человек. А по книжке или картине в полгода – ремесло. Не отдаешь, а забираешь. Не добро, а деньги. Если согласен – будет всё. И романы, и хоромы и даже похороны. К ним готовятся, рисуют в воображении. И будут. Но с тяжелым монументом. Давить будет до смерти. До настоящей. А отдавать… – труд тяжелейший. Таким не по плечу… – Крамаренко вздохнул. – Но сначала, Андрюша – адову дорогу. Все проходят, получают, но редко кто отдает. Единицы. И вообще… – он усмехнулся и хлопнул вдруг в ладоши, – если от кого услышишь, что он художник – осмотрись, нет ли рядом зазевавшихся санитаров.
Собеседник не мог сдержать улыбки:
– Думаю, все-таки народ не согласится. Посмотрите сколько написано, книг, картин, фильмов снимается… и любой скажет – искусство.
– Ты за всех не отвечай. Они еще и о духовности порассуждают. Важно не то, что скажут, а та правда, которую знаешь только ты… только! Для заработка делал или деньги приложились? А может о статусе думал своем?., ну, среди друзей? «Писатель»! Щекочет? А? Меня тоже щекотало, не дрейфь. Мол, смотрите, снимаюсь, выступаю, востребован народишком-то! Именно так, уменьшительно. Кто ж не мечтает о такой славе? Народной? Вдумайся, как виртуозно маскируют тщеславие. А другие нагло, натиском! И ты туда же! Здесь главное – очухаться. Если мечтаешь о народной, а не с собой говоришь и о себе, подл для души-то становишься. И для их и для собственной. А вот если не кому-то, а себе нашел место… на страницах, свою роль на сцене… жизни-то – держись до боли, зубами скрипи – будь покоен, если на душу легла… на твою, подчеркиваю!., то и на другие без намерения уже подействует. Точно! А желать такого намерения – преступно. Само случится. И кто-то не сопьется, не станет подлецом. Остановит. А иной и пример возьмет. Тут уже совсем другие «пенаты». Это тебе не счет с нолями, не золоченые карнизы. И дети пойдут в награду. В самую что ни на есть высокую, а не в обузу и боль. И не поверишь, какой цены огонёк засветится в тебе, засверкает. Никакой «Кохинур» во сто карат не увлечет. Другим станешь! Так кто ответит, что на уме-то у тебя было? Второе – забота о людях? Ну-ка? А может, на Сахарова? С плакатиком? По телику увидят! А?
Молодой человек развел руками.
– То-то. А народ не трогай, не сбивай. Пиши или работай, да не тявкай за других.
Крамаренко улыбнулся и похлопал Андрея по плечу:
– А книги, на которые киваешь, не от щедрости души, и не от сердца. Их можно и весь день крапать, не износишься, – мужчина наклонился к уху собеседника и прошептал: – лишь бы жопа не затекла. Меняй творчество на ремесло. Душу на медные трубы. Совесть – на деньги. Тогда и по три романа, и по пять полотен в год. И ролей не перечесть! Карьера удачлива, и жена довольна. Уж не вырваться… У него… – и кивнул в сторону, – хватка мертвая. Кумекаешь?!
Оба рассмеялись.
– Тьфу… ладно о дурном, – Виктор Викторович всё еще улыбался. – Другое дело, что идея Бориса – утопия. Но ключик у тестя все-таки был…
– Какой ключик?
– Не распространялся. Уж извини покойника.
– А мне кажется, надежды нет. Если титанов не послушали. Вон, от Довлатова и Достоевскому досталось. А «тургеневские женщины», у него вызывали любые чувства, кроме желания с ними познакомиться. А ведь писал честно. Да и человек был хороший. Сами же говорили: о мертвых – только правду! И ведь наши мэтры думают также… но лгут, прикрываются именами. Кто из них отдаёт? Все капитулировали. Одни шутовством куют монету, другие, глубокомысленно рассуждая – о вечном. Завидуя при этом гонорару третьих, что просто стригут купоны и, не скрывая, плюют на наследие. Кто поднимется? Кто провернёт?.. так заржавело. А с театрами что творится? – В голосе Андрея слышалась безнадежность. – Вот и получается, чем жил Борис Семенович – никто не знал…
Крамаренко устало вздохнул:
– Ну, «тургеневские» у меня вызывают то же самое. Украл «дворянское гнездо» у Бунина… да что поделать… А вот судьи кто? Кто судьи-то, мой друг?.. – выжившие в борьбе видов! Что же ты хочешь? Всё идет по плану… Главное – следовать заповеди: есть, пить, одеваться. Ты запиши, запиши ее, для лекции. А потом… в церковь, на причастие. Зашел, покаялся, свечка. Зашел, покаялся, свечка. И уверены – служение людям, начальству, богу. Охватили вроде всех! А, да, еще близких привести за тем же. И это еще ничего, если так-то. – Председатель о чем-то задумался и провел по лицу ладонью – будто вытирая пот.
Мимо с шумом проследовала компания студентов.
– Чем жил, говоришь? А чем живут они? – Виктор Викторович, не замечая удивленного взгляда Андрея, указал вслед. – Ты, кажется, взялся это увидеть? Половину я рассказал, вторую мог бы и сам у тестя узнать, чай, не врагами были.
– Нелюдим был родственник последнее время.
– Я такого не замечал. А вот как провернуть… Однажды, помню, после ужина, хор-рош-шего такого ужина, Борис ответил… как и всегда, в своеобразной форме. Н-да, «дело было к вечеру, делать было нечего», – оптимизм мужчины, казалось, обрел новую силу. – Обсуждали мы одну из готовых к изданию его книг. Я спросил тогда, кто будет читать? Массовость точно не обретет… да и вообще, не видел определенной группы. Роман сложен, что никак к достоинствам не отнести. Знаешь, как ответил?
– Как?
– Рассчитан на меньшинство из противоположностей: одних – успокоить в сокрушении, других сподвигнуть на сокрушение.
– На что сподвигнуть?
– Ну, можно иметь сокрушенное сердце, а можно сокрушать. Сдается мне, искал нового Савонаролу. Предвидел появление. Утверждал, что их много, нужен только импульс, толчок. Правда, был уверен в наследии трагической судьбы предшественника. Этакая спираль падений. Лидер, попытка увлечь общество вверх и снова… провал.
– Так самый, что ни на есть революционер?! А для чего попытки? Если обречены?
– О! Это ж главное! Умирая на подъеме, человек уходит к Богу, говорил. А в падении… ну, сам догадываешься. Так что необходимы, подъемы-то, с жертвами, с преодолением, чрезмерностью. Революционер, полагаешь? Может и революционер. Только здесь путаница… вон глянь на Украину – революция или переворот? Как удобнее? – Крамаренко пожал плечами. – Поди сейчас разбери. А в нашем случае, кому суждено – прочтет. Верил Борис в «Перст»! Подведет, мол, и откроет. Мои книги, говорил – универсальны. Разговор с собой. Любой может дать своё имя герою. Но каждая – приговор. – Неожиданно лицо его расплылось в улыбке. – Был такой футбольный судья – Пьерлуиджи Коллина – харизматичная личность, сущий демон. Ты глянь на фото в интернете. Игроки не смели перечить! Так вот он любил повторять: каждый матч – финал! По-моему, в чем-то оба похожи. Посуди, если любой стих писать как последний. Или книгу. Или картину. Такое возможно только с помощью… неба. Потому как совпадают цели.
Андрей скептически улыбнулся, но внимание не оставило его, а лишь придало лицу некоторую задумчивость.
Собеседник, тем временем, продолжал:
– Борис практиковал этакий продуманный подход не только к замыслу, но и к читателю. Один, ну, возьмем рядового, прочтет лишь десятую часть и получит всё необходимое, ничего не потеряет. Но! Главное, приобретет! Из той, десятой части. Другим он вообще советовал пропускать пятую, или какую там… главу. Даже на книгу ограничения по возрасту давал. И тоже, считал, безболезненно. Третьи, интеллектуалы, уж прости ты их, «высокого» полета, был уверен, прочтут не раз. Заставлю, говорил. В них, в отличие от первых, недостаточно бросить семя, чтобы проросло. Испорчены чтением дерьма, просмотром и прослушиванием того же… Им нужен не стебелек, а крепкий саженец, да с таким же корнем. Тогда пробьет. А возвращаться к тексту они будут, мотивы тесть разбросал по книге. Скрытно. Так и говорил. И до понимания эта группа риска все-таки дойдет. Так и называл их в отличие от «рядовых», которых ценил несравненно больше. «Почвой» величал. Интеллектуалу кувыркнуться с верной дорожки – что палец в прорубь сунуть. Кульбиты делают на «раз». Замечалось всегда, а массовым явление стало только сегодня. Психоз, болезнь. Но лечится. Простые же люди не мнят себя чёрти кем – кругозор не с высвистом, а земной, прочный, надежный. Даже к похмелью более устойчивы, между прочим. Что, заметь, в жизни немаловажно. Кое кто же, – мужчина ухмыльнулся и подмигнул парню, – вообще считает главным!
Тот покачал головой, удивляясь всё больше.
– Трезвый расчет именно в знании таких черт, – поучительно продолжал Виктор Викторович. – В интерактивном, выражаясь по-вашему, подходе к читателю. Так что всем! Так и говорил. Ну, а отсюда его отношение к «листающим»: интеллектуал не губка, а работяга – не стенка. – Он снова махнул рукой, – еще и добавлял: «Минусы первых традиционно хуже недостатков вторых». История, брат! Нечто подобное он и полагал в основу подбора людей для «конюшен».






