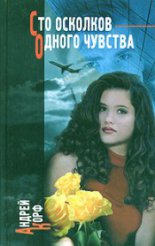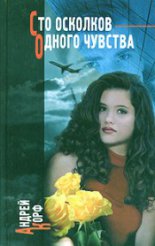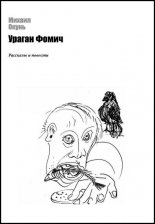А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 1 Тарасов Борис
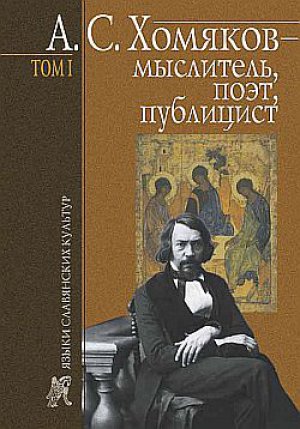
Даже ближайший друг Хомякова А. И. Кошелев в своих воспоминаниях о нем (Русский архив. 1879. № 11) только упомянул Валуева среди молодых людей, сгруппировавшихся около Хомякова, и ни словом не обмолвился о нем в автобиографических «Записках» (1884) при характеристике славянофильского кружка: Кошелев стал славянофилом в конце 1840-х годов, после смерти Валуева, и о его деятельности знал из вторых рук.
Через 15 лет после смерти Валуева, в 1860 году, известный санскритолог К. А. Коссович сокрушался о том, что о Валуеве так мало написано, что о нем «ныне никто не помнит и не вспоминает»[88].
Однако Хомяков никогда не забывал о Валуеве, в его сердце Валуев занимал особое место: он любил его отеческой любовью. Племянник по линии жены Екатерины Михайловны, Валуев был сиротой, в младенчестве лишившись матери Александры Михайловны, урожденной Языковой, от которой унаследовал необыкновенную красоту: в биографическом очерке, посвященном Валуеву (Библиотека для воспитания. 1846. Отд. 1. Ч. 6), Хомяков подробно описывал его внешность: высокий открытый лоб, светлые задумчивые глаза, «прекрасные черты» лица, на котором не было отпечатка дурной страсти, – все это в соединении с благородством и добродушной веселостью обеспечивало Валуеву всеобщее внимание в обществе.
В юности Валуев потерял отца Александра Дмитриевича, который являл прямую противоположность сыну: бывший морской офицер А. Д. Валуев, по отзыву хорошо знавшего его Д. Н. Свербеева, был человеком легкомысленным, болтуном и хвастуном[89], тогда как сына отличали невероятная целеустремленность, фанатичная преданность делу и трудолюбие. В 1845 году, когда возникла необходимость повторной поездки Дмитрия на лечение за границу, Хомяков писал его дяде – поэту Н. М. Языкову: «Валуев не только дорог; но нужен. Он менее всех говорит, он почти один делает»[90]. Хомяков заменил Валуеву отца – одно из писем Хомякова племяннику так и подписано: «Тебя любящий отец А. Хомяков»[91].
Симбирский уроженец, Валуев с двенадцати лет жил в Москве, но постоянного пристанища не имел, обитая то у Киреевских-Елагиных, то у Свербеевых (те и другие приходились ему родственниками), то у Хомяковых, когда в 1836 году Алексей Степанович женился на Екатерине Михайловне Языковой. Благодаря родственным связям с семействами Хомякова и Киреевских-Елагиных Валуев вошел в круг славянофилов значительно раньше К. С. Аксакова, Ю. Ф. Самарина, В. А. Черкасского, Ф. В. Чижова, А. И. Кошелева.
Воспитанник философского факультета Московского университета, окончивший его кандидатом (то есть в числе лучших выпускников), Валуев очень скоро стал авторитетом среди славянофилов в исторических вопросах. С его мнением считались. Осенью 1844 года Хомяков просил жившего в Петербурге Самарина: «Когда кончите свой Новгородский подвиг (статью о князе и вече. – Т. П.), не замедлите прислать и дайте позволение им воспользоваться (то есть напечатать. – Т. П.). Первая просьба моя, вторая Валуева». В начале 1845 года работа была отправлена в Москву, и Хомяков сообщил автору, что согласен с ним полностью, но Валуев – только наполовину[92].
Научные заслуги Валуева в истории нашли признание и за пределами славянофильского кружка: западник Т. Н. Грановский говорил о Валуеве «с умилением», ученик Грановского К. Д. Кавелин, друживший с Валуевым в университетские годы, отмечал его «огромную начитанность», горевал о том, как много потеряла наука с его смертью, А. Н. Пыпин, сотрудник журналов западнической ориентации – «Отечественных записок» и «Современника» – поставил Валуева в один ряд с выдающимися учеными К. Д. Кавелиным, Н. В. Калачевым, С. М. Соловьевым, стремившимися максимально расширить документальную основу исторических исследований[93].
Действительно, после окончания университета Валуев занялся сбором памятников прошлого, начиная с государственных учреждений и кончая домашними архивами. Составленный и отредактированный им «Синбирский сборник» (1845) целиком состоял из впервые публиковавшихся материалов о Древней Руси. Обнаруженную Валуевым Разрядную книгу 1559–1604 годов предваряло написанное им обширное исследование по истории местничества (распределение служебных должностей между высшими родами по наследству). Профессор М. П. Погодин, по словам Валуева, единственный специалист по данному вопросу «на всем пространстве Русского царства», одобрил труд своего ученика, после чего он и был напечатан.
Когда В. А. Панов выпустил «Московский литературный и ученый сборник на 1847 год» с посвященной памяти своего друга Валуева статьей С. М. Соловьева о местничестве, Хомяков сообщил славянофилу А. Н. Попову: «Соловьева статья очень хороша. Она, по правде, содержит только то (или почти только), что сказано было Валуевым; но в ней достоинство ясности, которой у Валуева не все могли доискаться, и для меня это важное достоинство, что Соловьев отдал полную справедливость труду Валуева, чего не сделали те, которым следовало это сделать» (по всей вероятности, намек на Погодина).
Хомяков значится среди издателей «Синбирского сборника» вместе с Валуевым и братьями Языковыми (Петром, Александром и Николаем Михайловичами. – Т. П.). Старший из братьев – П. М. Языков, геолог по специальности, в 1842 году помогал племяннику в сборе материалов: «<…> будем вместе рыться для Синб<ирского> сборника»[94], – писал Валуев Д. Н. Свербееву[95].
Этот сборник увидел свет еще при жизни Валуева, в отличие от «Сборника исторических и статистических сведений о России и народах ей единоверных и единоплеменных», который появился в том же 1845 году, но уже после его кончины (Самарин неизменно называл второй сборник «Славянским»). Имя издателя Валуева стоит на обложке, на титульном листе только его инициалы: «Издал Д. В.». Возможно, в какой-то мере печатание второго сборника субсидировал Н. М. Языков, который летом 1845 года в письме братьям несколько раздраженно характеризовал деятельность племянника как «археографическую машину», а себя – как лицо, постоянно живущее «в самом шуму маховых замашистых и размашистых ее крыльев», а потому принужденное вносить деньги аккуратно, а не «задумчиво»[96].
Хомяков также жил в центре действия этой «машины», поэтому принял участие во всех журнально-издательских предприятиях Валуева. Во втором сборнике Хомяков поместил свою статью «Вместо введения», в которой заявил о различии общественного и духовного путей России и Запада, а также пропагандировал идею славянского единения, прежде декларируемую им в стихотворениях начала 1830-х годов («Ода», «Орел»).
Валуев написал предисловие к сборнику, в котором в полном соответствии со статьей Хомякова высказал мысли о противоположности славянского и европейского миров, о преимуществах русской общины над немецким общественным устройством, славянской и особенно русской науки над западной. Ему принадлежали также статьи «Города немецкие и славянские», «Христианство в Абиссинии» (материалы для последней автор почерпнул в британских архивах и библиотеках). Таким образом, сборник явился одним из немногих периодических изданий (оба валуевских сборника имеют пометы «том I», он был намерен их продолжить), которые поднимали славянскую тему («Московский наблюдатель», «Москвитянин», «Библиотека для воспитания»).
Заслуги Валуева в славянском деле очень точно и высоко оценил Г. А. Коссович: «Это был если не самый первый в хронологическом порядке, то заодно, разумеется, с Хомяковым решительно первый подвижник и двигатель славянского дела… Его широкий, любящий взгляд единил всеславянство с всеправославием, о чем, кажется, теперь никто и не думает… И о таком человеке ныне никто не помнит и не вспоминает! Это непростительно особенно славистам, забывшим об одном из своих, так сказать, родоначальников»[97].
В 1842 году в письме Д. Н. Свербееву из Симбирской губернии Валуев сообщал о том, что узнал от матери своего друга Марии Александровны Пановой: ее сын вместе со славянофилом А. Н. Поповым отправились пешком по славянским странам. «Я им позавидовал, я, ни к чему не завидливый и особливо к чужекрайним поездкам <…> не все чужое, где дело для славян и слав<янских> убеждений, которых Панов тоже ревностный поборник. Буду писать к нему. – Он уже был в Праге и подружился со всеми учеными и неучеными чехами»[98].
В следующем, 1843 году Валуев тоже побывал в славянских странах, познакомился и подружился с выдающимися славянскими деятелями Яном Колларом, Павлом Шафариком, Вацлавом Ганкой.
В издаваемом вместе с профессором Московского университета П. Г. Редкиным журнале «Библиотека для воспитания» (1843–1845) Валуев охотно печатал материалы о славянах. Только у В. А. Панова там несколько статей: «Очерк черногорской истории», «История хорватов», «История Болгарского государства» и др.
Хомяков сотрудничал в этом журнале, напечал там статьи «Царь Феодор Иоаннович» (1844), «Тринадцать лет царствования Ивана Васильевича» (1845), некролог о своем друге Д. В. Веневитинове (1844), а также призывал своих друзей принять участие в нем.
Историки печати журнальный опыт Валуева не изучали: в справочнике «Русская периодическая печать (1702–1894)» (1959) изданные Валуевым «Синбирский» и «Славянский» сборники не упомянуты, допущены погрешности в изложении фактов его деятельности (он упомянут вместо Панова как один из редакторов «Московских сборников» 1846 и 1847 годов, хотя Валуев умер в 1845 году)[99]. В биобиблиографическом словаре «Славяноведение в дореволюционной России» (1979) вовсе нет статьи о Валуеве – издателе «Славянского сборника» и «Библиотеки для воспитания», где печатались славянские материалы и отчетливо выразилось сочувствие к славянскому делу.
Выпуском двух сборников и журнала для детей не исчерпывается многогранная деятельность Валуева: в 1843 году он издал анонимно в Лейпциге книгу Ф. Ф. Вигеля La Russie envahie par les Allemands[100], открыл в этом городе склад, на который поступали присылаемые из России книги для распространения по европейским городам, в 1844 году составил и издал книгу избранных стихотворений Н. М. Языкова. По сведениям, приведенным С. П. Шевырем в воспоминаниях о Валуеве (Московские ведомости. 1845. 29 декабря), неутомимый труженик подготовил материалы еще на четыре сборника, остались ненапечатанными его переводы и последняя статья «О современном движении в церкви британской».
Следует помнить, что самостоятельная деятельность Валуева продолжалась всего четыре года: с лета 1841, когда он окончил университет, до ноября 1845 года, когда завершился его жизненный путь. Поскольку с 1842 года Валуева терзала чахотка и из-за почти не прекращающихся лихорадок он по нескольку месяцев принужден был не выходить из дома, Хомяков в некрологе отметил, что деятельность Валуева длилась около трех лет. Можно только удивляться значительности сделанного им за такое короткое время. Уйдя из жизни в двадцатипятилетнем возрасте, он успел состояться как ученый и журналист. По свидетельству Хомякова, «имя Валуева получило уже известность в литературе и науке, лицо его получило уже почетное место в общественном уважении»[101].
Валуеву удалось совершить так мноо потому, что каждый день его жизни был рассчитан буквально по минутам. К. Д. Кавелин, Н. А. Елагин, А. Ф. Гильфердинг, С. П. Шевырев – все в один голос утверждали, что смерть Валуева ускорила крайняя интенсивность его работы. Но с другой стороны, он прожил жизнь так, как хотел, в полном согласии с самим собой.
Валуев не только энергично работал сам, но и окружающих понуждал к труду, был, по словам Хомякова, «нравственным двигателем разрозненных сил». Что конкретно значило это для Хомяковых, мы узнаем из их писем и мемуарных свидетельств современников. Е. М. Хомякова жаловалась брату Н. М. Языкову, что племянник совершенно замучил ее переводами для «Библиотеки для воспитания», по три раза в день справляется, трудится ли она[102]. Хомякову Валуев пенял, что тот мало работает, что расточает в устных беседах сокровища ума, даже взял с него честное слово, что ежедневно будет записывать свои мысли. И для начала даже закрыл на ключ хозяина дома в его кабинете[103]. Именно по настоянию Валуева Хомяков начал писать «Записки о всемирной истории». Как знать, если бы Валуев прожил еще несколько лет, возможно, эта работа была бы завершена. Недаром Екатерина Михайловна выражала недовольство тем, что племянник совершенно оторвал мужа от поэзии.
Со стороны могло показаться, учитывая возрастную разницу (Хомяков был старше племянника на 16 лет), что Валуев как представитель младшего поколения славянофилов зависит в своих начинаниях от старшего друга, но последний заявил, что в характере Валуева было много «самодеятельности и инициативы»[104], что его влияние на него было исключительным и благотворным: «<…> никто не может вполне оценить, что я в Валуеве потерял и как много я ему обязан был во всех самых важных частях моей умственной деятельности. Во многом он был моею совестию, не позволяя мне ни слабеть, ни предаваться излишнему преобладанию сухого и логического анализа, к которому я по своей природе склонен. Если что-нибудь во мне ценят друзья, то я хотел бы, чтобы они знали, что в продолжение целых семи лет дружба Валуева постоянно работала над исправлением дурного и укреплением хорошего во мне»[105]. Это очень важное признание. Недаром время дружбы с Валуевым Хомяков считал «самым деятельным в своей жизни»[106]. Поэтому болезнь и смерть Валуева были огромным потрясением для него и для его жены. «Я так с ним сжился душою, что с трудом понимаю, как мне быть без него. Такие потери могут просто отучить от жизни», – сообщал Хомяков Н. М. Языкову[107].
Валуев заболел случайно, простудившись осенью 1842 года в деревне у Хомякова. Алексей Степанович лечил племянника гомеопатией; когда она не помогла, обратились за помощью к Ф. И. Иноземцеву, профессору практической хирургии Московского университета, имевшему в городе обширную практику. По его совету летом 1843 года Валуев отправился на лечение в Европу – именно Хомяков позаботился о билете на пароход для него, обратившись за помощью к жившему в Петербурге А. В. Веневитинову, брату своего умершего друга.
Из-за границы путешественник посылал письма Хомяковым. (Некоторые из них ошибочно попали в фонд Свербеевых в РГАЛИ). Валуев скучал, и его мысли в этих письмах – неизменно о России, о Москве, о печатаемых там сборниках и, конечно же, о Хомякове: «Ал<ексей> Ст<епанович> работает ли?»[108]. Даже во сне видит виновного в бездействии Хомякова, из-за чего друзья поссорились[109]. На корабле Валуев разговорился со своими «разноязычными сопутниками», встретился с понятиями «совершенно дикими, неуклюжими». «И тут я не раз пожалел, что нет Ал<ексея> Ст<епановича>, какую бы он кашу заварил и как бы мастерски раздразнил представителей всяких народов!»[110].
Казалось, что за границей Валуев выздоровел, но болезнь возобновилась летом 1844 года. Смертельно больной, он продолжал интенсивно работать. Иноземцев навещал его каждый день, но помочь не мог. Валуев безгранично доверял доктору, но Хомяков был недоволен, считая и лечение, и отправление (вторичное) на лечение за границу «постыдными». «Постыдным» отправление было потому, что Валуев уезжал в таком ужасном состоянии, что окружающие прощались с ним без уверенности, что увидят его живым.
Московский доктор Европеус сомневался в том, что петербургские врачи выпустят Валуева за границу[111]. Но Валуев не смог доехать до столицы – 23 ноября 1845 года он умер по дороге в новгородской гостинице.
Врача для сопровождения Валуева в поездке нашел Хомяков. Это был Михаил Гаврилович Своехотов – гомеопат, живописец-самоучка, поэт, человек, своими увлечениями близкий Хомякову, очень добрый и заботливый. Панов, выехавший в Новгород, как только узнал, что путешественники остановились, писал Хомякову: «Подивился я и Вам – как Вы умеете узнавать и оценивать людей»[112] (речь шла о Своехотове, преданно ухаживавшем за Валуевым).
Валуева не предавали земле до девятого дня, ожидая распоряжения родственников, мнения которых разошлись: московские родственники Свербеевы и Н. М. Языков дали согласие на захоронение Bалуева в Новгороде, но Своехотов дождался распоряжения Хомякова, который в это время находился в Богучарове Тульской губернии[113]: Валуева похоронили в Москве на кладбище Данилова монастыря рядом с Ю. И. Венелиным, первым в России историком болгар. Благодаря Самарина за хлопоты в Министерстве внутренних дел, где нужно было получить разрешение на перевозку тела в Москву, Хомяков писал: «Нам отрадно будет иметь его около себя, ибо все мы теперь рано или позже, а принадлежим Москве как месту нашей умственной деятельности»[114].
Когда в 1846 году умер Н. М. Языков, его положили рядом с племянником. Свою любимую жену Хомяков похоронил в январе 1852 года возле ее брата и племянника, а когда вслед за Екатериной Михайловной скончался Н. В. Гоголь, Алексей Степанович распорядился: «Ляжет он <…> рядом с Валуевым, Языковым и Катенькой и со временем со мною в Даниловом монастыре под славянскою колонною Венелина»[115].
Смерть Валуева – не только огромное личное горе Хомякова, это первая по времени и очень значительная утрата в славянофильском кружке, удар по его журнально-издательским планам. После ухода Валуева славянофилы остро ощутили нехватку этого «нравственного двигателя», соединявшего всех ради общей цели: издание валуевских сборников не было продолжено, местонахождение еще четырех сборников, подготовленных им, до сих пор неизвестно, в 1846 году перестал выходить журнал «Библиотека для воспитания».
Но Хомяков до конца 1852 года трудился над «Записками о Всемирной истории», выполняя наказ Валуева. Статья Хомякова «Церковь одна» также в известной степени была исполнением завета Валуева. Хомяков не сразу признался в авторстве, выдавая свою статью за греческую рукопись, якобы найденную покойным Валуевым.
Хомяков не уехал в заграничное путешествие, покуда не был установлен памятник на могиле Валуева: это произошло 9 мая 1847 года, в середине мая Хомяковы приехали в Петербург, а в конце месяца отправились за границу.
Биографический очерк о Валуеве, написанный Хомяковым сразу же после смерти молодого друга, пронизан глубокой скорбью о нем. Автор закончил его следующими словами: «Дай Бог всем быть так искренно любимыми в жизни и так горько оплаканными после смерти».
H. К. Гаврюшин
«Признак настоящей веры…»: А. С. Хомяков и Е. П. Ростопчина
«Странно наше, так сказать, островное положение в русском обществе. Чувствуешь, что мы более всех других люди русские и в то же время, что общество русское нисколько нам не сочувствует», – писал А. С. Хомяков на исходе 1859 года И. С. Аксакову[116].
Задумывался об этом он отнюдь не впервые, еще в 1845 году жаловался Ю. Ф. Самарину: «Досадно, когда видишь, что Загоскин (хоть он и славный человек) за нас, а Грановский против нас: чувствуешь, что с нами за одно только инстинкт (ибо Загоскин выражение инстинкта), а ум и мысль с нами мириться не хотят. Еще досаднее, когда видишь, что пробужденное в нас сознание нисколько не останавливает бессмыслицу»[117].
Подобное ощущение отчужденности не покидало славянофилов годами. Его обостряли внешние обстоятельства: то им запрещали печататься, то принуждали сбривать бороды, то разносили о них по салонам разные невероятные слухи… «Глинко-Коптевская фаланга меня так огласила безбожником, – рассказывал Хомяков, – что одна девица, встретившая меня случайно на вечере, говорила, уходя, хозяйке: Mais il n'a rien dit de si horrible[118]. Она воображала меня апокалипсическим драконом, разевающим пасть только для хулы. В Туле я прослыл развратником…»[119].
Одним из самых резких выпадов против А. С. Хомякова, которому, надо сразу признать, он дал заметный повод, явилось письмо графини Е. П. Ростопчиной к известному литературному критику А. В. Дружинину (1854). Оно стало своего рода кульминацией заочного противостояния двух поэтов, в мотивах и деталях которого небезынтересно разобраться.
Графиня Евдокия Петровна Ростопчина (1811–1858) была племянницей литератора Николая Васильевича Сушкова (1796–1871) – конфидента и биографа московского святителя Филарета (Дроздова); незадолго до своей кончины она через дядю испросила для себя у митрополита наперсный образок, прижимая который к груди, отошла ко Господу. Ф. И. Тютчев, приходившийся Сушкову деверем, посвятил Ростопчиной два стихотворения. Искренняя дружба связывала ее с В. А. Жуковским, который подарил ей пушкинский альбом для стихов. К Хомякову Жуковский относился с не меньшей теплотой и участием. Что же касается святителя Филарета, то, хотя первоначально Алексей Степанович встретил в нем «особенное сочувствие»[120], тот смотрел на труды светского богослова с известной настороженностью, упомянув в одном из писем к лаврскому архимандриту Антонию о его «суемудрии»[121]. Ф. И. Тютчев даже полагал, что именно Филарет препятствовал изданию богословских сочинений Хомякова в России[122].
Таким образом, у двух поэтов было немало общих друзей и знакомых в литературных и церковных кругах, и их противостояние – как двух ярких носителей «русской стихии» – на этом фоне представляется особенно контрастным. Взаимная враждебность их усиливалась, скорее всего, и некоторым сходством характеров.
Графиня считала Алексея Степановича Хомякова своим «личным врагом», а потому не упустила случая отплатить ему «зараз за все его глупости и наказать его, поймав на деле вражды и ненависти к отечеству».
Как известно, в 1854 году, во время Крымской кампании, в которой во главе дружины московского ополчения участвовал и брат Е. П. Ростопчиной Сергей Петрович Сушков (1816–1893)[123], Хомяков написал и распространил стихотворение «России», содержавшее такие строки:
- В судах черна неправдой черной
- И игом рабства клеймена;
- Безбожной лести, лжи тлетворной,
- И лени мертвой и позорной,
- И всякой мерзости полна!..[124]
Реакция на эти стихи была весьма разнообразной. Они были приняты «на ура» в стане либерально-демократическом, но большая часть интеллигенции была ими возмущена.
Хомяков признавался К. С. Аксакову: «Меня заваливают по городской почте безымянными пасквилями (даже с онёрами извозчичьей речи), а в клубе называли даже изменником, подкупленным англичанами»[125].
Князь П. А. Вяземский писал по поводу этих стихов: «Последний стих решительно неуместный и лишний. Таким укорительным и грозным языком могли говорить боговдохновенные пророки. Но в наше время простому смертному, хотя бы и поэту, подобает быть почтительнее и вежливее с матерью своею; добрый сын Ноя прикрыл плащом слабость и стыд своего отца»[126]. Согласно свидетельству О. М. Бодянского, большинству эти стихи показались неуместными: «Словом, – писал он, – певец сплошал: Россия не Неневия, а Хомяков не Еремия, — как-то пришлось мне выразиться в одном доме на вечере, когда зашла речь об этом: хоть и родился в день Еремии, — кто-то заметил мне тут из слушающих»[127]; П. И. Бартенев также отмечал, что стихотворение «пробудило негодование не только петербургских властей (в особенности наследника престола), но и многих москвичей»[128].
Надежда Васильевна Арсеньева, близкая знакомая Ростопчиной, написала к Хомякову послание, начинавшееся словами: «Стыдись, о сын неблагодарный, отчизну-матерь порицать»[129]. А сама Евдокия Петровна опубликовала стихотворную отповедь ему:
- Сам Бог сказал: «Чти мать свою!».
- И грех тебе, о сын лукавый,
- Когда, враг материнской славы,
- Позоришь бранию неправой
- Ты мать родимую твою!
- Когда, в лжемудрости надменной
- И честь, и совесть погубя,
- Разишь рукою дерзновенной
- Грудь, воскормившую тебя!..[130]
В связи с этой публикацией Ростопчина обратилась к М. П. Погодину: «А читали ли вы мой ответ на Иеремиевское проклятие всей святой Руси вашего постника и славянофила Хомякова… Неужели вы разделяете мнение нового Иеремии[131] и довольны его гнусными клеветами против России и ее народа»[132].
Не прошло и десяти дней, как под мощным общественным давлением А. С. Хомяков вдруг почувствовал, что Россия уже раскаялась и ей уместно будет посвятить новое стихотворение, которое несколько смягчит впечатление от первого.
Он посылает 4 апреля А. Н. Попову вместе с письмом[133] завершенную накануне пьесу под названием «Раскаявшейся России»:
- Не в пьянстве похвальбы безумной,
- Не в пьянстве гордости слепой,
- Не в буйстве смеха, песни шумной,
- Не с звоном чаши круговой;
- Но в силе трезвенной смиренья
- И обновленной чистоты
- На дело грозного служенья
- В кровавый бой предстанешь ты.
- ……………………………………………
- Иди! светла твоя дорога:
- В душе любовь, в деснице гром,
- Грозна, прекрасна, – Ангел Бога
- С огнесверкающим челом!..[134]
Ростопчина тотчас отреагировала на это еще одним обращением к М. П. Погодину: «Дошли ли до Вас вторые стихи Хомякова, написанные под влиянием трусости? Хорош патриотизм!.. Долой маски, человек высказался весь. Прощайте, все это так гадко, что и говорить-то тошно. Христос с Вами»[135].
Но самым пространным и эмоциональным выражением ее негодования явилось письмо к А. В. Дружинину от 23 апреля 1854 года:
Вы уж, верно, знаете, – пишет здесь она, – что есть на свете знаменитый сикофант, фарисей, лицемер и славянофил – Хомяков, ходящий 25-ть лет в одной и той же грязной мурмолке, нечёсаный, немытый, как Мальбрук в старом русском переводе, гордый и таинственно резкий, как мавританский дервиш среди фанатиков-мусульман, играющий издавна в Москве роль какого-то пророка, мистика, блюстителя веры, Православия, заступника небывалой старины, порицателя всего современного, одним словом – любящего Россию лишь времен Рюрика и Игоря, как человек, который из вящщей семейственности выкопал бы скелет своего прадеда, возился б с ним и нянчился, а для него пренебрегал бы, ненавидел бы и презирал бы отца, мать, братьев, жену, детей и прочее. – Этот-то славянофил и русофоб целые 15-ть лет проповедует о восстаньи Востока, о его возрожденьи, о гниеньи Запада, о унижении Альбиона (а он страшный англоман в пище и питье!)[136], наконец, о каких-то неисповедимых путях России; а теперь, когда пришла пора народно-религиозной битвы, когда Восток отстаивает себя от Запада, а Россия с удивительным единодушием любви и веры защищает православных братьев, не щадя ни крови, ни земли, – теперь этому господину не по шерстке пришлось общее увлеченье, и он почел на нужное выступить на ходулях своей ячности, чтобы разругать Россию на повал и объявить ей, что он находит ее слишком преступною, чтоб воевать за дело Бога и креста. – Стихи его возбудили взрыв негодованья в образованной части общества, и я отвечала на них опроверженьем, вынужденным тем, что другая пиэса, в том же духе отрицанья, приписывалась мне и ходила под моим именем не только здесь и в столице, но даже и по губерниям и навлекла мне несколько упреков от безымянных, но приязненных и приличных, впрочем, корреспондентов. – Кроме того, г-н Хомяков, личный враг мой (потому что я некогда не захотела принять его немытой руки), давным-давно разглашает о мне разные небылицы, называет меня врагом Руси и Православия, западницей, Жорж-Зандисткой, приписывает мне низкие речи, мною никогда не говоренные. Стало быть, я имела полное женское право отплатить зараз за все его глупости и наказать его, поймав на деле вражды и ненависти к отечеству, столь нежно им прежде воспеваемого, имела право уличить лицемера и выставить его на справедливый суд общества, им долго обморочиваемого. <…> – К вам <…> обращаюсь я, как к джентльмену, скажите – можно ли воздержаться от негодованья при таких двуличневых поступках и можно ли подавить в себе голос правды, громко вопиющей против мнимого пророка и святителя целой шайки безмозглых восхвалителей какой-то небывалой старины, каких-то нравов, преданий, прав, которые существовали только в их нездравом, непросвещенном уме?.. <…>
Они сочинили нам какую-то мнимую древнюю Русь, к которой они хотят возвратить нас, несмотря на ход времени и просвещенья; они проповедуют напыщенно вздоры, от которых портятся и глупеют целые поколенья полувоспитанных и бессознательных мыслителей, которые, вместо того чтоб выполнять долг человека и трудиться, идя вперед к настоящему развитию и улучшению человека, озираются назад и жалеют о бараньей шкуре и пьяной браге предков-дикарей. И изобличает себя эта партия уже тем, что ее наружная неопрятность и запущенность служит как бы вывеской ее внутренному грязному застою?.. Наконец, эти люди убили нам Языкова во цвете лет, удушили его талант под изуверством; эти же люди уходили Гоголя, окормя его лампадным маслом, стеснив его в путах суеверных обрядов запоздалого фанатизма, который для них заменяет широкую благодать настоящей веры, коей признак есть терпимость и любовь, а не хула и анафема! Вот за что я спорю с этою шайкою московских мудрецов и постников, вот за что я презираю их лжедобродетель, как личину, скрывающую алчность, эгоизм, гордость, честолюбие и вражду к человечеству из любви к могилам и скелетам[137].
Столь резкие и эмоциональные высказывания графини в гротескной форме отражают реальное восприятие Хомякова и славянофилов немалой частью русской интеллигенции того времени. У М. А. Дмитриева не было никакого повода испытывать к поэту чувство личной обиды. Даже не затрагивая «антипатриотических» стихов Хомякова, он судил о нем весьма строго, противопоставляя ему И. В. Киреевского (который «всех скромнее и воздержаннее в речах, всех основательнее и рассудительнее в этом кружке»[138]):
Лучшее в нем было то, что он имел несомненный талант к поэзии. Он знал много иностранных языков и мог бы быть одним из просвещеннейших людей, если бы захотел употребить на дело свои сведения, которых у него было много. Но он нахватал их самоучкой, без всякой системы, и не был привязан основательно ни к одной части знания, а хотел быть всё: и поэт, и антикварий, и богослов, и гомеопат, и механик, и живописец, и философ, и агроном, и политик, и великий постник, и даже собачий охотник; говорил и спорил обо всем и со всеми и не успел сделать и написать почти ничего, а имение оставил в расстройстве. За беспрестанным движением языка ему некогда было остановиться, помолчать и подумать: легкомысленная погоня за эфемерною известностию не давала ему покоя и поглощала все его способности. Вся его цель была, кажется, прославление имени своего чем бы то ни было, одним словом, шарлатанство, которым всего скорее получишь у нас славу и уважение. Но этот второй способ дешевой известности допускается у нас, однако, под условием взаимного восхваления. Хомяков понимал это мастерски: он поддерживал своими неистощимыми спорами партию славянофилов, Аксакова с братиею, которые и не замечали в своей невинности, что они же становятся его орудием, и превозносили в нем универсального гения, маленького Pico della Mirandola![139]
С такой критической, но выраженной в иной тональности оценкой пишет о Хомякове Александр Васильевич Никитенко. В своем «Дневнике» 20 января 1856 года он записывает:
Познакомился на вечере у министра с одним из коноводов московских славянофилов, Хомяковым. Он явился в зало министра в армяке, без галстука, в красной рубашке с косым воротником и с шапкой-мурмулкой под мышкой. Говорил неумолкно и большей частью по-французски – как и следует представителю русской народности. Встреча его со мной была несколько натянута, ибо он не без основания подозревает во мне западника. Но я поспешил бросить себе и ему под ноги доску, на которой мы могли легко сойтись. Он приехал сюда хлопотать о разрешении ему издавать славянофильский журнал, и я обратился прямо к этому предмету, сказав, что ничего не может быть желательнее, как чтобы каждый имел возможность высказывать свои убеждения. Это тотчас развязало нам языки, и мы пустились рассуждать, не опасаясь где-нибудь столкнуться лбами. Он умен, но, кажется, не без того, что называется себе на уме[140].
Слегка ироничный отзыв Никитенко заставляет все же думать, что резкие высказывания гр. Е. П. Ростопчиной и М. А. Дмитриева были не совсем беспочвенны; в поведении Хомякова действительно наличествовали элементы эксцентричности, нарочитого фрондерства, а его мысли и формы их выражения не всегда представляли собой образец голубиной простоты.
Сам Хомяков подтверждает это предположение. В письме к графине Блудовой он признается: «Разумеется, если б можно было думать о печати, я сказал бы, что слова “И игом рабства клеймена” (слишком резко определяющие крепостное состояние) можно заменить “И двоедушьем клеймена”. Также поставить другое – на место “всякой мерзости полна”. <…> Во всяком случае надеюсь, что вы признаете, что я говорю не по духу эгоистического фрондерства»[141].
То, что от его стихов веет именно «духом эгоистического фрондерства» Хомяков, очевидно, догадывался. От Блудовой он ожидал слов, успокаивающих его встревоженную совесть.
Аналогичной поддержки ждала и Ростопчина от А. В. Дружинина («Скажите, скажите, ошибаюсь ли я? <…> Дайте мне голос правды в этой тревоге ума и сердца, слишком сильной для женской слабости!»).
Эксцентричность, фрондерство и эпатаж на самом деле были не совсем чужды обоим поэтам. О хомяковской мурмолке и «грязной руке» уже было говорено[142]. Различные письма Хомякова, в которых он разносит в пух и прах историков, филологов, медиков, дает советы в области политики и военной тактики, возможно, верные и бескорыстные, в своей совокупности способны оставить ощущение некоторого самолюбования[143]. Не приходится забывать и о его не лишенной амбициозности мистификации – намерении выдать свою статью «Церковь одна» за древний памятник, переведенный с греческого, едва ли не святоотеческое сочинение. «Покойный Д. А. Валуев, – пишет он Ю. Ф. Самарину, – нашел греческую рукопись (кем писанную, греком или другим каким православным, неизвестно), содержащую в себе изложение Православного учения, и вез ее в чужие края с намерением напечатать, находя ее весьма замечательною. К ней приделал он маленькое предисловие по-латыни, и вся рукопись составила бы около двух печатных листов. Мы, то есть здешние друзья Валуева, желали бы исполнить его намерение и напечатать рукопись, которая в России может встретить цензурные затруднения, а в Германии может или принести пользу, или по крайней мере обратить на себя внимание»[144].
Втянут был в эту мистификацию, сам того не ведая, и В. А. Жуковский[145], писавший Хомякову в 1847 году из Баден-Бадена: «Я только вчера получил от Вяземского, а он от Попова, рукопись, еще не принялся за чтение, начну его после Нового года. Но что же Вы будете с нею делать? Я все стою на том, что надо ее перевести на немецкий (а не на французский) язык и напечатать в Германии. Теперь именно та минута, в которую она здесь произведет великое действие»[146].
Нет сомнений, что задуманная А. С. Хомяковым мистификация, вскоре, разумеется, раскрывшаяся, явилась бы для А. В. Никитенко еще одним доводом в пользу мнения, что он «себе на уме». А если присмотреться к его богословским утверждениям, то можно заметить, что по отдельным принципиальным вопросам они порой не вполне согласуются между собой[147].
Что же касается графини, то при ее жизни Н. В. Сушков однажды посетовал на раздражительность и ожесточение своей племянницы, но позднее говорил совсем о другом: «В ней не было лукавства; откровенна и доверчива, как дитя, она не только прощала, но совершенно забывала обиды, которые в первую минуту сильно волновали женщину-поэта»[148].
Тем не менее графиня тоже не была чужда тяги к эксцентричности, хотя и безо всякой идеологической подоплеки, так сказать, из любви к искусству. Вот что пишет в своих воспоминаниях Николай Васильевич Берг (1823–1884), посетивший поэтессу в подмосковном Вороново:
В первый же день, как все обитатели дома и граф сошлись в обеденную залу и сели за стол, гостей поразило следующее зрелище: со двора, по широким каменным ступеням лестницы, поднимались две лошади, без всякой сбруи и уздечек, осторожно вошли в комнату и стали рядом позади графини, как бы два ее лакея. Несмотря на то, что все комнаты в доме были громадны, большие лошади, на полной свободе разгуливавшие там, не казались… собачками. Каждого, не привыкшего к таким явлениям, к таким затеям русских бар, брал невольный страх, как бы эти странные «лакеи» не разыгрались, не вздумали скакать, бегать, не поломали бы мебели, пола и еще чего-нибудь.
Графиня давала им хлеба, трепала и гладила их по голове и шее. После обеда, когда все встали, лошадям было поставлено на двух стульях какое-то кушанье в тарелках. Одна ухватила нечаянно за край, и он отлетел.
Потом лошади стали ходить по всему дому и, воротившись в обеденную залу, точно так же осторожно спустились с лестницы, как взошли. Только одна не выдержала характера: когда осталось всего две-три ступеньки, – прыгнула на двор и при этом вышибла задней ногой из лестницы половицу[149].
О другой затее графини, уже не столь невинной, рассказывает А. Д. Галахов со слов Н. Ф. Щербины, посещавшего ее литературные вечера: «Скука одолевала присутствующих, но не дождаться конца чтению было невежливо. Щербина решился прибегнуть к хитрости: он начал садиться у двери, ближайшей к выходу, чтобы, улучив добрый момент, скрыться незаметно. Раза три стратагема удавалась, но потом хозяйка заметила ее и приняла свои меры: она клала бульдогов у обеих половин выходной двери. Как только Щербина привставал, намереваясь дать тягу, так бульдоги начинали глухо рычать и усаживали его снова в кресло»[150].
Таким образом, «кафтан-святославку» и «шапку-мурмулку» Хомякова есть с чем сопоставить в арсенале графини Ростопчиной.
В своем отношении к Западу оба поэта тоже обнаруживают общие черты, одинаково склоняясь к резкому осуждению догматических новаций Рима. Хомяков не раз высказывался по поводу догмата о «непорочном зачатии» Девы Марии[151], а графиня Ростопчина этому посвятила стихотворение «С Востока на Запад! По поводу нового Латинского догмата: Dell’ Immaculata Concepzione» (1857):
- Рим святотатственной рукою
- Евангельских коснулся слов…
- В разладе с истиной святою
- Рим новый смысл ей дать готов.
- Рим с дерзновением без меры
- Апостолам перечить стал,
- И символ христианской веры
- Нововведеньем запятнал!
- Ему уж мало откровенья
- И догматов Отцов Святых, —
- Он к страшной тайне воплощенья
- Привил воззренье дум своих!
- Благоговенье забывая,
- Пытливым оком и умом
- Дознался он, где грань прямая
- Чудес Господних с естеством!..
- Из царской правнуки Давида,
- Из земнородной девы дев, —
- Святым Писаниям в обиду
- И слово Божие презрев, —
- Рим призрак сотворил нетленный…
- В нем отрицает плоть и кровь…
- Убил в Мадонне искаженной
- Смиренье, женственность, любовь!
- В Марии, «без греха зачатой»,
- След человечества пропал;
- В ней горний гость, в ней дух крылатый
- Лик Всескорбящия приял!..
- Не может Римская Мария
- Бесплотной грудию рыдать,
- Как у Распятого Мессии
- Рыдала Страстотерпца мать![152]
В том, что касалось политики России по отношению к католической Польше, у Хомякова и Ростопчиной также, как это на первый взгляд ни странно, можно заметить общие позиции. Во время своего пребывания в Италии Ростопчина написала балладу, в которой аллегорически отображено политическое угнетение Польши. Баллада была напечатана в «Северной пчеле», в результате чего Ростопчины были лишены доступа ко двору, а с 1849 года вынуждены были переселиться в Москву.
Хомяков же в 1848 году развивал свой мирный план решения Польского вопроса, предполагавший проведение референдума и восстановление независимости Польши. Он обосновывал его в оставшейся ненапечатанной статье и в письме к А. О. Смирновой-Россет (1848)[153]. Примечательно, что в своем понимании соотношения христианства и Империи Хомяков явно расходится с Ф. И. Тютчевым[154] и по сути близок к Ростопчиной.
Таким образом, основой их личного противостояния была все-таки не идеология. Даже то, что Ростопчина писала о смерти Гоголя, во многом совпадает с пониманием его драмы Хомяковым: «Он был в каком-то нервном расстройстве, – писал Хомяков в феврале 1852 года А. Н. Попову, – которое приняло характер религиозного помешательства. Он говел и стал морить себя голодом, попрекая себя в обжорстве! <…> Ночью с понедельника на вторник первой недели он сжег в минуту безумия все что написал. Ничего не осталось, даже ни одного чернового лоскута. Очевидно, судьба. Я бы мог написать об этом психологическую студию; да кто поймет или кто захочет понять? А сверх того и печатать будет нельзя»[155].
Графиня осуждала Хомякова, опираясь на признак настоящей веры, который, по ее словам, есть «терпимость и любовь, а не хула и анафема!» Хомяков, как видно по его знаменитому сочинению «Церковь одна», держался теоретически такого же понимания признака истинной веры: «Выше всего любовь и единение»[156].
Но во взаимных отношениях оба поэта, очевидно, об этом признаке порой забывали.
Л. В. Кузьмичева
А. С. Хомяков и сербский вопрос.
Хомяков и современная ему сербская история
Биографы Хомякова, начиная с П. И. Бартенева, утверждают, что «еще в детстве явилось в нем сознание славянского единства и зажглась горячая любовь к угнетенным братьям. Одиннадцатилетний Хомяков говорил своему старшему брату, что он станет бунтовать славян, а когда ему было семнадцать лет, он бежал было из дома, чтобы привести в исполнение свое заветное желание»[157]. Тот факт, что именно в эти годы юный Алексей Хомяков стремился принять непосредственное участие в освободительной борьбе славянских народов, имеет точное историческое обоснование.
По мистическому совпадению, А. С. Хомяков родился весной 1804 года, именно тогда, когда началось самое мощное по размаху и продолжительности славянское антитурецкое восстание – Первое сербское восстание 1804–1813 годов. Оно открывало ряд восстаний балканских народов в XIX веке и впервые было тесно связано с непосредственным русским участием. Достаточно сказать, что велись совместные боевые действия сербских повстанцев, возглавляемых Карагеоргием, и русской регулярной армии против войск султана в ходе русско-турецкой войны 1806–1812 годов. Ho Россия вынуждена была прекратить боевые действия на турецком театре и подписать мирный договор в Бухаресте, так как начиналась Отечественная война 1812 года. Султан нарушил восьмую статью договора, в которой гарантировалась амнистия сербским повстанцам. Вместо обещанной по русско-турецкому договору автономии Белградский пашалык подвергся опустошительной и кровавой карательной операции. Десятки тысяч сербов были убиты, больше сотни тысяч бежали в Австрию. Сербские события освещались русской печатью, эпические песни сербов переводились на русский язык, великий Пушкин посвятил сербам-повстанцам несколько своих замечательных творений. Сербы стали близки и знакомы русской общественности.
В одиннадцать лет Хомяков собирался бунтовать славян совсем не случайно. В 1815 году сербы начали Второе сербское восстание. Его возглавил Милош Обренович, которому в результате восстания удалось добиться некоторых льгот для Белградского пашалыка.
Семнадцатилетие Хомякова пришлось на начало подготовленного обществом «Филики Этерия» общебалканского антитурецкого восстания 1821 года, больше известного как «греческая революция». Восстание началось одновременно на юге Балканского полуострова и на севере – в Молдавии и Валахии. Сочувствие новому национальному движению широко распространилось в России, это нашло отражение в русской публицистике и в художественной литературе[158]. Не остался равнодушным, как вспоминают современники, и юный Хомяков, пытавшийся бежать из дома и принять участие в разгоревшейся борьбе.
Эти романтические юношеские порывы до определенной степени удалось воплотить Хомякову в жизнь во время очередной русско-турецкой войны 1828–1829 годов, в которой он принимал участие как раз на Дунайском театре войны. По итогам именно этой войны победившая Россия при заключении мирного договора в Адрианополе добилась от Турции предоставления полной независимости Греции и создания автономного княжества Сербии, которое стало первым государственным образованием у зарубежных славян, возродившимся после долгих столетий утраты. Ни у одного из западных и южных славянских народов – поляков, чехов, словаков, словенцев, болгар, хорватов – не существовало в начале XIX века своего государства. Сербия, таким образом, совершила при активном участии России первый прорыв в этом деле.
Можно сказать, что Хомяков, воевавший в 1828–1829 годах, был лично причастен к возрождению независимой Сербии.
Сербия – небольшое вассальное княжество с населением около миллиона человек, расположенное на границе между Австрией и Турцией, – стала важным знаменем в деле воссоздания государственности других славянских народов. В 1830–1833 годах xaтт-и-шерифы (личные, именные указы) турецкого султана признали не только автономные права сербского княжества, но и наследные права сербского князя. Им стал бывший пастух, до конца своей долгой восьмидесятилетней жизни так и не выучившийся грамоте, предводитель Второго сербского восстания Милош Обренович. Его наследники будут править Сербией с перерывами до 1903 года. Милош часто приезжал в Россию. Когда же ему пришлось на двадцать лет эмигрировать из своей страны в силу острой внутренней политической борьбы, то русское правительство помогало ему материально.
Сербия и ее проблемы были хорошо известны в России. Появилось множество очерков и путевых заметок, публиковались они и в славянофильских изданиях. По славянским землям с заездом в сербское княжество путешествовали Ф. И. Чижов, В. А. Панов, А. И. Тургенев – знакомые и близкие Хомякову люди. Анализ переписки и статей Хомякова свидетельствует, что Алексей Степанович был хорошо осведомлен о происходивших в Сербии событиях, этому способствовало и его личное знакомство с некоторыми сербскими интеллектуалами, среди которых был и выдающийся ученый-фольклорист Вук Караджич.
С 1842 по 1859 год в Сербии воцарилась соперничающая с Обреновичами династия Карагеоргиевичей. После изгнания Милоша и его семьи князем был избран Александр Карагеоргиевич, сын легендарного вождя Первого сербского восстания. Черный Георгий (Кара-Георгий) – сумрачный двухметровый исполин, убитый по приказу своего политического противника Милоша Обреновича в 1817 году, – стал героем нескольких стихотворений А. С. Пушкина. Его сын князь Александр полностью зависел от своего окружения, настроенного не слишком-то благожелательно к России.
Побывавшие в Сербии в 1840–1850-е годы путешественники из России с недоверием относились к новому режиму. Так, В. А. Панов, приехавший в столицу Белград в 1843 году, называл князя и его сподвижников «самозванцами» и выражал надежду, «что это скоро пройдет, что они получат заслуженное наказание и что после этого все обратится к лучшему; если б не эта надежда, говорю я, можно было бы почитать Сербию теперь пропащею»[159]. Настороженность и неприязнь к политическим реалиям в Сербии заставили юного Панова разочарованно воспринимать и обыденную сербскую жизнь. Если в нищей, но дружественной Черногории все его восхищало, то в Белграде все раздражает: «…дурно мощеные улицы, маленькие нечистые дома, открытые лавки, в которых купцы с чалмами сидят на подмостках, как портные на своих столах»[160]. Разочаровал молодого славянофила и наружный вид сербов, одетых на турецкий манер. Он полагал, что всему виной проавстрийский курс новых властей, и наивно думал, что при Обреновичах ситуация была гораздо более благоприятной для развития национального духа.
Неудивительно поэтому, что произошедший в Сербии в конце 1858 года переворот, изгнание князя Александра Карагеоргиевича и триумфальное возвращение старого Милоша с сыном Михаилом в Белград были восприняты в России с энтузиазмом прежде всего славянофилами. Событие это получило в историографии название Святоандреевской скупщины. На день святого Андрея (30 ноября 1858 года) была созвана не собиравшаяся уже 10 лет скупщина (собрание представителей сербского народа), на которой князю Александру были предъявлены обвинения в нарушении конституции и узурпации власти и предложено покинуть страну. Возглавляли скупщину молодые сербские интеллектуалы, члены либерального клуба. Это были юноши, вернувшиеся из Европы, где они за казенный счет получали образование по необходимым для молодого государства специальностям. Инженеры, землеустроители, врачи, юристы и военные – их было еще совсем немного, но у них было свое видение будущего своей страны. Молодые сербские интеллектуалы учились преимущественно во Франции, Австрии и Германии, все они были свидетелями революционных событий 1848–1849 годов и последующих поисков новых путей развития в европейских государствах. Намерения их были благими, но опыта государственного строительства никакого. Это хорошо понимали как в самой Сербии, так и в России.
История создания сочинения А. С. Хомякова «К сербам. Послание из Москвы»
В конце 1859 года, когда в Сербию вернулись Обреновичи и страна встала перед выбором – парламентаризм или диктатура, А. С. Хомяков у себя в деревне засел за аналитическую статью, которую впоследствии озаглавил «К сербам. Послание из Москвы». Увлечен этой работой он был чрезвычайно. «Когда глубокой осенью 1859 года Погодин вместе с Кошелевым решили навестить друга своего в тульском Богучарово, они застали его возбужденным и всецело погруженным в новую работу. Хомяков писал послание “К сербам”[161]. Письма Хомякова этого периода убедительно свидетельствуют, что свою работу он считал чрезвычайно важной для всего славянофильского дела»[162].
Завершив в довольно короткий срок важнейший труд, Хомяков сообщил об этом Аксаковым и Самарину. Он придавал документу чрезвычайное значение и настаивал, чтобы он был подписан коллективно: «Сербов вчера кончил; надеюсь, что вы все будете довольны и подпишите охотно. За одного подписчика даже ручаюсь – за Константина Сергеевича. Впрочем, и за всех почти ручаюсь: думаю, что согласитесь все, но буду просить строгого суда. Дело общее и серьезное»[163]. Однако в ходе обсуждения сочинения Хомякова возникли, по-видимому, и некоторые разногласия. Отправляя весной 1860 года «Послание» для перевода в Петербург А. Ф. Гильфердингу, Хомяков писал ему не без досады: «На днях послал я вам Сербов, которых Самарин должен был вам доставить уже с подписями. Ни слова не успел я написать по милости Погодина, который до ночи то подписывал, то нет. Просто надоел разным вздором. Должно быть, был не в духе по случаю своего неславного боя с Костомаровым»[164].
В результате под статьей подписались кроме Хомякова Ф. Чижов, Иван и Константин Аксаковы, Ю. Самарин, М. Погодин, И. Беляев, Н. Елагин, П. Безсонов, П. Бартенев, А. Кошелев – практически весь цвет русского славянофильского движения.
Послание «К сербам», пожалуй, один из самых спорных в литературе о Хомякове и славянофилах документов. История его создания, публикации и распространения, а главное – реакции на него в Сербии, обросла мифами и штампами, кочующими из издания в издание. Общий вывод современной историографии приблизительно такой: идея была благой, но преждевременной, нравоучительный тон старшего брата был негативно, с обидой и недоумением воспринят в Сербии и высмеян в русской демократической печати. Считается также, что творение Хомякова было с негодованием отвергнуто «братьями-сербами», а сам Хомяков как политический консультант стал у сербов крайне не популярен, в отличие от Хомякова-поэта, который был любим и часто переводим. Так ли это было на самом деле? С невероятной легкостью отечественная историография второй половины XX века подписала безжалостный приговор инициативе Хомякова: дилетантский ригоризм, вредный и смешной – вот сущность «Послания».
Подобные оценки не могут не вызвать желания разобраться в сущности проблемы. Действительно ли не произошло взаимопонимания, и если да, то в чем причины? Во всяком случае, причина не в русской неосведомленности о состоянии дел в Сербии, ведь Хомякова и остальных славянофилов трудно заподозрить в незнании предмета.
Итак, что они знали о сербской общественно-политической ситуации? Знали очень много, причем из первоисточника, получали известия из первых рук: от своих корреспондентов из Сербии, знакомились с аналитическими сводками из Азиатского департамента Министерства иностранных дел[165], состояли в дружественной переписке с настоятелем русской посольской церкви в Вене Михаилом Федоровичем Раевским, занимавшим этот пост с 1842 по 1884 год и владевшим как в силу порученной ему миссии, так и по личной инициативе колоссальной и первоклассной информацией о событиях на Балканах.
Достаточно сказать, что один из лучших ученых-славистов, занимавшихся Сербией, русский дипломат, первый русский консул в Сараево, объехавший все сербские земли в составе Турции, А. Ф. Гильфердинг (1831–1872) был ближайшим другом и младшим соратником, последователем идей Хомякова. Его отец, известный дипломат, ввел сына еще мальчиком в дом Аксаковых и Хомяковых[166].
Фундаментальный труд Гильфердинга «Письма из Боснии», печатавшийся в 1859–1860 годах, имеет подзаголовок «Письма к Хомякову». Именно Гильфердинг подготовил к печати после смерти Хомякова его «Исторические записки» и снабдил их собственным обширным предисловием. Публикуя это предисловие в четвертом издании сочинений Хомякова в 1903 году, составители отмечали: «Гильфердинг был в последние годы жизни Хомякова его ближайшим собеседником по вопросам истории и филологии»[167]. Нет сомнений, что Гильфердинг обстоятельно информировал Хомякова о ситуации на Балканах, о специфике сербской общественной и политической жизни.
Глубокие знания истории и современных событий в Сербии выразились в подборе публикаций по сербской проблематике в редактируемой Хомяковым и Аксаковым «Русской беседе» (1856–1860). Особый интерес представляют публикации в журнале периода подготовки и написания «Послания» – 1858–1859 годов. В это время сербское прошлое и настоящее анализируются практически в каждом номере. Южнославянскому вопросу на страницах «Русской беседы» посвятила свою работу Л. И. Ровнякова[168], она же составила и опубликовала библиографический перечень статей по славянской проблематике в журнале за весь период его существования[169]. Поэтому ограничимся лишь констатацией того, что сербская тема освещена была всесторонне: исторические сведения и очерки профессиональных историков, этнографические зарисовки, быт, нравы и обычаи, состояние церковных дел. Особого внимания заслуживают корреспонденции из Белграда сербского писателя и ученого М. Миличевича, ставшего в 1860 году редактором правительственной газеты «Србски новине». Его статьи «Семейная община по селам сербским, известная под именем задруги» (1858. Т. 3), «Сербская община» (1859. Т. 6) и особенно заметки участника Святоандреевской скупщины «Рассказ очевидца о Скупштине» (1859. Т. 1) и «Письмо из Белграда» (1859. T. 2) – несомненное свидетельство глубокого внимания редакции журнала к изменению политической ситуации в Сербском княжестве.
Хомяков не только хорошо знал сербские реалии, но и умело знакомил с ними русскую читающую публику. Недаром И. С. Аксаков в своем «Заключительном слове» по поводу запрещения издания «Русской беседы» дал такую оценку проделанной редакцией в 18 вышедших томах работы:
Давно ли славянский вопрос считался вопросом мертвым и теоретической бредней? Давно ли один из журналов насмешливо уступал г. Гильфердингу сочувствие всех славян от Балтики до Адриатического моря? Но обстоятельства изменились и, к счастью наших угнетенных братий, – они могут встретить теперь выражения сочувствия и не в одном только журнале. <…> Нам удалось возвести славянский вопрос из области археологического интереса в область живого деятельного сочувствия и оживить умственное движение в кругу наших литературных славянских собраний[170].
Что касается упреков Хомякову в крайнем романтизме, идеализации действительности, то и этот устоявшийся в современной историографии вывод представляется спорным. Все, близко знавшие Хомякова, отмечали, что высокая духовность не мешала ему трезво и реально оценивать политическую и экономическую ситуацию. Пожалуй, лучше других это поняла старшая дочь С. Т. Аксакова – Вера (1819–1864): «Хомяков, человек по преимуществу исключительно духовный, не в смысле только его возвышенной, разумной истинной веры, согретой самым искренним душевным убеждением, не только в смысле его строгой нравственности, но и по свойству его натуры, трезвый во всех своих впечатлениях и проявлениях. Необыкновенный человек!»[171] Серьезную и развернутую характеристику «цельности и сосредоточенности» в творчестве и жизни Хомякова, его высокому профессионализму в вопросах, о которых он судил, дал Ю. Ф. Самарин, убедительно опровергнувший обвинения друга в дилетантизме[172].
Так почему же Хомяков решил написать это письмо к сербам именно в конце 1859 года? Этот вопрос вызывает наибольшее недоумение у исследователей, не знакомых с сербской историей. Автор одной из последних объемных работ о Хомякове также задается этим вопросом: «По какому собственно поводу Хомяков засел за это послание, неясно. Может быть, ближайшим мотивом явилось какое-нибудь известие, полученное от знакомых ему сербов. Или просто раздумья над судьбой этого маленького королевства (на самом деле Сербия тогда была вассальным княжеством, а королевством она станет лишь в 1882 году. – Л. К.) на Балканах, населенного преимущественно православными славянами»[173]. Далее автор сообщает, что в Сербии произошел династический переворот, но резонно замечает: «Перемена государя, как мог судить Хомяков по собственному опыту, всегда приводила к перемене в сегодняшнем народном миросозерцании, – но что может сулить возвращение князя, некогда низвергнутого?»[174] Больших иллюзий в отношении князя Милоша славянофилы не питали, они рассчитывали на его сына князя Михаила и его соратников. Ситуация в Сербии виделась им критической, ибо речь шла не только о выборе пути политического развития маленького балканского княжества, но и о судьбах других славянских народов, для которых Сербия была опорой в деле их собственного освобождения от иноземного господства. За Белградом утвердилась слава «Пьемонта южных славян». В этот очень важный и для Сербии, и для славянства в целом момент Хомяков и обращается с «Посланием», в котором даются рекомендации строительства нового государства с учетом опыта, который прошла за последние 150 лет Россия. Собственно, эту работу Хомякова можно считать итоговой в его рассуждениях, прежде всего об историческом пути собственной страны.
Как «Послание» попало в Сербию
Хомяковский текст решено было перевести на сербский язык, отпечатать за границей и доставить в Сербию и в другие земли, где проживали сербы. Организацию всего этого дела взял на себя И. С. Аксаков, отправившийся весной 1860 года за границу на пять месяцев с целью ознакомиться со славянскими землями «и приобресть не ученое, но живое знание славянских наречий»[175]. Маршрут этого путешествия в части южнославянских земель, составленный «с Гильфердингом в Москве»[176], включал Словению, Далмацию, Черногорию, Гражданскую Хорватию, Военную Границу, Воеводину и княжество Сербию. Это в основном территории, населенные славянами сербско-хорватского языкового ареала. Направляясь туда, Аксаков уже имел переведенный на сербский язык текст «Послания». 10 мая 1860 года он писал из Вены: «Здесь, в канцелярии посольства нашел я только письмо от Гильфердинга с переводом известной статьи Хомякова и саму статью. Какие теперь интриги партий в Белграде, – просто горько слышать! – Я начал понемногу учиться по-сербски»[177]. И. С. Аксаков в ходе этой поездки знакомил славян с «Посланием» и сообщал Хомякову, что оно воспринимается с энтузиазмом.
Однако, когда в июле 1860 года И. С. Аксаков добрался до Белграда, его ждало серьезное разочарование. Политическая ситуация в стране была напряженной, находившийся при смерти старый князь Милош разогнал сербских либералов, приведших его к власти, и ввел в стране режим диктатуры. Аксаков из Белграда сообщал о проблемах с публикацией «Послания»:
Я в затруднении относительно известной Вам рукописи, писанной Хомяковым. С одной стороны, нет такого человека, которому это дело должно быть поручено; с другой стороны, настоящая минута такова, что слово наше канет в воду, не будучи замеченным. Мы воображали себе, что после последней скупщины Сербия вступила на путь самостоятельного развития, а потому и нуждается в совете. Увы, вышло не так. Люди скупщины, люди народной партии, люди европейски образованные, но в то же время горячо сочувствующие России, Москве, Русской Беседе и проч., удалены от правления, и дано место «швабам» (проавстрийским чиновникам. – Л. К.). Скупщина изъявила одно решительное желание: свободу слова <…> а теперь установлена цензура[178].
Аксаков воспользовался случаем и проехал в крестьянской телеге по всей Сербии, составив довольно четкое представление о его народе. Дал он и яркий портрет старому князю Милошу: «Свинопас, до сих пор не знающий грамоте, он создал целую державу, теперь князь: вокруг него обстроился целый большой красивый город, 400 школ в Сербии и 14 тысяч учеников»[179].
В своей очень активной деятельности в княжестве Иван Сергеевич не забывал и о данном ему Хомяковым поручении: «Что же касается до нашего Послания к сербам, приведшего в восторг всех, кому я читал его, то по совету митрополита и всех приятелей я напечатаю его в Лейпциге на русском и сербском языках, а здесь в Белграде печатать нельзя: и цензура не пропустит, и обоим князьям будет оно во многом неприятно, а печатать такую вещь без ведома типография не решится»[180]. Вот сколько хлопот и проблем вызвала эта инициатива Хомякова. А у Аксакова были и другие серьезные заботы – тяжело заболел его старший брат Константин, надо было срочно встречать его и везти лечиться на европейские курорты.
В сентябре И. С. Аксаков вернулся в Вену, и когда уже вовсю шла подготовка к печати рукописи «Послания», из России пришла страшная весть о смерти Хомякова. Аксаков сообщал А. Д. Блудовой в конце октября из Вены:
Я печатаю теперь в Лейпциге одно из последних произведений Хомякова, это «Послание к сербам» от нас всех, им и нами всеми подписанное. Оно печатается (с нашими подписями) на русском и сербском языке вместе. Политического тут ничего нет. Цель послания – передать заблаговременно сербам нашу горькую опытность, чтобы они не впали в наши ошибки, – оно не назначается собственно для продажи, но назначается для чтения сербам, которым и будет доставлено с честною явностью. Когда будет готово, я Вам пришлю. Оно имеет характер совершенно духовного послания[181].
В этот же день он писал А. И. Кошелеву о смерти Хомякова:
<…> для меня точно потемки легли на мир, точно угасло светило, дневным светом озарявшее нам путь. Он был нашею совестью, и даже совестью каждого из нас лично, он был нашей гордостью и в то же время истинною утехою; он всем нам был опора и вождь, и друг и центр, нас соединявший. <…> История нашего славянофильства как круга, как деятеля общественного замкнулась.
И добавлял:
А я печатаю здесь одно из последних его творений, послание к сербам. То есть печатаю в Лейпциге, а корректуру мне сюда присылают[182].
Сущность основных положений «Послания»
Вчитаемся в текст этого и по сей день рождающего дискуссии сочинения А. С. Хомякова. Очень аккуратная стостраничная книжечка – «билингва», страницы слева (четные) по-русски, справа (нечетные) – по-сербски[183]. На обложке название также на двух языках «Къ Сербам. Лейпцигъ. У Франца Вагнера» и «Србльима. Посланiе изъ Москве. У Лейпцигу кодъ Фране Вагнера». Перевод, надо заметить, изобилует русизмами, да и грамматика полурусская, полусербская – мягкие и твердые знаки на конце слов, в сербском языке не употреблявшиеся.
Что же такого крамольного было в сочинении Хомякова, что юная сербская цензура могла его не пропустить?
Представляется, что в первую очередь его не пропустила бы в печать цензура русская, потому что трактат этот в равной степени касается и сербов, и России. В сущности, это анализ трудного и сложного «врастания России в Европу», того, что сейчас называется европеизацией и модернизацией. Какова должна быть мера этой модернизации, какие сферы жизни не могут и не должны быть европеизированы, А. С. Хомяков истолковывает на русском примере своим сербским братьям – либералам. Основные положения его труда сводятся к следующему.
Во введении объясняются мотивы написания этого трактата. Воздав должное терпению и мужеству сербского народа, получившего с Божией помощью и при содействии «единокровного и единоверного вам народа русского свободу от нестерпимого ига народа дикого и неверного, самостоятельность и самобытность в делах общественных, возможность мирного и безмятежного жития», автор пишет о грозящих сербам испытаниях. Это, во-первых, испытание свободой, которая «величайшее благо для народов, налагает в то же время великие обязанности <…> удваивает для людей и для народов их ответственность перед людьми и перед Богом». Во-вторых, это искушение благополучием, поскольку «счастие и благоденствие преисполнено соблазнов и многие сохранившие достоинство в несчастиях предались искушениям, когда видимое несчастие от них удалилось».
Далее объясняется, по какому собственно праву взялись московские благожелатели давать советы сербам: «Поэтому да позволено будет нам, вашим братьям, любящим вас любовью глубокою и искреннею и болеющих душевно при всякой мысли о каком-нибудь зле, могущем вас постигнуть, обратиться к вам с некоторыми предостережениями и советами. Мы старше вас»[184].
Тематически эти предостережения выглядят следующим образом.
1. Прежде всего это предостережение от эксклюзивного национализма – «не возгордитесь перед другими славянами своими успехами в обретении независимости». Напоминание вполне уместное и своевременное, ибо и в самом деле такая угроза была. Уже начались первые, пока еще литературные споры с хорватами, а впереди были территориальные конфликты и войны с болгарами в 1878–1885 годы.
2. Идеологической основой государства, несмотря на либеральные доктрины его устройства, должно быть Православие, а не идеализм или материализм. Здесь как раз содержится и вызвавший острую полемику тезис, что при необходимости полной свободы в Вере и в исповедании ее не допускать все же «совратившихся с пути истинного» до управления государством. Именно Православие даст возможность сохранить локальное самоуправление – «земскую общину».
3. Необходимость сохранения существующего у сербов естественного равенства, не допуская деления на благородных и низших. Надо сказать, что сербы и сами прекрасно понимали необыкновенное преимущество «социальной однородности» своего общества, возникшей в общем-то при трагических обстоятельствах истребления или «потурчения» их родовой знати много веков назад. Все сербские законы и конституции, а их в ХIХ веке было немало, решительно запрещали любого рода сословное деление или введение каких-либо сословных отличий и званий. Сербия была страной, в которой проживало около миллиона свободных крестьян-собственников, владевших средними наделами земли. Класс чиновничества только зарождался, а политическая элита состояла из нескольких десятков грамотных людей.
4. Заимствуя технические достижения Запада, следует сохранять национальную самобытность, особенно в языке. В качестве негативного примера приводится эпоха Петра I в России, когда «вся земля русская обратилась как бы в корабль, на котором слышатся только слова немецкой команды». При этом сама эпоха преобразований Петра оценивается положительно. Это, кстати, подтверждает вывод известного ученого Анджея Валицкого, что А. С. Хомяков, в отличие от И. В. Киреевского, очень высоко оценивал деятельность Петра I, поскольку хотя он сделал много ошибок, но потомство вспомнит о нем с благодарностью, ибо за ним остается честь пробуждения России к силе и сознанию силы[185].
Предостережение от тотальной вестернизации: «Учитесь у западных народов, это необходимо, но не подражайте им, не веруйте в них, как мы в своей слепоте им подражали и веровали. Да избавит Вас Бог от такой страшной напасти!»
5. Не обойдена вниманием и специфически сербская проблема – распыленность сербского народа, наличие колоссальной сербской диаспоры. К тому времени уже больше двухсот лет проживали свыше миллиона сербов на территории Австрии, где имели церковно-школьную автономию, преуспевали, сформировали слой зажиточных и образованных людей и даже создали наряду со школами, гимназиями и типографиями свои научные учреждения в рамках «Матицы Сербской».
Опасаясь, что именно австрийские сербы и будут пропагандистами тотальной европеизации, Хомяков писал: «А их просим мы не слишком доверять своей мнимой мудрости и помнить, что они приступили к вашему союзу не как чистейшие и безусловно лучшие, но напротив того, как люди, несколько искаженные и требующие, так сказать, внутреннего омовения от иноземной проказы».
Эти предупреждения не могли не вызвать негативной реакции у «австрийских сербов», что и почувствовал Аксаков во время своего пребывания в Воеводине. Он был принят там чрезвычайно холодно, а иерархи Карловацкой православной патриархии и вовсе отказались с ним встречаться. Об обстоятельствах аксаковского посещения Воеводины оставил яркие воспоминания известный сербский политический и общественный деятель Яков Игнятович. Эти мемуары проанализировала в своей статье «Утраченные иллюзии» большой знаток русской и сербской общественной мысли сербская исследовательница Латинка Перович[186].
Обида, видимо, была очень велика, так как вообще-то воеводинские сербы остро нуждались в поддержке, ибо австрийский центр принял решение об упразднении административной единицы «Сербская Воеводина и Темишский Банат» и передавал их в состав венгерской короны[187], лишая последних черт самостоятельности.
6. Призыв сохранять национальные традиции – одежду, обычаи. «Не вдавайтесь в соблазн быть европейцами. <…> Не надевайте на свою умственную свободу щегольского ошейника с надписью “Европа”».
7. Хомяков призывает сербов не стремиться к роскоши, а богатство употреблять на просвещение. «Поистине, Сербы, та земля велика, в которой нет ни нищеты у бедных, ни роскоши у богатых и в которой все просто и без блеска, кроме Храма Божия. Такая страна действительно сильна: она угодна Богу и честна у людей».
8. Охранять и защищать нравственные идеалы и способствовать чистоте семейных отношений, стараясь не поддаваться разлагающему влиянию извне. «По свету ходит об вас великая похвала, которую, как думаем, вы заслуживаете: это похвала чистоте ваших нравов».
9. Реформу судопроизводства Хомяков рекомендует проводить на основании суда общинного. Непременным условием считает отмену смертной казни: «Не казните преступника смертью. Он уже не может защищаться, а мужественному народу стыдно убивать беззащитного».
10. Следует подчиняться власти, избранной народом, но одновременно и радеть о сохранении свободы мнений и свободы печати.
11. Уважать духовных пастырей, но не позволять, «чтобы они величали себя церковью, отдельно от народа».
12. Всячески печься o распространении знаний. Образование должно быть доступно для всех. «Любите и поощряйте науку не только ради прямой пользы, которую она приносит обществу и частным людям в жизни общественной, но гораздо более ради того, что ею расширяется и укрепляется разум, великий Божий Дар. Знайте и то, что там, где наука пользуется свободой и почетом ради самой себя, там она доброплодна и сильно содействует общественному благу; там же, где ее принимают как наемную работницу, там она бессильна и не приносит никаких плодов самому обществу. Это мы отчасти сами испытали и испытываем даже и теперь».
Общий вывод «Послания» следующий: «Мы же сочли своим долгом сказать вам то, что узнали из опыта, и предостеречь вас от ошибок, в которые легко может впасть народ, входя в неизведанную им область умственных сношений с другими европейскими народами».
Миф о негативной реакции на «Послание» в Сербии
В отечественной историографии сложилась традиция писать об исключительно негативном восприятии творения Хомякова в Сербии. Начало было положено Н. Г. Чернышевским в статье «Самозванные старейшины», опубликованной в «Современнике» (1862. № 3–4). Там содержалась уничижительная критика «Послания», издевка над ее авторами, каковыми могут быть «только люди до крайности скудные разумением обстоятельств и потребностей исторической жизни, да и всяким разумением чего бы то ни было». И. С. Аксаков был этим чрезвычайно возмущен. Обстоятельства возникшей полемики рассмотрел известный советский ученый С. А. Никитин[188]. Он полностью встал на сторону Чернышевского и его единомышленников и пришел к выводу, что основные идеи «Послания» «совершенно вне плана развития сербской жизни и без всякой связи с реальными интересами и стремлениями сербов»[189]. Авторитет академика С. А. Никитина, глубокого знатока российских архивов и периодики, исследователя деятельности славянских комитетов, аналитика русской внешней политики на Балканах, был так велик, что и его ученики в нашей стране, и ученые Югославии ссылались на утверждение о неприятии «Послания» как на очевидный факт, не давая себе труда искать какую-либо иную аргументацию[190].
Не отступая в целом от постулатов Никитина, все же некоторые из сербских ученых пытаются понять истинный отклик на творение Хомякова в Сербии. Особая роль принадлежит здесь выдающемуся сербскому ученому Милораду Экмечичу. Анализируя «Послание», он останавливает внимание на русском видении будущего Сербии. Прежде всего это касается вопроса о чистоте Православия в Сербии. Ученый пишет, что сербское Православие отличалось еще до наступления эры модернизации от русского и греческого, а русские славянофилы приложили немало энергии, чтобы выявить слабые места в сербском христианстве. Они говорили о чересчур самостоятельном характере церкви, у которой есть свои национальные святые, и о снисходительности пастырей к тому, что верующие не имеют привычки посещать храмы, удивляло их и чрезмерное подчинение церкви государству[191]. Экмечич видит в этом давление и дидактизм со стороны славянофилов, ратующих за «истинное Православие» в стране, где начинаются процессы секуляризации.
Русские славянофилы, согласно Экмечичу, еще до Крымской войны были настроены на решительную критику происходящего в Сербии сближения с католицизмом. Они критиковали и реформу Вука Караджича в этом же духе. Хомяков направил в 1853 году в Белград стихотворение-призыв: «Вставайте, оковы распались!»[192]. «Итогом этой критики сербского национального движения стала публикация славянофильского “Послания к сербам”, написанного А. С. Хомяковым. Она вышла в Лейпциге в 1860 г. в сербском, французском и немецком переводах»[193]. Здесь ученый ошибается в деталях, так как текст был только на русском и сербском (кириллица) языках, но прав по сути. Да, действительно наибольшее неприятие «Послание» вызвало не у сербов княжества и не у демократически настроенной молодежи, а в католических кругах. Два наиболее серьезных критика «Послания» в Сербии Джура Даничич и Матия Бан были с этими кругами тесно связаны.
О реакции на «Послание» в католической среде имеются сведения и в русских источниках. Об этом достаточно красноречиво писал митрополиту Михаилу Раевскому в Вену русский вице-консул в Риеке (Фиуме) Василий Федорович Кожевников, который в 1859–1860 годах был секретарем русского посольства в Белграде и общался с И. С. Аксаковым во время его пребывания в Сербии. Кожевников весьма критически отнесся к «Посланию», аргументируя это тем, что в нем были оскорблены чувства верующих католиков-славян. В письме к Раевскому от 27 ноября 1861 года он писал:
Не надо забывать, что славяне-католики были страшно обижены в «Послании из Москвы». Вспомните только, почтеннейший Михаил Федорович, что говорилось в «Послании» о католиках; выписываю здесь несколько строк (стр. 32): «<…> да будет он (т. е. славянин-католик) Вам все еще братом, хотя несчастным и ослепленным! Но да не будет уже он ни законодателем, ни правителем, ни судьею, ни членом общинного схода, ибо иная совесть у него, иная у Вас <…>»[194]. Кажется, этого одного достаточно, чтобы понять, что кроаты (хорваты. – Л. К.) должны были по всем законам здравого разума оскорбиться и поудержать несколько свою симпатию к единоплеменным братьям русским, которые так неосторожно – и даже неловко – бросили в них камень, да еще откуда – из Москвы! Как хотите, а промах сделан, и едва ли скоро можно будет изгладить неприятное впечатление, произведенное на хорватов «Московским посланием». Дай Бог, чтобы кроаты поскорее позабыли эту ошибку и извинили бы славянофилов, не думавших, быть может, их оскорбить. От души желаю, чтобы подобных приветствий славянам со стороны наших лучших и честных деятелей не возобновлялось.[195]
По-видимому, ответ М. Ф. Раевского был очень резким и направленным в оправдание и защиту хомяковского послания, ибо уже 19 декабря 1861 года Кожевников пишет обширное письмо из Рагузы, в котором объясняет причины своего неприятия «Послания»: «Да разве я писал Вам когда-нибудь, что восстаю против живых и спасительных истин “Московского послания”? Удивляюсь и искренно сожалею, что Вы дали такой превратный смысл словам моим. Я не защищал ни папизма, ни католической веры. Я сказал только, что католики (хорваты, разумеется) имели полное право обидеться, прочитав некоторые страницы “Московского послания”»[196]. Далее он объясняет свою позицию тем, что «появление этой книжки не вовремя наделало много вреда нам и, может быть, даже усилило в католиках-славянах недоверие к России».
Русский дипломат обращает внимание на реакцию, которую вызвало «Послание» среди православных сербов княжества. Он служил секретарем русского консульства в Белграде летом 1860 года, когда туда приезжал Аксаков с рукописным текстом «Послания»: «Сошлюсь прямо на слова любимого и уважаемого мною Ивана Сергеевича Аксакова. Читая эту рукопись в Белграде, он сказал: “Жаль, что не имею никакого права изменить что-либо в этом послании; поймут ли сербы все то, что здесь высказано и не слишком ли рано говорить им так откровенно о наших ошибках и старых грехах?”. Последствия показали, что Иван Сергеевич, действительно, не ошибся и что сербы не оценили или не умели оценить хорошую сторону этой душевной исповеди»[197].
Однако вернемся к аргументации Экмечича. Очень интересен его вывод, что «Послание» недооценено исследователями в контексте его значения для сербской и югославянской истории того времени. Ученый считает, что до сих пор нет глубокого научного исследования того влияния, которое оказало «Послание» на современную ему сербскую политику. Очень важно, что это послание было привезено в Белград, где часть сербской интеллигенции полностью согласилась с его выводами. Экмечич считает, что без анализа этого влияния непонятен исторический путь либеральной партии, почему в ней было так мало национальных жизненных соков. По мнению ученого, влияние идеологических наставлений (порука) «Послания к сербам» ощущалось до 1878 года, и именно они стали причиной исторической катастрофы сербской национальной идеи после начала Герцеговинского восстания 1875 года вплоть до Берлинского конгресса. В 1876 году сербское национальное движение целиком попадает в руки русских славянофилов. Экмечич утверждает, что славянофилы стремились к созданию славянского союза с центром в России и для этой цели собирались использовать сербов в качестве тарана, они финансировали сочинение И. Ткалаца 1853 года и использовали призыв Я. Игнятовича 1856 года, которые в той или иной степени пропагандировали сербо-русское сближение для противостояния западному миру.
Общее отношение Экмечича к инициативе славянофилов – негативное: они-де свернули сербов с истинно верного пути строительства национального сербского государства. Вывод ученого представляется спорным, поскольку именно в это время цели и славянофилов, и собственно сербской национальной программы «Начертание» во многом совпадали: это был план освобождения славянских народов балканского полуострова от турецкого господства. Не избежал Экмечич при этом и фактических ошибок, полагая, что в Белграде в 1860 году был Константин Аксаков, в то время как там был Иван. Тем не менее важно, что сербский ученый понял необходимость изучения того отклика, который получило «Послание» в Сербии. Эту мысль развивает и последователь Экмечича Милан Суботич. В своей монографии, посвященной либеральной идее и практике в Сербии, он уделил анализу «Послания» целую главу[198], а затем занялся анализом политических идей славянофильства[199]. Латинка Перович также считает, что влияние славянофилов в Сербии имело продолжение и заслуживает исследования.
О том, какую громадную роль сыграли труды А. С. Хомякова в формировании идеологии творца Югославии, выдающегося сербского политика Николы Пашича, написал А. Л. Шемякин[200]. Ученый доказал, что, именно базируясь на трудах Хомякова, Никола Пашич создавал идеологическую основу своего оригинального проекта нового сербского государства.
Сами же славянофилы и не подозревали, какого рода обвинения они получат за свою инициативу. О том, что «Послание» представлялось им вполне корректным по отношению к славянам документом, свидетельствуют слова И. С. Аксакова, сказанные в 1860 году: «Мы рады, что успели, кажется, рассеять ложные понятия, какие существовали у нас и у славян о русском панславизме, и убедили наших братий, что сочувствие наше чуждо посягательства на их самостоятельное развитие; признание прав на самобытность каждой славянской народности было всегда девизом русского славянофильства»[201].
Внимание Хомякова к проблемам сербской государственности, его вклад в исследование ситуации в сербском княжестве в первой половине XIX века оставили глубокий след в памяти сербского общества. Это выражается в постоянном обращении сербских интеллектуалов к творчеству русского мыслителя. Такое обращение сопровождается разными оттенками научного анализа – от открытой критики и полемики до глубокого осмысления идей Хомякова и применения их в общественно-политической практике (Пашич).
Эпилог
Странные бывают переплетения судеб идей с судьбами людей. Младший сын Хомякова Николай (1850–1925) – известный русский политический деятель, предводитель дворянства Смоленской губернии, член Государственного Совета, депутат II и IV Дум, председатель III Думы, октябрист – после революции нашел пристанище в Югославии, где и умер. Это тот самый мальчик, который был назван Хомяковым в честь Николая Языкова и крестным отцом которого был Николай Васильевич Гоголь, о нем Хомяков писал Веневитинову: «Если малый не будет литератором, не верь уж ни в какие приметы». В эмиграции, в Югославии, Николай Алексеевич Хомяков жил на пособие, которое получал от короля Александра Карагеоргиевича в знак уважения деятельности его отца на пользу Сербии[202].
Л. П. Лаптева
А. С. Хомяков и его связи с чешскими учеными
О связях А. С. Хомякова с западными славянами сведений сохранилось мало. Но во время своих путешествий за границу он установил контакты, например, с некоторыми деятелями чешского Возрождения, в частности с П. Й. Шафариком и В. Ганкой.
П. Й. Шафарик (1795–1861) – чешский филолог-славист, автор сочинений «Славянские древности» и «Славянская этнография», в которых впервые дал научное объяснение многих вопросов, касающихся расселения славян, классификации их языков, образа жизни и других сторон бытия древних славян, чем заложил основы глубокого изучения истории и этнографии славянства. В России сочинения Шафарика были не только известны всем лицам, интересующимся славянством, оба упомянутых труда (как и некоторые его менее крупные сочинения) были переведены на русский язык и использовались в качестве учебных пособий в преподавании славянских дисциплин в российских университетах первой половины XIX века.
Авторитет Шафарика как ученого был в России очень высок, и каждый русский исследователь, которого серьезно интересовали вопросы, связанные с изучением славянства, обращался к Шафарику за консультациями и вообще за научной помощью при посещении Праги. Его труды и контакты с ним русских славистов сыграли большую роль в развитии славяноведения в России в первой половине и в середине XIX века. Имеются сведения, что и Хомяков при своем посещении Чехии виделся с Шафариком, беседовал с ним на исторические темы, позитивно отзывался об эрудиции чешского ученого и считал общение с ним весьма полезным. Однако более тесные контакты у Хомякова с Шафариком не наладились. Оба ученых представляли, по существу, противоположные концепции в области мировоззрения, а также и во взглядах на прошлое, настоящее и будущее славянства. Православный мыслитель Хомяков не мог принять протестантского рационализма Шафарика.
Как известно, славянофилы считали протестантизм искаженным вариантом христианства, а истинной церковью провозглашали Православие. Решительным образом расходились взгляды Хомякова и Шафарика по вопросу о будущем славянского мира. Русский ученый видел путь спасения славян от германизации и других влияний в объединении их в форме федерации при единой православной религии и под духовным опекунством России как сильной и независимой славянской державы. Шафарик же был австрославистом, разделял теорию создания автономных и равноправных – как между собой, так и с господствующей нацией – славянских объединений в рамках Австрийской монархии. Более того, австрослависты считали, что существование этой монархии является гарантией против поглощения славян Россией – страной, где еще господствует крепостничество и самодержавие «хуже татарского».
Таким образом, Хомяков и Шафарик не имели общей духовной платформы для продолжительных контактов. Известно, что Шафарик не принимал и поэзию Хомякова, относился к ней пренебрежительно и даже с презрением. Правда, в его библиотеке обнаружены стихи русского поэта, но каким образом они туда попали, сведений нет. Скорее всего, они были подарены Шафарику кем-то из русских славистов, возможно, О. М. Бодянским.
Совершенно другим типом ученого и деятеля чешского Возрождения был Вацлав Ганка (1791–1861). Этот некритический русофил и сторонник славянской взаимности в ее колларовском варианте, т. е. в форме литературного и культурного единства без политического объединения славян под чьим-либо опекунством, представляет собой очень сложную фигуру. Хорошо образованный и очень даровитый, Ганка оставил след в различных областях чешской науки в эпоху ее становления, в период чешского национального возрождения. Он был хранителем в библиотеке Чешского Национального музея – учреждения, сыгравшего важнейшую роль в возрождении чешского языка, пришедшего в упадок в результате потери Чехией политической и государственной независимости в XVII веке и подвергшейся сильной германизации.
Библиотекарь В. Ганка разыскивал и издавал древние памятники чешского языка и истории, переводил на чешский язык и публиковал сочинения других славянских народов, например «Слово о полку Игореве» и народные сербские песни, собранные Вуком Караджичем. Он сам писал стихи и сочинял литературные произведения различных жанров. Великой заслугой Ганки было комплектование библиотеки Чешского Национального музея славянской литературой. Установив контакты практически со всеми славянскими деятелями культуры, Ганка путем обмена изданиями, покупкой и другими способами (например, благодаря получению в подарок целых библиотек) способствовал формированию в Праге центра славянских исследований.
Каждый, кто занимается изучением славянских языков, литературы, истории, обязательно должен работать с рукописями и книгами, сосредоточенными в библиотеке Национального музея в Праге.
Особые отношения сложились у Ганки с русской наукой о славянах. Он оказывал ей различные услуги: печатал свои работы в русских журналах, посылал русским ученым сообщения о состоянии литературы у славян – о новых изданиях, о том, кто из славянских ученых над чем трудится, обучал русских стажеров чешскому языку и преподавал русский язык чехам. Дважды Ганка приглашался министерством народного просвещения России на постоянную работу по организации славистических исследований и славянской библиотеки, но каждый раз уклонялся от принятия этих предложений под разными предлогами.
В общем, Ганка был в России самым знаменитым чехом, да и представителем вообще всех западных славян. В области организации межславянских научных связей, без которых наука о славянах в период ее зарождения обойтись никак не могла, Ганке принадлежит исключительная роль. Будучи не только русофилом, но и страстным чешским патриотом, Ганка сочинил несколько литературных произведений и выдал их за обнаруженные им древнечешские рукописи. Некоторые из этих подделок были разоблачены еще в середине XIX века, при жизни Ганки.
Но для доказательства подложности двух рукописей – Краледворской и Зеленогорской – потребовалось почти полтора века. Они появились на свет в период отчаянной борьбы чехов за восстановление прав чешского языка, за признание равноправия с представителями господствующей нации – немцами и были признаны чешскими патриотами в качестве исторического доказательства культурного равноправия. Хотя подделки нанесли ущерб развитию многих гуманитарных наук в Чехии, они были знаменем борьбы за культурное равноправие и национальную самобытность чехов и сыграли важную роль в формировании национального самосознания народа[203].
А. С. Хомяков посетил Ганку в Праге во время своей второй поездки за границу в 1847 году и оставил в его альбоме запись: «Когда-то я просил Бога об России и говорил:
- Не дай ей рабского смиренья,
- Не дай ей гордости слепой,
- И дух мертвящий, дух сомненья
- В ней духом жизни успокой.
Эта же молитва у меня для всех славян. Если не будет сомненья в нас, то будет успех. Сила в нас будет, только бы не забылось братство. Что я мог написать в книге Вашей, будет мне всегда помниться как истинное счастие.
Алексей Хомяков, 1847 год»[204].
Здесь уместно остановиться на взглядах Хомякова на славянство в целом, которые отражали мировоззрение ученого. Славянофильская доктрина как философское учение является, очевидно, плодом коллективного творчества. Соответствующий коллектив состоял из одаренных, европейски образованных индивидуумов, каждый из которых разрабатывал преимущественно одну сторону доктрины: А. С. Хомяков и И. Киреевский – религиозный аспект; К. С. Аксаков – исторический; другие изучали проблемы общины в русской жизни, и все это было слито воедино. Конкретно историей зарубежных славян никто в московском славянофильском кружке не занимался. Но в середине 1840-х годов в этом кружке появился А. Ф. Гильфердинг, тогда 14-летний подросток. Он впитал славянофильскую философскую идею и применил ее к изучению истории славян. Смысл этой идеи сводился к тому, что славяне принадлежат к единому народу, доказательством чего является язык, выработавший еще в эпоху Cредневековья литературную форму. Однако филология вносила коррективы в этот тезис и показывала, что развитие языков у славянских народов – совсем рано, еще до создания письменности – шло разными путями, так что в период появления славянофильской доктрины для освоения любого славянского языка требовалось специальное его изучение.
Вторым фактором, объединявшим славян, была, по мнению славянофилов, православная религия, этот тезис особенно подробно разрабатывался А. С. Хомяковым и был перенесен А. Ф. Гильфердингом в сочинения по истории западных и южных славян. Утверждалось, что Православие является единственной истинной религией славян, привнесенной им св. Кириллом и Мефодием, а остальные варианты христианства представляют собой его искажение. По мнению славянофилов, кирилло-мефодиевская традиция у западных славян сохранилась и время от времени «пробивается» через католический обряд.
Это романтическое отношение к религии западных славян не имеет исторической почвы. Греческие миссионеры Кирилл и Мефодий не могли принести православную веру, например, в Чехию, так как в период осуществления их миссии христианская церковь еще не была разделена на православную и католическую, разделение произошло позднее. Кроме того, организованная Мефодием церковь в Моравии и Паннонии подчинялась римскому папе, а не константинопольскому патриарху, а при переводе богослужебных книг с греческого на славянский Мефодий вносил в них коррективы с учетом местных обычаев и установлений, поскольку крещение западных славян этого региона частично было уже осуществлено западными миссионерами.
В качестве православных традиций славянофилы называют обряд причащения под двумя видами для мирян и богослужение на народном языке (вместо латинского). Но причащение под двумя видами практиковалось и в католической церкви до 1215 года, а в интересах расширения своего влияния католическая церковь допускала и богослужение на национальном языке. Таким образом, наличие кирилло-мефодиевских традиций у западных славян до времени гуситского движения в Чехии или позднее является плодом фантазии славянофильских историков. Поэтому тезис об общности религии для всех славян отпадает как несостоятельный, этот фактор не мог играть роли в славянском объединении.
На основании ложного положения об общности религии славянофилы выводили теорию об особенностях славянской души и психического склада народа по сравнению с представителями германо-романского мира. Возникло убеждение о противоположности миров – романо-германского (западного, католического) и греко-славянского (восточного, православного), находившихся в постоянной взаимной вражде. Романо-германская стихия, по мнению славянофилов, агрессивна, она стремилась подчинить себе славян, а историческая задача последних заключалась в отторжении всего чужеземного, в сохранении самобытности и развитии ее. Над всеми этими фантазиями много потрудились славянофильские мыслители, и А. С. Хомяков в первую очередь. Историки разыскали подтверждения этих философских рассуждений, и славянофильская трактовка истории западных славян стала господствующей в русской историографии вплоть до 1870-х годов.
Среди западных славян подобная оценка их истории не находила сторонников. Большинство патриотов, исповедовавших «всеславянство» и признававших желательность славянского объединения, искали опору в культурной и литературной общности, были сторонниками славянской взаимности на этой основе. Лишь отдельные деятели разделяли некоторые положения русских славянофилов, например об исконной враждебности немцев к славянам, мечтания о славянском братстве и любви.
Следует заметить, что романтические мечтания имели и некоторое позитивное значение. Сторонники славянской взаимности обменивались литературой, изучали славянские языки, способствовали ознакомлению славянских народов друг с другом, их деятельностью стимулировался интерес к прошлому своих народов и развитию науки о славянах. К числу таких романтиков принадлежал чех В. Ганка, в котором Хомяков нашел восторженного поклонника и пропагандиста своей поэзии среди славян. Хотя сохранившиеся письма русского мыслителя к Ганке и не содержат значительного числа новых данных для характеристики взглядов Хомякова на славянство, но все же они представляют собой еще одну яркую иллюстрацию его концепции о будущем славян. Первое из писем датировано 1847 годом, когда Хомяков, посетив Ганку в Праге, возвратился в Германию и писал из Берлина: «Из Обржишть (село Обржишть на Лабе под г. Мельник. – Л. Л.) послал я Вам стихи; писал также с берегов Рейна, и также послал стихи; не знаю, дошло ли это все до Вас. В этом сомнении повторяю то, что уже писал. Приехав из Обржишти, или, лучше сказать, на дороге, сочинил следующую пьесу; хороша ли, дурна ли – все-таки посылаю ее Вам». (Далее идет стихотворение «Не гордись перед Белградом…»[205]) «Написав и отправив эти стихи, – продолжает Хомяков, – я успокоился и лег спать. Но, видно, было что-то вредное в Вашем пражском воздухе; меня вместо сна звало к стихам, занятию, давно забытому мною; я вспомнил Ваши последние слова об единстве веры, без которого нет полного единства в народах, и не то во сне, не то наяву написал следующие стихи:
- Беззвездная полночь дышала прохладой,
- Катилася Лаба, гремя под окном,
- О Праге я с грустною думал отрадой,
- О Праге мечтал, забываяся сном.
- Мне снилось – лечу я; орел сизокрылый
- Давно – и давно бы в полете отстал,
- А я, – увлекаем невиданной силой,
- Все выше и выше взлетал.
- И с неба картину я зрел величаву:
- В убранстве и блеске весь Западный край,
- Мораву и Лабу, и дальнюю Саву,
- Гремящий и синий Дунай.
- И Прагу я видел, и Прага сияла,
- Сиял златоверхий на Петшине храм;
- Молитва славянская громко звучала
- В напевах, знакомых минувшим векам.
- И в старой одежде Святого Кирилла
- Епископ на Петшин всходил,
- И следом валила народная сила,
- И воздух был полон куреньем кадил.
- И клир, воспевая небесную славу,
- Звал милость Господню на Западный край,
- На Лабу, Мораву и дальнюю Саву,
- На шумный и синий Дунай».
«После нашего свидания, – продолжает письмо Хомяков, – проехал в короткое время много и много земель, наслушался и нагляделся довольно. Везде нашел я всесовершенное равнодушие к тем вопросам, с которыми срослася наша жизнь. Если бы мир славянский был каким-нибудь землетрясением поглощен, Европа и не охнула бы. Все сочувствие, ею нам изредка оказываемое, есть или чистое лицемерие, или следствие каких-нибудь своекорыстных видов. Безумны те из наших братьев, которые ищут сочувствие вне нас». Затем Хомяков развивает один из исторических тезисов славянофильской доктрины, а именно: об общинном быте русского народа. Подчеркнув факт равнодушия Европы к славянскому миру, ученый констатирует, что, «с другой стороны, наука постигает многие прекрасные стороны нашего быта и завидует нам, например, крестьянской общине в России и у южных славян. Это понимают немцы и даже французы. Общину славянскую изучают и пишут об ней, как я уже сказал, с завистью; но зависть – не любовь».
Также и главный тезис концепции Хомякова об объединении славянской церкви под эгидой Православия, к чему были равнодушны уже сами славяне, находит отражение в цитируемом письме: «Другое сочувствие, глубокое и сильное, нашел я в Англии, не к нам, но к нашей церкви. Трудно поверить, как часто и с каким жаром выражается у них любовь или, лучше сказать, жажда церковного единства. Неужели она не проснется в наших единокровных братьях?» Далее Хомяков подчеркивает: «Верьте мне, ни протестантство, ни романизм не отвечают ни требованиям времени, ни глубоким требованиям славянской души. Одно уходит в Фейербаха, другое – в грубую политику. Оба отжили. Мне кажется, мой сон будет когда-нибудь не сном»[206].
Вспоминая о своем пребывании в Праге, Хомяков заканчивает письмо следующими словами: «Покуда скажу я, что отраднейшим днем моего путешествия был день в Праге, и что Ваш привет и ласки почтенного Шафарика мне отогрели душу, как солнечным лучом. Я всегда буду от души благодарить Вас и благославлять за Вашу любовь к доброму делу».
Приведенный материал показывает, что Хомяков видел в Ганке своего единомышленника и развивал в письме к нему свои взгляды на славянское братство. Ганка в общем сочувствовал идее сохранения в чешском народе кирилло-мефодиевской традиции, проводил эту идею и в своих сочинениях[207]. В славянофильских кругах России Ганка слыл крупным ученым и борцом за единение славян.
Второе сохранившееся письмо Хомякова к Ганке относится к 1859 году, когда русский ученый и поэт являлся председателем Общества любителей российской словесности при Московском университете. В связи с этим следует сказать несколько слов об обстановке, царившей в этой организации. Ее работа возобновилась после 20-летнего перерыва в 1858 году и проходила под знаменем славянофильства. Заседания Общества сопровождались всегда блестящими по форме и языку и славянофильскими по содержанию речами Хомякова.
Не менее блестящий и остроумный русский поэт Ф. И. Тютчев, тоже представитель лагеря славянофилов, описал в одном из своих писем заседание общества, прошедшее 27 апреля 1859 года.
Вчера у нас было публичное заседание Литературного Общества, недавно воскресшего после перерыва в 30 с лишним лет (Тютчев здесь ошибается. – Л. Л.); вспоминаю, что я когда-то – увы! – принадлежал к этому обществу как член-соревнователь. Вчера я принужден был занять место действительного члена за длинным столом, покрытым красным сукном; там я, как и другие, восседал в кротком величии, предоставленный любопытству благосклонных взоров многочисленной публики. Председатель общества Хомяков, во фраке на этот раз, скорчившись в кресле, представлял из себя забавнейшего из председателей, какого когда-либо видели. Он открыл заседание очень умной речью, написанной прекрасным языком на вечную тему относительно значения Москвы и Петербурга. <…> Я сидел между Шевыревым и Погодиным; на всем лежал отпечаток спокойной торжественности. Решительно Москва – архилитературный город, где очень, очень серьезно относятся ко всем тем произведениям, которые пишутся и читаются, но, как и следовало ожидать, господствует и управляет партия, – конечно, литературная партия, самая несносная из всяких. Мне было бы совершенно невозможно жить здесь, в этой среде, которая столь полна сама собой и не желает слышать никаких отголосков извне; так, например, я не убежден, что такое детское занятие, как вчерашнее заседание, не увлекает их гораздо более, чем все страшные события, которые подготовляются[208].
Письмо Тютчева свидетельствует о том, что и среди славянофилов не было единства взглядов по некоторым вопросам доктрины. Но Хомяков именно в качестве председателя Общества снова дал о себе знать западным славянам. 16 февраля 1859 года он писал Вацлаву Ганке:
В Москве в конце прошлого года возобновилось Общество любителей русской словесности. Нынешнего года в заседании 11 февраля было предложено приступить к выборам почетных заграничных членов. Я протестовал против слова «заграничных», потому что не признаю политических границ в области душевных сочувствий, а еще менее внутри славянского мира. Общество согласилось со мною. Затем, секретарь общества Михаил Александрович Максимович похитил у меня удовольствие предложить в наши почетные члены Вячеслава Вячеславича Ганку; но я с радостью простил ему это похищение, а общество, разумеется, единогласно приняло его предложение. – Как председатель пользуюсь своим правом известить Вас об избрании. Как человек, не только вполне ценящий Ваши заслуги, но и преданный Вам всею душою, пользуюсь случаем выразить радость, с которою я вижу имя Ваше в списке наших почетных членов. Поверьте, что оно столько же любимо в Москве, сколько в Праге. Ни в каком случае не мог бы я согласиться внести Вас в список как заграничного. Я знаю, что Вы нам пожелаете успехов так же искренно, как мы Вам во всем успеха желаем.[209]
Приведенный материал свидетельствует о том, что идеи А. С. Хомякова об объединении славян на той основе, которую он проповедовал, т. е. на платформе Православия, не находили широкого отклика у чехов. Сочувствовали им только единицы, в частности Вацлав Ганка, да и тот не в полном объеме разделял убеждения русского философа и поэта. Чешские сторонники «всеславянства» видели возможность объединения славян в духе колларовской теории славянской взаимности – без религиозного и политического объединения. Поэтому контакты русского ученого и с чешскими деятелями были скромны.
Следует отметить, что поэтические произведения Хомякова имели в Чехии некоторое распространение среди интеллигенции, владевшей русским языком. Хомяков был более привлекателен как поэт, чем как славянофильский мыслитель. Что касается перевода его стихов, то при жизни автора на чешском языке вышло только стихотворение «Орел».
И. Н. Юркин
«Лет за двести в глубь старины» (из новых разысканий о предках А. С. Хомякова)
Предки исторического или культурного деятеля – объект научного исследования достаточно тривиальный. Разработанный далеко не исчерпывающе, он вызывает тем не менее довольно умеренный энтузиазм. Яркие открытия на этом пути заранее не просматриваются – напротив, результаты подобных штудий еще прежде их получения ощущаются как нечто для большой науки в известной мере второстепенное и, учитывая заведомую тщетность попыток охватить необъятное, не обладающее правом претендовать на приоритетное к себе внимание.
Применительно к А. С. Хомякову исследование вопросов, связанных с его генеалогией, является важной составляющей изучения его личности и творчества. А. С. Хомяков был человеком, отчетливо и остро ощущавшим и ценившим свою связь с историческими корнями вообще и фамильными в частности. Личное родоведческое знание составляло важную часть его культурной вселенной. Укорененное в нем кровно, сердечно, оно питало его на протяжении всей жизни, а с уходом из земного мира оставило след в творчестве, в рисунке и логике событийных коллизий его биографии, но след часто невидимый, скрытый.
В созданном В. А. Кошелевым жизнеописании А. С. Хомякова приведены высказывания П. И. Бартенева, М. П. Погодина, П. А. Флоренского и других его современников и потомков. Вот некоторые наблюдения, сделанные П. И. Бартеневым: «Прo Хомякова можно сказать, что он был вполне крепок земле русской… Он принадлежал к старинному русскому дворянству. B доме их сохранились родовые рассказы, старинные вещи и бумаги из времен Елизаветы, Петра и царя Алексея Михайловича. <…> [Он] знал наперечет своих дедов лет за двести в глубь старины; Древняя Русь была для него не одним предметом отвлеченного изучения; напротив, всеми лучшими сторонами своими, трезвою, искреннею верою, неподдельным чувством народного братства и здравым смыслом она вся жила в его доме»[210].
Выявление наполнения родовой памяти – необходимый элемент постижения творческого «я». Ища дорогу к личности писателя и мыслителя, интерпретируя его творчество, важно знать, что питало и возбуждало его гений и музу. Особое значение таких разысканий подчеркивал П. А. Флоренский: «Важный вообще вопрос о родне в данном случае, когда речь идет об А. C. Хомякове, приобретает своеобразную значимость»[211].
Полный круг тульских Хомяковых, каким он сложился в екатерининское время, был уже рассмотрен конкретно на момент генерального межевания (вторая половина 1770-х годов), он существовал некоторое время и после его завершения[212]. Настоящий текст, хотя и посвящен более ранней эпохе, не ограничивается территорией Тульского уезда. Охарактеризовать более полусотни представителей фамилии, относящихся к XVI – XVII векам, невозможно, да и не нужно. Коснемся лишь нескольких сведений, достаточных для обоснования и раскрытия следующих наиболее значимых положений.