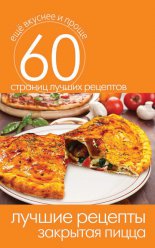Свингующие пары Лорченков Владимир
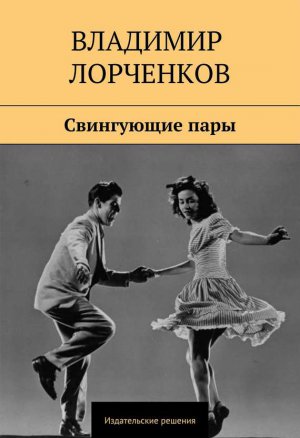
Кто это там смеется, резко сказала Алиса.
Прохожие, сказал я почти правду, недоумевая, почему с Алисой у меня всегда получалось только врать, даже если никакой необходимости в том нет.
Значит, та толстая сука, вернулась к главной теме утра Алиса.
С чего ты решила, сказал я.
Видишь ли, известия мелькают, словно крысы, с удовольствием напомнила она мне фразу из одной моей книги.
Одна из них пропищала мне, что у вас с Лидой не просто трах, а настоящий, чтоб его, Роман, сказала она.
Алиса, сказал я.
Который, я так понимаю, закономерно заканчивается семейной идиллией, сказала она.
Просто спи со мной, сказал я.
Это погубило мою жену, потому что она решила, что я сдаю назад, а она не умела брать пленных, совсем не умела. И Алиса, вместо того, чтобы принять мою почетную капитуляцию, решила добить. В результате, мне пришлось защищаться до последнего. И она проиграла.
Вы с ним тайком, за моей спиной, решили сколотить счастливый брак, а не такое говно, как у нас, да, сказала Алиса.
Прекрати, сказал я, она и понятия не имеет, да и замужем, дело вообще не в ней или в ком-то еще.
Кроме нас двоих, сказал я.
Дело только в нас двоих и это только наше и наше дело, сказал я.
Ну, то говно, в которое превратился наш брак, сказал я мстительно.
Она рассмеялась. Теперь был мой черед бить. Каждому из нас нужно было попрекнуть другого нашим неудавшимся браком так, будто от того, кто первым признает его крах, что-то зависит. Я тяжело дышал, у меня билось сердце, и я чувствовал себя очень и очень плохо.
Ты, мальчик, понятия не имеешь, с кем связался, сказала она.
Я тебя неплохо знаю, сказал я скромно.
Я говорю не о себе, а об этой проститутке толстой, сказала она.
Что ты без меня, сказал Алиса с презрением.
Возможно, сказал я, и с ужасом понимая, что мы стремительно расходимся без всякой надежды на то, что швы срастутся. Зная, что мне будет трудно так же, как больному, – претерпевшему ампутацию, – без правой руки. Я знал, что она права. Она вросла в мои легкие, как споры травы – в останки мертвеца.
Но я должен был положить конец всему этому.
Ну, а ее муж, как же, сказала вдруг Алиса.
С которым ты трахаешься, и не только на вечеринках, сказал я, и понял, что мой свинг достиг цели.
Это было такой редкостью и так неожиданно, что я от радости едва в пляс не пустился, хотя мне по-прежнему было нехорошо. Но я по молчанию Алисы понял, что попал, хотя запустил удар по самой сложной, невероятной, и длинной траектории. Это-то его и спасло. Будь он чуточку более предсказуемый, Алиса бы легко отбилась или ушла. Но свинг прошел. Я так радовался, что едва не забылся. Спохватившись, пошел на добивание.
Думаю, вы с ним разберетесь, что к чему, сказал я.
В конце концов, мы даже семьями дружить сможем, сказал я.
Не думаю, что он на мне женится, сказала Алиса, и сказала это неожиданно для меня жалобно.
Мне жаль, Алиса, сказал я.
Хорошо, сказала она.
Твоя взяла, а я устала, очень, очень устала, сказала она.
Так что я, если ты не против, прилягу, и выпью все снотворное, какое есть в доме, сказала она.
Я рассмеялся. Дракон предлагал мне отрубить все его головы еще раз. Но я хорошо знал, что от этого он лишь оживет. Я знал все сказочные уловки Алисы, все ловушки и мины, заложенные ее дырой. Она была набита ужасами, как рассказы братьев Гримм, и если бы я не оглядел внимательно с утра свою обувь, то уже плясал бы в раскаленных железных сапогах, набитых до отказа шипами и ядовитыми змеями. Одну, впрочем, я упустил и почувствовал жжение в пятке. Школьницы смотрели на меня с недоумением, и я понял, что приплясываю от боли.
Прекрати, резко сказал я в трубку.
Туман сгустился еще больше. Я почувствовал, что люблю Алису, но сейчас нуждаюсь в Лиде, в ее мягких ляжках, в ее норе. Мне нужно было, чтобы она дала мне себя сейчас, как большой кусок свежего, рыхлого мороженного, вываленного на тарелочку. Я хотел ее, как диабетик – сладкого. Думай о мохнатке Лиды, и Алиса не сможет очаровать тебя снова, велел я себе. Пизда, пизда, пизда. Лида, Лида, Лида. Случайно я вспомнил, что еще в ту пору, когда писал книги, какой-то малахольный – других там не держали, – критик упрекнул меня в чрезмерной любви к пизде. Бедный уродец.
Он называл меня пиздочетом, не понимая, как высоко превозносит.
Но, безо всякого на то желания и стремления, – как корова, случайно наступившая копытом на мягкую почву над залежью нефти, – он сделал великое открытие. А ведь я и есть пиздочет, понял я. Я читаю пизду, как шумерские мудрец – звездное небо. Я пытаюсь по расположению волосков на ней определить сегодняшнее настроение мира. Я хочу знать, что происходит в там, внутри, и черчу для себя ее карты. Я молюсь на пизду, я знаю о ней больше, чем любой другой человек в мире. Для меня очевидна связь между пиздой и урожаем, пиздой и неурожаем, пиздой и голодом, пиздой и стихийными бедствиями, пиздой и Нострадамусом, пиздой и нашествием гунном, пиздой и вашим характером, пиздой и будущим. Аристотель, поместивший в центр модели мира Землю, заблуждался. Коперник, поместивший в центр модели мира Солнце, ошибался. Прав только я.
В центре мира находится пизда.
Это великое открытие, и мне дадут за него Нобелевскую премию мира, знал я, оглядывая школьниц, и чувствуя непреодолимое желание взглянуть в глаза пизде каждой из них. Пизда, – как черная дыра, – родила весь этот мир, и она же его и поглотит. Все мы нелепые астронавты, маленькие человечки, плавающие в черной, как ночи, пизде, и любуясь ее фосфоресцирующими стенками. Самое красивое в пизде это ее блуждающие огоньки, которыми она притягивает ваше внимание, привлекает вас на свои скалы – как обманные огни береговых пиратов. Огни космоса ничто в сравнении с огнями пизды. Пизда Лиды, – сладкая, мягкая, податливая, – должна была поглотить меня с минуты на минуту, знал я, постепенно успокаиваясь, и начиная чувствовать себя все лучше.
Ведь я вышел из дому рано, чтобы встретиться с Лидой.
Этой ночью мы были приглашены с Алисой на свинг-вечеринку, но я знал, что нам с Лидой не удастся побыть вдвоем. Так что мы решили встретиться с утра. Вечером – знал я, – я вернусь и Алиса, холеная, и ухоженная, молча пойдет со мной в дом Диего. Чтобы там улыбнуться раз, другой, а потом рассмеяться и положить руку мне на плечо.
Потому что, когда нас окружали другие люди, Алиса превращалась в мою союзницу.
Она презирала меня, но и покровительствовала мне.
Нас связывали отношения римского сенатора и плебея.
…Квартиру на этот раз сняла Лида, и я с разбегу нырнул в ее пизду, едва лишь зашел. Даже обувь снимать пришлось на лету. Мы провели вместе весь день. Я спросил ее, звонила ли ей Алиса. Она ответила, что нет. Я спросил, звонила ли Алиса ее мужу, Диего – она ответила, что нет. Я мог бы проявить настойчивость, но мне было так хорошо в этой пизде. Я предпочел поверить. Если Алиса ни с кем не говорила, то оказалась в положении генерала в бункере с оборванной связью, генерала, который не в состоянии никому навредить, понял я. И окончательно расслабился.
А когда я вернулся домой, Алиса уже остыла.
Пришлось мне ехать на свинг-вечеринку самому.
***
…Следующая, стало быть, разохотилась. Раздвинула ноги, и схватила за загривок подружку. В это время какой-то полный чудак с волосатыми и кривыми ногами – он как будто специально выбрал себе такие карикатурные ноги в магазине «Карикатурные ноги» – совал ей в лицо. Да, и членом тоже, но куда охотнее – камерой. На ней горела красная лампочка, которая, – наряду с тусклым освещением в комнате, – создавала ощущение чего-то ирреального… космического корабля из научно-фантастических фильмов 60—хх годов. Да, сэр, мы расстреляем всех марсиан, сказал я себе про себя на английском, который принялся учить, чтобы бороться с депрессией – внезапно меня осенила мысль, что я все в жизни делал, чтобы одолеть депрессию, но последний раунд, уж как водится, остался за ней, – и принялся расстреливать тетушек, разлегшихся подо мной на кровати. Кажется, это были те самые две шлюшки, которых я трахал несколько вечеринок назад, подумал я. Одна из них недавно еще и родила.
Мы знакомы, сказала та, что наяривала лицом подруги у себя в промежности.
…молча поднял я брови, приступая к подружке.
Вы так смотрите, сказала она.
Ты, что ли, из тех, кого возбуждают церемонии, сказал я.
Схватил подругу за бедра. Бесцеремонно воткнул, и стал подбрасывать на руках. Какие у меня сильные руки, подумал я. Алиса обожала мои руки. Не только она. Лида говорила, что кончила впервые в жизни, лишь после того, как я пошурудил у нее между ног. Так и говорила – пошурудил. Само собой, это преисполнило меня гордости, и я стал шурудить между ног у всякой твари, которая меня только туда, – между ног, – пускала.
Обоже, сказала подружка, оторвавшись от промежности рожавшей толстухи, чтобы глотнуть воздуха, и выразить свое восхищение.
Точно, шлюшки, мы знакомы, сказал я, смеясь.
На свинг-вечеринках все стараются поиметь новеньких, и потому не очень охотно признаются, что уже бывали на подобного рода мероприятиях. Мои подружки рассмеялись. Было поздно их менять, знали они, на этот тур я оставался с ними, потому что слишком уж разохотился.
А где твоя жена, герой, сказала старшая, которая не так давно разбрызгивала дурное молоко роженицы по стенам.
Оставила меня в надежных руках, сказал я, чувствуя во рту горечь тлена, и мы снова рассмеялись.
Оператор приподнялся и дал в рот толстухе. Он хихикал. Поговаривали, что он снимал все эти вечеринки на протяжении десяти лет, а потом сделал пару фильмов, наложил на них звуковую дорожку на чешском языке, чтобы никому обидно не было – ни нам, ни чехам, пользовавшимся славой великих порнографов и свингеров, – и получил за это несколько порнографических «Оскаров». Правда это была или нет, я уже не узнал, потому что на свинг-вечеринки ходить со временем перестал. Вернее, перестану. По крайней мере, я дал себе слово перестать, обрабатывая костлявую задницу одной из двух прошмандовок, разлетевшихся подо мной на пружинящей кровати. Оператор сунул свою камеру чуть ли не в глотку толстухе и попросил проглотить все. Недолго же он держался, подумал я, глядя.
Как, – неожиданно для себя, – бурно и долго кончил.
…пока она, ворча, вытиралась, я встал, и, пошатываясь, вышел из комнаты. Толстуха провожала меня разочарованным взглядом, пока неудачник с карикатурными ногами возил по ее лицу членом свою сперму.
Улыбнись-ка в камеру детка и скажи ччииии… услышал я, закрыв дверь, и побрел куда-то в направлении ванной. Никак не мог запомнить, где в их доме ванная. Это в доме-то друзей. На минуту дух покинул меня, и взглянул на нас с высоты звездного неба.
Дом в новоанглийском стиле, дом, белеющий обглоданной костью на бугорке земли, над несколькими впадинами. И черное, – из-за ночи, – поле, усеянное странными садовыми фигурками. Пародия на острова Пасхи, внезапно понял я. И делает ли небо хоть какое-то различие между ними, этими островами, и нашими островами – холмами богом забытого Кишинева, один из которых битком набит голыми людьми, вернувшими вкус к жизни жаждой совокупляться.
Воткни в меня этот сра… услышал я из полуприкрытой двери, но окончание фразы уже осталось там, а я прошел мимо, накручивая на бедра белое полотенце, и стараясь не поскользнуться, на мокром полу. Люди сновали то в душ, то обратно, люди спускали друг на друга, все было в жидкости, в пару. Дом для свинг-вечеринок напоминал кухню огромного и шикарного ресторана, где множество людей в белом – здесь это простыни и полотенца, – суетятся и перекрикивают друг друга, с виду производя лишь вопли и толчею. На самом же деле это механизм. Был он и тут, работая неумолимо, – словно поршень, выкачивающий черную сперму из недр матушки Земли. Кто наспускал ее туда? Я все-таки поскользнулся, и едва не упал. Вдали рассмеялась хрипло какая-то потаскушка из разведенок, которая ходила сюда, потому что смелости начать брать за свою дыру денег ей так и не хватило. Кажется, Алиса рассказывала мне про нее.
Я зашел в душ, но это было ошибкой.
От горячей воды мое лицо стало гореть еще больше. Я постепенно перестал понимать, где нахожусь и что происходит, моя речь стала замедленной, и меня начали принимать за пьяного. Я улыбался и помахивал в ответ, пробираясь к выходу. Пьяные здесь были не редкость. Смелость, многим ее не хватало, и мужчины пытались преодолеть себя, разгоревшись парой-тройкой бокалов, а потом уже вкус вина становился слишком сильным для того, чтобы его перебил запах женщины.
Витавший здесь, – признаю, – как дух философского камня над ретортой алхимика.
Дом был пропитан вагиной, может быть, именно поэтому я его так и любил. Подумав об этом, я вывалился из дома на ступени, и побрел, поскользнувшись несколько раз на мраморе, на лужайку. Только там мне стало легче. Ранний ноябрь, трава была жесткой, потому что подмерзла, и хрустела у меня под ногами, пока я шел прочь, разгоряченный, укутанный паром, как дом – криками, – и я почувствовал, что курс мой выровнялся, и мой шаг стал четче. Я наткнулся на что-то, – это оказался садовый гномик, – и оперся на его голову. Подышал глубоко. Закрыл глаза, попытавшись представить себе, как будет выглядеть все это завтра. Дом, поле, лужайка, парк.
Ну и как это все вам видится, сказал мягкий голос за моей спиной.
Я даже не вздрогнул, хотя последнее время нервы у меня были на пределе пределов и вилка, случайно оброненная Алисой – случайно ли, часто думал я, – приводила меня в бешенство, а любую неожиданность я воспринимал, как пощечину от мироздания. Но у Диего была потрясающая особенность: даже будучи званым, он оставался жданым. Я трахал его жену уже несколько месяцев, – прошла половина года с тех пор, как мы начали посещать вечера в доме Диего и Лиды, – но он вряд ли знал об этом. Но был симпатичен мне даже не потому, что его жена была моей любовницей.
Он просто был мне симпатичен.
Хоть и подкладывал свою жену, – которую я любил, – под сотни проходящих через их дом мужчин, и растлил ее как следует – как и полагается всякому коренастому брюнету латинской культуры поступить с рослой, грудастой и глупой голубоглазой коровой из славянок, – и иногда бил ее, а несколько недель назад петух прокричал три раза через ее черный вход. Что символизировало. И означало всего лишь, что Диего трахнул жену и в зад. Признаю, я был уязвлен, когда узнал. Мне хотелось проскользнуть в эту нору первым. Что же, второе место я компенсировал пылом и напором. Интересно, где сейчас Лида, подумал я.
Интересно, где сейчас Алиса, сказал Диего.
Шарится, небось, по дому, в поисках бутылки-другой вина, сказал я. Или, сказал я, вдруг почувствовав холод на спине, я остывал, скорее всего, ушла, даже не захлопнув дверь, ищет сейчас себе юнца поиспорченней на одной из этих ужасных кишиневских дискотеках.
Наверняка, второе, сказал я уверенно.
Заставь себя поверить в это, сказало мне небо.
Что же, значит, она чудесно проводит время, сказал он, и, спросил – дань уважения своей культуре, кодексу поведения изысканных аргентинских мясников, – надеюсь вы, Владимир, также проводите его чудесно? Просто великолепно, ответил я столь же вежливо. Он молча протянул мне сигару, и не спрашивая, зажег спички. Я, хоть и не курил, старательно и послушно раскурил свою сигару, и все время, держа огонь в ладонях у моего лица, он смотрел мне в глаза.
Мы выпрямились и стали наслаждаться дорогим дымом.
Ну, и как оно вам, Влад, сказал он, описав рукой полукруг.
Он указывал мне на мой родной город так, словно был гостеприимный хозяин, предлагавший оценить свои владения. Предлагал мне Кишинев, словно тот был его женой, его дыркой. Я догадывался, что он порет Лиду, хотя она и не признавалась мне в этом. Пока еще не признавалась, подумал я со злорадством.
Видите ли, западноевропейская манера сокращать имена не совсем точна, сказал я с легким сожалением, которого в моем голосе было ровно столько, сколько я захотел его подпустить, То есть, никаких сожалений я не испытывал. Пора было проучить этого латиноамериканского содомита. Диего смотрел на меня молча, слегка приподняв брови. Он улыбался.
Влад это сокращенное произношение имени Владислав, то есть, тот, кто славится на весь мир, сказал я.
А Владимир это тот, кто владеет миром, сказал я.
…и вам куда приятнее владеть миром, чем быть известным в нем, продолжил он за меня своим мягким, чересчур обольстительным, излишне кинематографическим голосом.
Я молчал. Может быть, и так, едва было не сказал я. Но я молчал. Звезды горели так ярко, что я видел каждую из них, несмотря на свою легкую близорукость. В углу, подброшенной, – да почему-то повисшей в небе, – монетой, застыла Луна. Теперь пейзаж из черного стал белым.
Что скажет обо всем этом писатель, сказал Диего.
Я всегда избегал описаний природы, потому что это далеко не самая сильная сторона русских писателей, сказал я.
Вопреки какому-то странному заблуждению, мы не умеем видеть мир вне нас. Это роднит нас с евреями, которые всю свою жизнь проводят, свесив грустные носы в самих себя, и ковыряясь там, словно их Иегова другого места – кроме кишок и потрохов – себе и найти не сможет, сказал я.
Рассчет оправдался. Диего радостно рассмеялся. Как и все латиноамериканские дипломаты, он был немножечко антисемит, что не мешало переправлять им евреев на свой континент, чтобы спасти их от Гитлера. А потом тех, кто работал на Гитлера – чтобы спасти их от евреев. Глядя на Диего, я все больше и больше понимал римлян, и почему они предпочли не упорствовать. Сдались так рано.
И все же, сказал он радостно.
Я огляделся. Пейзаж был неживым, но все дело было в освещении. Так что я закрыл глаза, и попытался представить завтрашний день. В небе, прозрачном до ломкости, плавают редкие паутинки. На траве, размякшей от резкой смены ночного мороза и дневной теплоты, видны капли воды. Деревья теряют листья в ритме последних раундов…
Как это, сказал Диего, и я объяснил.
Это уже не редкие джеббы и свинги, которыми вы прощупываете друг друга поначалу, и не уверенные мощные удары, предназначенные для разгара боя. Ударов много. Но они суетливые, бестолковые. Из последних сил, но очень частые – лишь бы успеть, лишь бы успеть, – удары, которыми бойцы обмениваются в конце последнего раунда. Так и деревья в ноябре. Листья падают с них беспрестанно. Чтобы и на Земле не найти покоя, и носиться туда, сюда. Хотя бы и перед этим белым домом в новоанглийском доме.
Так все и есть, сказал Диего.
В любом случае, природа не самая сильная сторона русских, сказал я. Они ее покоряют. Англосаксы, – Диего фыркнул, но я упрямо продолжил, ломая его природную неприязнь жителя Латинского континента к проклятым гринго, – так вот, англосаксы, они умеют принять величие и мощь мира и природы со смирением протестанта. Если русский пишет о природе, то у него получается изложение на тему «как я провел лето», – Диего снова рассмеялся, – а если американский писатель в двух словах набросает пейзаж, то получится у него «Девятый вал» Айвазовского. Даже если он, писатель, расскажет вам о заплеванной лужайке перед вашим домом.
Судя по тому, как вы это говорите, вы считаете американских писателей куда более способными, сказал Диего, и я кивнул.
Ну что же, тогда у меня для вас отличные новости, амиго, сказал он с нарочитой издевкой, а как иначе можно было расценить это штампованное «амиго», оцарапавшее мой слух.
Судя по тому, как вы мне все тут описали, вы и есть американский писатель, сказал он. И развил тему, хотя я начал мерзнуть, и скучать по горячему душу. Бывает, что человек родился не в своем месте, не в свое время. Если со временем ничего поделать нельзя, то с местом все исправимо. Почему бы мне не поехать в Америку? Начать можно с Латинской, сказал он обольстительно. Ну, чтобы не нахвататься сразу же, и не получить несварение желудка.
Американское несварение желудка, сказал он, и расхохотался.
Теперь он вел себя как карикатурный консул банановой латиноамериканской республики. Как их описывал О Генри. Это было совсем уж явной издевкой – похлеще «амиго», – потому что Диего представлял страну второго, в общем-то, мира, в банановой восточноевропейской республике. Не хватало еще, чтобы он начал умолять меня не присылать дредноуты, подумал я с улыбкой. А Диего продолжал.
Нет, все-таки, сказал он, подумайте хорошенько над этим.
Для меня эта услуга, она ничто, пустяк, nada, сказал он. Парочка ерундовых документов, которые оформят, с учетом исключительных обстоятельств – правительство каждой страны мечтает заполучить себе писателя с именем, пусть даже с умеренном известным, – за несколько дней. А жизнь там вовсе не дорога, можно сказать, куда как дешевле, чем в Молдавии. Тут все дорого, одна аренда дома сколько стоит! Пусть даже половину оплачивает правительство, ему приходится доплачивать.
В Америке вы займете свое место, сказал он.
Мне будет приятно доставить вам удовольствие, сказал он.
Вам, и Алисе, сказал он.
Само собой, сказал я, и мы глянули друг на друга осторожно. Итак, он знал имя моей жены. Судя по всему, он предлагал мне обмен, я так понял. Цивилизованный обмен женами. Естественное продолжение свинга. Вы берете жену А, и взамен получаете жену В. От перемены мест слагаемых сумма не меняется, или как оно там. Русские писатели слабы еще и в математике.
А вы… сказал я.
О, мы с Лидой уже подумываем над тем, чтобы вернуться на родину, сказал он с облегчением, потому что я не закатил скандала, получив пробный шар. Добавив, с выделением, – МОЮ родину.
И мы бы с удовольствием стали вашими друзьями в Америке, сказал он.
Так что я предлагаю вам для начала стать нашими друзьями тут, в Молдавии, сказал он.
Я затянулся и подержал дым во рту. Молчанием мы подписали меморандум о намерениях. Сделка была идеальной. К сожалению, я выступал, как недобросовестный бизнесмен. Что, кстати, вовсе меня не удивило. Будучи самозванцем по какому-то природному устройству, я всегда выдавал себя не за того, кем был. Всегда играл мечеными. Так уж получалось, я не старался особо. И на этот раз я не изменил себе. Ведь для того, чтобы провернуть эту сделку, я должен был расстаться с одним из активов, с Алисой. За это я приобрел бы Лиду.
Но я хотел получить все.
Приходите к нам завтра с Лидой, сказал я, и почувствовал, как теперь уже он замер, услышав от меня имя своей жены.
Мы и правда рады будем дружить семьями, сказал я.
Итак, завтра вечером, сказал он, и я не услышал в его голосе просьбы.
Возможно, мы начнем новую эру в отношениях, сказал он вкрадчиво, с упором на «новую».
Я кивнул, затянулся, и не чувствуя дыма, замер.
Не стоит держать это в себе, сказал Диего.
Подумайте над этим, сказал Диего, и пошел в дом.
Я не был уверен, что он говорит о сигарах.
***
…После ужасающего лета наступил сентябрь спиртного, странной, дешевой музыки – помню, мне особенно приглянулась русская группа «Обе две», что ужасно бесило Алису, подозревавшую, что мне приглянулась солистка, и она, Алиса, была права, – сентябрь истерик, и алкоголя. Уже говорил. Ладно, это был сентябрь алкоголя в квадрате. Будто какой-то странный задумчивый Пифагор с бутылкой опрокинул наш стол, и над нами с Алисой закружились листья, до сих пор лежавшие перед нами аккуратными стопками фишек из казино. Осени мы проиграли себя. Но я был куда азартнее, и, – как все, кто знает толк в проматывании себя, – проигрался в гораздо более короткие сроки, чем Алиса. Может, поэтому и стал пить, да не просто пить, а Пить.
Спиртного было столько, что Алиса не выдержала и завязала.
А я продолжил. Она застыла, балансируя над пропастью, изящно помахивая руками, как гимнастка из моего детства. Та шла по наклонному канату, но сила притяжения – может быть, под сценой цирка она закопала перед выступлением бутылку виски, а может, давно убитого любовника, который уже разложился к моменту аплодисментов, совсем как моя дорогая Алиса, но я вновь и вновь забегаю вперед, – тянула ее вниз. Словно порноактер подружку – за волосы, во время съемок. Алисе очень нравился этот дешевый трюк. Им всем нравится. Просто возьмите за волосы и тяните к себе, обрабатывая сзади. Гимнастка все-таки упала. Но это случилось в другое выступление, я там не был. Об этом случае писали в газетах. Упала не только она, но и вся их семья – циркачи по части семейственности и клановости дадут фору молдавским политикам или сербским цыганам, – перемешалась окровавленной окрошкой на опилках. Должно быть, решили сфорсить, и обойтись без страховки. Мы с Алисой смеялись над ними, как вообще над всеми, кто пытается придать себе шаткое чувство уверенности, зацепив на спину кусок лески. К чему ты, мать твою, крепить ее будешь, спрашивала насмешливо Алиса, прогуливаясь по краю нашей крыши, выходившей прямо в парк. И хоть дом не очень высокий, – метров двадцати, – сердце у меня сжималось каждый раз, когда она насмешливо ставила ногу за край. Она топтала поверженную невесомость и мой страх высоты. Иногда ей не удавалось сохранить равновесие без видимых усилий, и тогда она делала изящное движение руками: что-то вроде всплеска, и застывала богомолом, застывала балериной Андерсена, в то время как я – верный оловянный солдат, – плавился ужасом высоты, отвернувшись. Почему я делал это? Почему отворачивался?
Может быть, мне иногда хотелось, повернувшись обратно, увидеть, что на крыше пусто и она упала.
Однажды я поделился с ней этим.
Она как раз лежала на крыше, полуголая, и тянула вино, которое мы только успевали охлаждать к вечеру в холодильнике, забитом бутылками. Был июль, она еще пила. Ну, что тебя мучает, говорила она мне своим видом, расскажи мне.
Может, мне хочется убедиться, что я чист, сказал я.
Может, мне хочется отвернуться, а потом снова взглянуть на крышу, и увидеть, что тебя там нет, сказал я.
Что ты упала, и тебя больше нет, сказал я.
Понимаю, милый, сказала она.
Эти бракоразводные процессы, они такие дорогие, сказала она.
И хотя нам нечего было делить, я знал, что она устроит из развода концерт, триумф императора, вводящего в Рим колонны диковинных животных, бои без правил, ток-шоу. Алиса, без сомнения, сделала бы мне дырку в животе, и аккуратно вытащив оттуда кончик моей двенадцатиперстной кишки, наматывала бы на палочку по сантиметру в сутки. Развод убил бы меня. Кроме того, она бы ни за что не пошла на мировую. Все наше имущество было ее, но Алисе бы и в голову не пришло мне оставить хоть что-то, хотя бы просто потому, что все заработал я.
Ну и что, ну и что, милый, говорила она.
Улыбалась, и всплескивала руками, покачиваясь над краем крыши. Она обожала меня пугать, зная, что у меня панический страх высоты, и сотня дипломированных психологов города ничего с этим поделать не могла. Сначала они решили, что я видел, как мой папенька сбросил с балкона мою маменьку, и ужасно огорчились, когда узнали, что оба моих родителя здравствуют и проживают спокойную старость в доме под Кишиневом. Одноэтажном. Потом им казалось, что я пытался столкнуть кого-то с лестницы. Насмешки в школе, боязнь старости, что-то фаллическое. Наконец, они прекратили.
…Алису все это, – все мои страхи, – раздражало. Ей всегда казалось, что если у вас проблемы, то лишь потому, что вы трус, дезертир и симулянт.
Ну, что ты придуриваешься, говорила она.
Ну взгляни на меня, говорила она.
Смотри, я на краю, и мне не страшно, говорила она.
Значит и тебе не должно быть страшно, говорила она.
Ты, УРОД, говорила она.
Но я не находил в себе сил повернуться к ней. Лишь когда она отходила от края я, – с дрожью в пальцах, сердцебиением загнанной лисой под снег мыши, и мокрыми ладонями, – мог бросить взгляд на крышу, куда выходили наши мансардные окна. И именно в этот-то момент она делала быстрый шаг к кромке, и, – встав на одну ногу, – застывала на краю, как журавль с миниатюры, всплеснув перед тем руками. И я чувствовал, что это моя голова кружится, и я лечу, и куда-то падаю. Но именно-то в момент падения я успокаивался. Потому что, – в отличие от дипломированных психоаналитиков, – я-то знал, в чем дело.
На самом-то деле я боялся глубины, а не высоты.
Просто она и была глубиной, и цветы клумбы у нашего дома на десять квартир – верхняя прослойка среднего класса, – развевались в утреннем ветерке для меня водорослями, колышимыми подводными течениями. Я боялся глубины, поэтому никогда не мог взглянуть вниз, неважно, откуда. Так что, открывая бутылку, – зажав между колен, и вытаскивая пробку с застрявшим в ней штопором, – я зажмуривал глаза, и прекрасно научился справляться на ощупь. Началось все летом, но вы не начинаете пить сразу, вам необходим разогрев, как боксерам перед боем. Все июль и август я разминался. В сентябре я вступил на мат. И мы затанцевали. Только вот Алиса, решив, что с нее достаточно, сделала резкий шаг в сторону и бросила пить. Чересчур резкий.
Вот она и упала.
А я на полном пару – как мрачный, черный поезд из кинохроник про Вторую Мировую войну, поезд, который взорвали, – понесся под откос. В искрах, дыме, чаде, аде, и проклятиях. Полетел без сожалений и рефлексий, потому что поезд это машина, а машины не знают чувств и не умеют грустить. Я был кусок железа, который разогрели углем и разогнали до бешеной скорости. А потом не остановили и он продолжил путь по прежней траектории. Но вот рельсов на этом пути больше не было. Так что я несся и летел, уничтожая все на своем пути. В первую очередь, наш брак, который и так уже на ладан дышал, если бы у него были легкие. Но их у него не было. Еще у нашего брака не было сердца, печени и куска селезенки, а уж про поджелудочную я и не говорю. Все это было поражено метастазами и все это мы вырезали ему, чтобы спасти хоть что-то. Мы победили, но в результате множества операций он лишился доброй части себя, наш брак. Мы не развелись, хотя переживали очень серьезный – как я врал всем, хотя речь шла о страшном, кошмарном, самом продолжительном и невыносимом, ужасном, невероятно гибельном… – кризис отношений. Крах брака.
Развод был нам невыгоден во всех смыслах.
Я знал, что она не отпустит меня спокойно, и, – хотя ей плевать на деньги, – она из меня всю душу вынет из-за оскорбленного самолюбия. Она знала, что я не отпущу ее спокойно, потому что она приросла ко мне, навсегда деформировав. Моя жена была как омела, – старинный куст друидов, – который сначала паразитирует на вас, а потом становится частью вас. И вы уже не можете отказаться от него, не лишившись части себя. Может быть, именно поэтому я и запил в то лето, – поначалу с ней, – чтобы привести себя к гибели и погибнуть вместе с приросшим ко мне кустом омелы. Может быть, это подсознание, – этот великий океан прошлого, который плещется в голове, – велел мне уйти на берег… Выброситься на мель, как больному киту, и умереть. И тем самым спасти других китов. Ведь, без сомнения, моя жена выбраковывала мужские особи млекопитающих. Жить с ней было все равно, что проглотить портативную атомную бомбу доктора Зло из фильма про Джеймса Бонда. Разница была лишь в том, что Бонду удается выжить, а мне следовало просто прыгнуть в шахту поглубже и на лету – на глубине, озаренной всполохами адских огней, – взорваться. Убить себя и жену, чтобы спасти планету. Ну и так как убить жену у меня тоже никак не получилось – вернее, я так хотел этого, что мне страшно было смотреть на нее в момент когда это легче всего было осуществить, – я решил погубить себя. И все это, когда Алиса еще пила вино, и стояла на краю крыши, оттеняемая серебристой листвой тополей, забрасывавших нас своим пухом в особенно жаркие дни.
Трусишка зайка серенький, говорила Алиса, поджимая ногу.
О чем это ты, говорил я.
Она молча смотрела мне в глаза.
Ты знаешь, о чем это я, говорила она молча.
Я знаю, о чем это ты, молча отворачивался я.
Мы знаем, о чем это мы, думали мы оба.
И грусть на некоторую долю секунды повисала над нашей крышей. Словно облачко Зевса, из которого вот-вот должны были посыпаться золотые монеты. Только вместо денег он осыпал нас тоской, педераст проклятый. И от грусти мне становилось так плохо, что я отворачивался от окна, и спускался по лестнице на первый этаж квартиры, чтобы заглянуть в холодильник, взять еще льда и вернуться наверх, втайне ожидая никого не найти на крыше. Но она была там. И улыбалась мне торжествующе. Зачем мы вместе, если наш брак потерпел крах, часто думал я. Мы сумели спасти его титаническими усилиями – чуть ли не барбитураты по расписанию пили, и рисовали в альбомах цветочки и человечков, и всякие другие фокусы семейных психологов проделывали, – но это уже был не он. Разница между нашей любовью и тем, что мы сохранили была как между рослым гвардейцем из Санкт-Петербурга, отправившимся на поля Пруссии в 14—м году, и безногим калекой, оставшимся от него в 17—м году. В госпитале, где революционные матросы и педерасты пьют спирт и проклинают гвардию.
Разумеется, я думал о том, чтобы убить свою жену.
Более того.
Я планировал убийство своей жены.
Это было проще простого. Все наши знакомые знали, что я боюсь высоты и к раскрытому окну или краю крыши ближе чем на два метра не подойду. Все они знали, что меня от высоты бросает в пот, по-настоящему, такие вещи не симулируешь. Все в это верили, кроме моей жены, которую я решил убить. Тем хуже для нее.
Это было бы идеально чистое убийство.
Все знали, что она обожает дразнить меня, становясь у края крыши, и балансируя между ней и пустотой. Все знали, что изредка она теряет равновесие и тогда покачивается, всплескивая руками, чтобы, – как она говорит, – вернуть баланс. Все знали, что мы пьем. Так что никто особо бы не удивился, если бы в один день Алиса просто не сумела вернуть себе баланс и упала с крыши. Все что мне для этого нужно было сделать – преодолеть свой страх глубины, который я старательно выдавал за страх высоты, – и слегка толкнуть жену. Вот и все. Никаких следов. Никакой борьбы. Никаких улик. Единственное, мне стоило бы сделать это вечером, – когда темнеет, – чтобы какой-нибудь случайный свидетель из соседских домов не решил вдруг восстановить пошатнувшуюся справедливость мира. Но и на этот случай у меня был отличный вариант. Когда она была не на крыше, а на кухне, Алиса часто становилась к раскрытому окну, перевешиваясь через него. Ей всегда было любопытно, что происходит там, в пучинах вод. Вот и все. Убить жену было проще простого.
Почему же я не сделал этого?
Все дело в малодушии и усталости, понимал я. Я бы не выдержал полиции, серой, старой штукатурки, пропитанной запахом пота мелких карманников, туберкулезных рецидивистов, дешевой краски и хлорки из ведер с водой для уборки полов. Разумеется, они бы не сумели мне ничего сделать и ничего доказать. Но месяц-два в закрытом помещении, да еще и таком, свел бы меня с ума, я знал это. Вся эта суета с дознанием, оправданием, адвокатами, камерой, все это не дало бы мне ни малейшего шанса остаться хотя бы таким, каков я есть. Так что я продолжал отворачиваться от моей жены, когда она становилась на край крыши. Только сейчас я понял, кто она была.
Тореадор, танцевавший танец смерти для своего быка.
А я, нелепое разъяренное животное, самонадеянно представлял себя хищником, а ее – жертвой. Воображал себя властителем арены. Хотя, кто знает, может быть, именно она ждала меня. Может, ей хотелось, чтобы я подскочил и бросился к ней, чтобы – в последний момент, – сделать изящный оборот, и проводить взглядом падающий вниз кусок раскаленного мяса? И она просто звала меня, манила, соблазняла? В таком случае, я был приговоренный смертник, а она – палач, который ждал свою жертву.
В любом случае я был смертник и знал это.
Эту осень мне не пережить, думал я. И, словно устав ждать – свою последнюю любовницу, – я заклинал ее выйти мне навстречу и увлечь на безмолвное ложе, в мою последнюю постель, яму, в которой я трахнусь в последний раз. В мою могилу, где я овладею смертью, а она оседлает меня и, под аплодисменты собравшихся, нас с ней – разгоряченных, стонущих, – покроют одеялом земли. Последнее, что они увидят, будут мои руки, вцепившиеся в ее полный, белый, горячечный зад. Смерть вовсе не костлява. Она красива, как только красива может быть последняя женщина.
Давай ну давай же, рычал я выбравшись на крышу нашего с Алисой дома.
Давай сука, размахивался я.
Моя сперма польется у тебя изо рта сука, кричал я.
Она все не приходила, хотя я встречал знаки на каждом углу. Завядший раньше времени лист, опавшая в сентябре береза – а ведь ее время в ноябре – статья про рак, выскочившая ни с того ни с сего на экране ноут-бука. Смерть говорила мне – Я ИДУ.
И у меня не было причин не верить ей. Ни одной. Так что я верил, но она, сука, вечная женщина, не шла. И ожидание свело меня с ума. Хоть я и звал смерть, весь в поту, на полу, где мы с Алисой спали потому что она решила сохранить свою спину, свою молодость, свою осиную талию, свою осанку. Я не делился с ней, но она чувствовала запах смерти, запах разложения, шедший от меня – страх жил в моих порах, он растягивал мою кожу в гримасах ужаса. Жена смотрел на меня с ужасом. О, да! Обычно за ужас в нашей паре отвечала она, но в ту осень я переплюнул Алису. И так напугал что она перестала пить. Ей, бедняжке, казалось, что если она сойдет с пути, то это спасет ее. Бедная Алиса. Бедная моя голубка. Бедная красотка. В мужчину нужно верить, как верили в Иисуса шлюхи, разведенки и падкие на передок вдовы. Слепо. Если, конечно, речь идет о твоем мужчине, а я был мужчиной Алисы. Но она умыла руки и предала меня. Хотя и пыталась помочь
Ведь она любила меня.
Что это, мать твою, с тобой, кричала она, когда во время одного, особенно сильного, приступа, я вылез на крышу, и стал звать смерть, чтобы сразиться, наконец.
Что это МАТЬ ТВОЮ!!! – кричала она, утаскивая меня с крыши.
Я не отвечал, а лишь пытался достать Смерть – черноволосую, белозадую блядь в капюшоне по самые глаза, – классическим ударом свинг. Таким же старомодным, нелепым и трогательным, как и я сам. Последний настоящий писатель, вот кто я был, и вот кем себя чувствовал, отбиваясь осенью от Смерти, вызвавшей меня на поединок на крыше. О, места бы нам хватило! Я пытался достать ее свингами, потому что о них нынче все забыли – удар с дальней дистанции, недостаточно быстрый, но достаточно изощренный, для того, чтобы достать соперника, который слишком уверен в себе. Одно «но». Если это достаточно опытный соперник, свинг погубит тебя, и, говоря иносказательно, ты вышибешь мозги сам себе. Но хороший соперник нынче такая редкость, шептал я над книгами в своей библиотеке, который мне и перечитывать-то лень стало. Когда сравнялся с лучшими, еда теряет вкус, а вино – крепость.
Мне не к чему было больше стремиться, и я закружился со Смертью.
***
…Последние два года брака наш дом населяли привидения, призраки бешенных псов с красными глазами и молчаливых, окровавленных детей, вырезанных горскими кланами в беспощадной борьбе за люцерну, вереск и пшено. Если бы у меня был килт, я бы в нем щеголял. За столом мы сидели, как разорившийся шотландский лорд и его сварливая жена – пара, потерявшая все, и лишь перебрасывались оскорбительными репликами да изредка просил передать друг другу соль.
Передай мне пожалуйста соль, говорила она.
И голос жены звучал в моем сердце пустыней, гулкой пустыней песков, сметенных в кучу гигантской метлой яростного Сета. Красноглазого, рыжего Сета. Ах ты, ублюдок. Я поднимал свои слезящиеся глаза от прибора, и на другом конце стола – огромного, массивного, она искала его полгода, – окруженного стульями из гарнитура, выжидавшими, черными, покорными, словно обступившие нас слуги, – видел Алису. Она, конечно, глядела в сторону.
Прости что ты сказала, говорил я.
Соль, говорила она.
Передай мне соль, говорила она.
Лорд и его супруга отрабатывали только первую реплику. Даже в дело вступали все портовые шлюхи и кабатчики Глазго. Причем нередко я выступал за шлюху, а она – за кабатчика. Мы бранились, перекатывая по столу слова, от которых обычный брак рассыпался бы неловко собранным детским домиком. Дом без фундамента, мука без клейковины, бетон без цемента. Вот кто мы были, и я каждый день оплакивал нас, не решаясь надеть на себя траурные одежды. Она, я знаю, поступала так же.
Может быть, обратишь хоть раз на меня внимание, говорила она.
В свободное от бутылки время, конечно, говорила она.
Может, все-таки даже мне почувствовать, что напротив меня сидит человек, говорила она.
Живой человек, добавляла она многозначительно.
Я вставал, сгибал руку, клал на сгиб полотенце, и подавал ей соль. Она не смеялась и вообще не находила мои шутки смешными. Может быть потому, что я перестал шутить. Как-то, неловко оцарапав себя вилкой, я попросил соль, – тоже несколько раз, ведь как и я ее, она не замечала меня и была где-то далеко, – и посыпал царапину. Соль сразу же покраснела. Алиса сказала что-то нелицеприятное о моей привычке сыпать раны солью, вместо того, чтобы обратиться к аптечке. Ее, Алиса, – конечно же, – тщательно собрала, и поместила в специальный сундучок, который, – конечно же, – долго искала, и был он, – конечно же – под цвет встроенной кухни, которую Алиса подыскивала столько, что мне и говорить об этом не хочется. Она все делала основательно. Может быть, это нас и сгубило, думал я, меланхолично посасывая палец, из которого все еще сочилась кровь.
Может быть, все дело в том, что у нас нет детей.
По крайней мере, те наши знакомые и друзья, которых еще не распугал бешеный темперамент Алисы и моя страсть к алкоголю, которой я гасил свой, – да и ее, – темперамент, искренне полагали, что все дело в детях. Как будто ребенок это пластырь, который может оттянуть из вас гной. И хотя мы когда-то очень хотели детей, и Алиса все еще могла забеременеть, я знал, что вот уже несколько лет она избегает этого. Потому что мы, очевидно, перегорели. И понимали – случилось это, мы просто отложим агонию на два десятка лет. После чего, отправив в одно прекрасное утро сына – а может быть дочь? – в университет, мы помашем рукой заднему стеклу удаляющегося автомобиля, вернемся в дом и найдем там себя 30—летних, отчаявшихся, уставших.
Ненавидящих друг друга.
Оставалось лишь развестись. Но этого сделать мы, по причинам, о которых я уже упоминал, не могли. Еще один выход – убить Алису, – не казался мне выходом из-за малодушия. Конечно, я боялся не смерти, которой желал. И не наказания, которого бы легко избегнул. И не совести, точное определение которой не могу дать по сию пору.
Я боялся той борьбы, которой потребует меня вся эта заваруха.
Вернее, страшился потратить силы, которых потребовала бы эта борьба.
Но я понимал, что схватка неизбежна. В том или ином виде. Или мы разведемся или я убью жену. Больше вариантов у меня нет. У нее, кстати, тоже, так что я время от времени ловил заинтересованные взгляды Алисы, которые она на меня бросала. Это не возврат интереса ко мне, знал я. Она просто жаждет разрыва, в той или иной его форме. И, как и я, готовится к борьбе.
Налей мне еще вина, пожалуйста, говорила она.
Не трогай еду пальцем, говорила она.