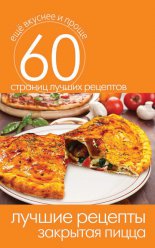Свингующие пары Лорченков Владимир
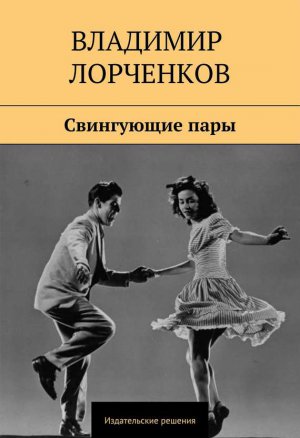
Я буквально сканировал ее. Пялился, как хулиган. Если бы Лида была покрыта пыльцой, я бы собрал ее, аккуратно стряхивая каждую частицу себе в рот. Старательно вылизал бы каждый участок кожи. Да я чуть позже так и сделал. Я глядел на шею под волосами, – покорно согнутую шею, как если бы она подставляла ее под топор палача, – и знал, что увижу Лиду такой уже через каких-то несколько минут, потому что квартиру мы на этот раз сняли совсем недалеко от их с Диего дома. Она почувствовала мой взгляд, обернулась. Я продолжал смотреть. На ней были колготки телесного цвета, простые, скромные туфли, в руках она держала сумку – модной сейчас ручной работы, – и я попытался представить, что там внутри. Скользнул взглядом по ногам, снова по лицу. Крупный, но правильной формы, нос, полные губы. Большая грудь, сейчас совсем не видная – она вываливалась мне в руки, лишь когда Лида раздевалась и снимала с себя пелену бюстгалтеров, саваны белья.
…Она молча надела сумку на плечо, и пошла.
Чуть подождав, я пошел вслед за ней. Мы шли несколько минут, после чего поменялись – автоматчик и снайпер, вечная «двойка», и повел уже я, потому что она еще не бывала в этой квартире – и то ускорял, то замедлял шаг, прислушиваясь к шагам сзади. Это не был стук каблуков, я вспомнил, как называется такая обувь – «лодочки», – ведь она была одета очень просто и скромно. Я шел на свидание с верной женой. Поглядывая на нее время от времени, уже на подходе к дому, я ревниво представлял себе, сколько раз она так шла куда-то. Еще не жена, еще, может быть, студентка, она шла не в университет, а…
Набрав код, я придержал дверь, не оглядываясь, и мы, – уже рука об руку, – поднялись к лифту.
Там, уже держась за руки, дождались, пока распахнутся двери, и на нас хлынет свет из коробки, поднимающей нас под самую крышу. Двенадцатый этаж.
Двенадцатый этаж, сказал я, и понял, что мой голос звучит чуть хрипло.
Знакомых не видел, сказала она.
Вроде бы, нет, сказал я, вновь поражаясь обыденности наших с ней разговоров.
Глупо было снимать квартиру тут, нужно было на окраине, сказала она.
Да, зато потеряем во времени, сказал я.
Верно, сказала она.
В свете лифта она выглядела старше, хотя ей было всего 25. Отпраздновав свои 33, которые я предпочел провести в уединении в доме за городом, чтобы избавить себя от идиотских сравнений и параллелей, я отечески посмеивался над возрастом Лиды. Гребанный педофил Диего! Я улыбнулся, поняв, что ревную – взял любовницу за подбородок, приподнял. Поцеловал легонько в нос. Отпрянул – снова раскрывались двери лифта. На площадке никого не было, так что я снова поцеловал ее легонько – словно извиняясь за малодушие, – и пошел к двери. Открыл, пропустил вперед, и закрыл дверь. И только после этого почувствовал себя спокойно. Разуваясь, посмотрел на свое лицо в зеркале в прихожей, – ну вот, начались зеркала, и услышал, как она ступает мягко по полу в комнате, что-то говорит, – переспросил.
Что, сказал я.
И тут зеркало, но на потолке, сказала она.
Рим, эпоха разврата, сказал я.
Вымыл руки, вернулся, вытираясь полотенцем, и увидел, как она залезла на кровать – двуспальную, приложение к зеркалу, – и глядит наверх, в зеркало. Подошел, обнял, и стал снимать юбку.
Что ты там щуришься, сказала она.
Давай перескажу дословно, сказала она.
Я еще справляюсь, сказал я.
После юбки стянул колготки, опрокинул Лиду на кровать, и сам разделся.
…Она задрала ноги высоко, и, спрятав голову у меня на груди, стала облизывать ее, пока я тихонечко качался, словно на водяном матрасе. Что странно – меня не раздражала легкая полнота Лиды, вернее, намек на нее. Мне было мягко, очень мягко, словно перина матушки Зимы распростерлась подо мной, и я лежал на Лиде, как на самой мягкой подушке из тех, что взбила старуха Евдоха: и я чувствовал себя воздушным котом, что покоится на облаках из взбитых сливок. Она молча слюнявила мне грудь, а я поглядывал на зеркало сбоку. Мы не торопились, времени было полно: она тоже не взяла машину, это значило, что в обед я смогу выйти, и, короткими перебежками русского омоновца в Грозном 94—го, добраться до супермаркета поблизости. Там купить чего-то поесть и шампанского. Мы его оба любили. Холодное, колючее, оно делало все таким, как должно быть – прозрачным, чистым, и настоящим. Я пил его, как победитель – воду после забега. Лида – губила маленькими глоточками, лакала, как кошка. Попьет, и снова задумается. Я не теребил ее.
Я не ждал, что она что-нибудь скажет.
Моя любовница была глуповата.
Мы почти никогда не разговаривали. Нам это и не было нужно. С тех пор, как мы познакомились в доме новоанглийского стиля, – над Ботаническим садом, – где я наблюдал за ней, а она за мной, мы не больше чем десятком фраз перебросились. Она с любовью и уважением относилась к мужу. Я предпочитал не говорить о том, как отношусь к жене. Мы просто сошлись на том, что нам – каждому по своим причинам – необходим адюльтер. Это было выгодное сотрудничество. Причем, разумеется, речь шла не только о сексе, хотя и секс был хорош. Просто ей понадобилось Изменить. Как, наверное, и мне. Так что мы молча встречались где-то в городе, после чего я вел, или она меня, – в зависимости от того, кто снимал на этот раз квартиру, – и заходили в подъезд, где брали друг друга за руку, если людей в подъезде не было, или ждали, когда лифт привезет нас наверх, – потому что предпочитали квартиры под крышей, – и заходили внутрь. Где, словно нехотя, оказывались у кровати.
Как будто в ней магнит был, а мы – напичканы железом.
На кровати я обычно сдирал с Лиды юбку, и становился перед ней, а она, сидя – в колготках, – сосала меня, – стаскивая джинсы. Мне нравилось, как она берет в рот, и придерживает меня рукой снизу. Не цепляется, не сжимает, а держит.
Как жрица – чашу со священным вином.
Ладонью вверх, бережно, на уровне своего лица. Так жены фараонов принимали ладонями Солнце. Лида принимала луч моего члена, как божество, и обсасывала его: мягко, глубоко, долго. После того, – придирчиво оглядев, – она занималась, наконец, собой. Стягивала колготки – вместе с бельем – и задирала ноги, притягивала меня к себе. Чаще всего мы делали это в миссионерской позе, хотя сначала, конечно, я продемонстрировал все навыки и умения. Но мы отказались от этого уже со следующего свидания: она дала понять, что предпочитает трахаться, глядя в глаза партнеру.
Мне эта мысль показалась свежей и я согласился попробовать. И вот, оказалось, что это и правда лучше всего.
Посмотри мне в глаза, сказала она, когда мы трахались в первый раз.
Строго говоря, мы еще не трахались. Она отсосала мне, но я не кончил, после чего вытащила из сумки пачку презервативов, надорвала кровавым длинным ногтем единственное, в чем она допускала излишества, это маникюр, – и, придержав кончик, поместила его. Потом, глядя на меня снизу, прижала кондом губами и развернула на мне руками.
Смотрю, сказал я.
Нет, сказала она, откидываясь.
Смотри мне в глаза, когда войдешь, сказала она.
Смотреть в глаза женщине, которую трахаешь, и есть заниматься сексом, сказала она.
Я запомнил это навсегда, потому что она оказалась права. С тех пор, каждый раз, когда я впервые вхожу в женщину, то жадно смотрю ей в глаза. Правда, ни у кого больше я не видел таких глаз, как у Лиды. Больших, чуть сонных, осоловевших… она так резко и неожиданно распахнула их, когда я вошел. От и до – пока я втискивал в нее всего себя, все свое мясо, – она смотрела мне в глаза внимательно.
Да, у меня большой, сказал я.
Это создает определенного рода неудобства, сказала она.
Терпи, сказал я.
Она, молча, забросила мне ноги на поясницу, и положила руки на ягодицы. Я чуть оглянулся, глядя в первое из сотен зеркал. На заднице сразу как будто кровавые полоски появились. Белое и черное. Позже я сказал.
Нам обязательно предохраняться, сказал я.
Это зависит, сказала она.
Мне бы хотелось, чтобы у меня была постоянная любовница, сказал я.
Мне это просто нужно, сказал я.
Просто еще одна женщина, душевного здоровья для, сказал я.
А не потому что я бабник, сказал я.
И я вовсе не бабник, сказал я.
Лучшее доказательство этому то… сказал я.
…Что других у меня не будет… сказал я.
Так что пей лучше таблетки, сказал я.
Ладно, сказала она.
Наверное, она уже тогда поняла, что я говорю все это отвода глаз. Что я влюбился. Но ничего не сказала. Ни тогда, ни сейчас – так что никакой уверенности у меня нет и по сей день.
Я вообще ни в чем не уверен.
Второй и третий презервативы нам не понадобились, и я оставил их в ящике. И мы никогда больше эту тему не поднимали, хотя я, конечно, встречался иногда и с другими женщинами. Но вот уж с ними предохранялся. С Лидой же нет. Я чувствовал себя ее мужем. И мне это нравилось. Уж не знаю, как ей. Кажется, она была единственная женщина, которая со мной очень редко кончила. Хотя я максимально старался. Лишь один раз мы были близко к этому: в первый, и потом – когда я вдруг почувствовал, что она приподнимает бедра и пытается сместить меня чуть влево. С радостью подчинившись, я долбил так минут двадцать, но она все равно не смогла, и со вздохом разочарования, упала на кровать.
Тем не менее, секс доставлял ей удовольствие.
В сравнении с заводной Алисой, которая могла раз 10 за ночь кончить, это было так необычно и… свежо. Да-да. То, что Лида почти никогда не испытывала оргазм, лишь повысило ее привлекательность в моих глазах. Лидин оргазм был для меня словно «десятка» в университете – то, что никому не поставят, – оценка, на которую не знает даже экзаменатор. Как, по крайней мере, любили говорить экзаменаторы.
Так что я философски воспринимал неспособность Лиды дойти до конца.
Как какой-то сверхценный приз, придуманный лишь для того, чтобы за ним гнались. Серебряное блюдо в тире, выбить ради которого все мишени невозможно, потому что вам посунут кривое ружье. Так что я заряжал свой прямой длинноствол ради реальных целей. И трахал Лиду часами, доставляя простое физическое удовольствие. Естественную, тихую радость.
Без вспышек в глазах, воплей и мата.
Этим меня досыта кормила Алиса.
И впервые за несколько лет я успокоился.
Стал уверенным в себе. Чуть осунулся и похудел. Меньше думал, и не выбирал – сразу решал, чего хочу, а чего нет. Самое главное, перестал рефлексировать. Перестал писать книги. Мне, попросту, некогда было обо всем этом думать. Алиса оказалась приятно поражена. К моему счастью, она списала это на свинг. Так что она решила, что нам надо продолжать, и, может быть, даже интенсивнее.
Если бы она узнала, что я изменяю ей по программе а-ля карт…
Я даже не предполагал, что бы произошло в таком случае. Просто не мог вообразить степень гнева, который бы она испытала.
Гнев Алисы, как и ее оргазмы, заканчивался непредсказуемо.
Так что я с радостью подыграл жене в уверенности, что свинг-вечеринки внесли лад в нашу с ней непростую жизнь. Да так оно и было. Ведь Лиду я встретил на такой вечеринке, – слава Богу, достаточно людной, чтобы Алису не обратила на соперницу внимания, – организованной ее мужем, жадно глядевшим на мясистых дебелых разведенок.
В надежде на то, сказал он, когда мы впервые поговорили, что моя фригидная женушка раскочегарится.
Ха-ха, сказал я.
***
…Я взял Лиду за руку, чувствуя себя канатоходцем, потерявшим равновесие. Чувствуя себя предателем. Нет, дело было вовсе не в жене. Я предавал Лиду. Не спасал себя, – это не имело уже никакого смысла, потому что угол падения казался необратимым, – а лишь увлекал за собой в пропасть и любовницу. Она, наверняка, чувствовала то же самое, и прикрыла глаза. У меня кружилась голова.
Милый, лед, сказала Алиса
О, конечно, сказал я.
Отпустил руку Лиды и вернулся с террасы в спальню, откуда спустился по лестнице на первый этаж, – там меня и звала Алиса, – по пути дружески похлопав по плечу Диего, застывшего у шкафа с книгами. Книг было много, но все они покрывались пылью: как-то постепенно мы перестали и читать. Наверху, – в самом углу, – громоздились мои издания и переводы. Свидетельства прошлой жизни, они напоминали мне груды раковин от съедобных моллюсков, оставленные на берегу моря тысячами поколений людей. Миллионы лет обтачивали раковины, из-за чего они выглядят, как странные замки, сложенные какими-то диковинными существами.
Одним из таких существ когда-то был я.
Когда еще писал книги. Иногда мне казалось, что под грудами бумаги можно найти искорку, и тогда разворачивал завалы голыми руками, не боясь ожогов. Но все было тщетно. Я поднимал лишь груды пыли и золы, под которыми не находил ничего, кроме остывшей земли. В такие моменты за мной любила наблюдать Алиса. Ей доставляло удовольствие наблюдать, как меня терзают на арене львы, которых – включая и арену и зрителей – разыгрывал я сам. Но сегодня я был спокоен, и мог даже кинуть взгляд на обложки изданий: посмотреть на них, как школьник, брошенный подружкой – на ее издевательскую улыбку. Ведь в доме были гости, и это значило, что Алиса намерена дать высший класс и устроить все по высшему разряду. Никто не умел быть приятнее, чем моя жена. Но лишь когда она хотела быть приятной. К сожалению, пьеса разыгрывалась лишь для сторонних зрителей. Но я так устал, так был измотан и напуган, что мне даже эти – редкие, фальшивые, – передышки, давали иллюзию какого-то перемирия. Я, – как солдат, которому отрубило ноги, – радовался тому, что попал, наконец, в госпиталь с передовой. Если самолеты переставали бомбить наш общий фронт, мне казалось, что все это ради меня, и я смотрел на лица вражеских летчиков даже с дружелюбием. Мне казалось, что они сжалились, наконец.
Алиса же, всего-то, загоняла свой бомбардировщик в ангар, чтобы выпить кофе с молоком.
Смеясь под лучами восходящего солнца.
Наше солнце как раз заходило и последние лучи его упали на крышу, где мы устроили террасу – под конец реконструкции бригада строителей готова была пальцы ног Алисе вылизывать, и кстати, я вовсе не уверен, что этого не случилось, – отчего терраса стала выглядеть, как аквариум, который выхватил ночной фонарь в темноте. Павшие листья, которые Алиса запрещала мне выбрасывать до полного и окончательного их разложения, – даже покойникам я даю шанс, говорила она, посмеиваясь, – выглядели так, как будто их наклеили на столик и стулья специально. Лида выглядела силуэтом, когда я покидал ее, чтобы спуститься на кухню. Я не видел лица, только чуть сгорбленные плечи – из-за груди она сутулилась, и это очень умиляло меня, я чувствовал себя старшеклассником, а ее старшеклассницей, – и узкую щель света между полных ног. Я бы мог взять ножницы и вырезать Лиду из общего фона парка, проступавшего сразу за домом – сквозь войну сумерек и заходящего солнца. На оранжево-красно-золотисто-зеленом фоне Лида выглядела бумажным трафаретом. Игрой света и тени. На минуту мне померещилось что это так. Но я совладал с желанием вернуться к ней и потрогать, убедиться, что она живая, и теплая. Что она дышит. Так неопытные родители возвращаются к детям ночью, чтобы убедиться в том, что те дышат во сне.
Вместо этого я спустился вниз, бросив взгляд на книги – мне даже удалось сохранить при этом равнодушный вид, – перебросился парой общих фраз с Диего, что-то про погоду, и стал доставать лед. Формочка для него у нас была, но Алиса предпочитала заливать воду в упаковки от конфет, из-за чего форма льда в нашем доме всегда была самая причудливая.
Самый, черт его побери, извилистый лед в вашем доме, сказал как-то Диего.
И посмотрел на меня со значением. Что он хотел этим сказать, чертов волосатый коротышка, я и понятия не имел. Просто налил ему еще, – из-за постоянных его перелетов, магазинов дюти-фри и консульских попоек, виски в нашем доме всегда был самый лучший, – и слегка повернулся к Лиде, изображая вежливый и слегка вычурный интерес. Тем самым обрубая контакт с Диего. Толстячок лишь понимающе хмыкнул, и стал жадно лакать виски. Он вылизывал его языком, смакуя, и крутил во рту так же неприлично, как проститутка – искусственный фалос на потеху выпившему клиенту. Лида часто делала ему замечания за такую манеру пить, или есть, запуская руки в блюдо чуть ли не по локоть.
Мужчина он и за столом мужчина, смеясь, говорила Алиса.
Меня поражало это удивительное для моей жены отсутствие женской солидарность. А ведь она убить была готова меня, просмотрев по телевизору репортаж о несчастной любви и муже– тиране в цикле передач о семейном насилии.
Я нес на плечах бремя ответственности за всех мужчин мира.
За неправильно взятый в руку нож меня могли приговорить к колесованию, а пролитая на стол вода приравнивалась к измене родине с последующим расстрелом перед строем. Пристрелить и закопать как собаку. Большего я не был достоен. Я должен был думать, как она, считать, как она, подыгрывать ей – но при этом достаточно тонко, чтобы она не решила, что я подыгрываю. В таком случае она начинала презирать меня. Говно и слабак, бросала она с ненавистью, когда пила. А когда перестала, то просто не удостаивала меня взглядом. Если же мне удавалось каким-то чудом сутки-двое блюсти идеальные манеры, и выполнить весь комплекс упражнений, от кухни, до постели, – ни проронив ни крошки, ни пролив ни капли, кроме как в предназначенные для того резервуары, – то максимум, на который я рассчитывал, это отсутствие придирок. Так солдат, вымуштрованный до состояния робота, ходит, оттягивая носок, преодолевает препятствия и получает отличные оценки по стрельбе не за поощрения и награды, а лишь для того, чтобы не быть наказанным. Я вел себя, как воспитанник садистов в иезуитском колледже. Диего, кстати, учился в таком несколько лет.
Только, амиго, это были не иезуиты, в которые вы тут вечно записываете любых католических попов, сказал он мне.
Это были капуцины, тоже говно еще то, сказал он.
Алиса смотрела на него внимательно, широко раскрыв глаза. Она сидела на подлокотнике моего кресла, напротив нас, где, развалившись, почесывал свое непомерное эго и свои непомерные яйца, Диего, а чуть в сторонке сидела, ссутулившись, Лида. Моя Алиса называла – и считала – ее серой мышкой. Забавно, что точно так же говорили про жену все мои случайные подружки. Поразительно, как недогадлива оказалась моя умнейшая и проницательнейшая жена. Алиса, видевшая меня насквозь, до последнего не понимала, кто моя любовница. Лида для этой роли казалась ей слишком непримечательной. Дело было в духах, – покровительствовавших мне, – знал я. Алиса умела видеть насквозь. Благодаря ей я перестал смеяться над «интуицией» и наивной верой в нее многих моих знакомых. Но для них это был повод поболтать в промежутках между трахом на свинг-вечеринках. А для Алисы это была составная часть зрения. Если бы вы закопали золотой слиток на глубину десяти метров, Алиса бы нашла его. Она находила желаемое, как свинья – трюфеля. С той лишь разницей, что для Алисы никакой разницы не было: трюфеля, золото, падаль, или бьющееся сердца, а может быть, ваше отчаяние. Он чувствовала всякий раз то, что искала. Неважно, что. И каждый раз, когда она выискивала, находила, обнаруживала, глаза ее чуть раскрывались, как у женщины, которую берут в первый раз. Конечно, я говорю не о девственницах. Речь о первой встрече, первой ебле, между вами и вашей любовницей, которая может оказаться случайной, а может – на всю жизнь. Я постарался запомнить глаза Лиды, когда брал ее первый раз. С тех пор, каждый раз глядя ей в глаза, я думал лишь об одном. Уверен, у меня на лбу это написано было. И если Алиса, человек-магнит, человек-рентген, не сумела видеть это, то лишь из-за облака, которое наслали на нас с Лидой боги. На Алису наслали заклятье и чары. Другого объяснения я не вижу. И зачарованная Алису совершенно искренне считала Лиду последней женщиной в мире, в которую я могу влюбиться. Ровно до тех пор, пока она, Алиса, не перестала быть нужна этим могущественным силам, и они не сняли заклятье. И все стало, как в самый пасмурный, обычный, день. Беспощадно серо, но все еще светло, потому что лишь утро, и день – страшный, тяжелый, настоящий, – обещает быть длинным. И Алиса не выдержала. Но я тороплюсь.
Чего только эти гребанные монахи с нами не делали, сказал Диего, хохотнув.
Ты хочешь сказать… сказала Алиса, расширив чуть глаза.
Нет, в том-то и дело, что Прямо никто ничего подобного не просил, сказал Диего.
И вообще о том разговоров не было, сказал он.
Просто горячие раскрасневшиеся задницы мальчиков, после розог, сказал он.
Там к нам никто пальцем не притронулся, в ТОМ самом смысле, сказал он.
Но они заложили в нас мины, они заложили в нас бомбы, сказал он, глотнув виски.
Подержал во рту, пополоскал, побулькал в горле, почмокал, посвистывая, и даже уронил капельку себе на воротничок. Лида покачала головой, Диего рассмеялся, всем своим видом показывая, что смакует виски нарочито, специально для жены, которой не нравится этот отработанный до мелочей номер. Последние отблески солнца от крыши погасли, и мы теперь сидели на террасе темными силуэтами, не торопясь включать свет.
Ей богу, половина ребят из нашего выпуска стала дипломированными педиками, сказал Диего.
Все они были словно запрограммированы трахаться в зад, сказал он.
Эка невидаль, сказала хищно Алиса.
О, милая, конечно же, я имею в виду, с мужчинами, воскликнул Диего.
Порка… сказала с отвращением Алиса.
Средневековье какое-то, сказала она, вызвав мое легкое неудовольствие.
Он просто вас пугает и пытается впечатлить, сказала вдруг Лида.
Потому что вы ему понравились, сказала она.
И потом, порка это очень сексуально, сказал я, вступив в начинающийся бой на поле Лиды, горделиво поправив сбрую, и подняв копье с флажком.
Я чувствовал себя отважным бойцом, вышедшим на турнир ради прекрасной дамы, любовь к которой он скрывал до сих пор, а вот теперь решил открыть тайну всему миру. Может быть даже, быть поверженным ради любви. В ушах у меня звучали победные стоны горнов. Диего понимающе улыбнулся. Неужели он догадывается, подумал я. Но, к счастью, в тот момент это выглядело как понимающая улыбка мужа, который позволил вам обладать своей женой в обмен на вашу, и принимает вашу горячность за юношескую влюбленность и поспешность новичка в свинге. А уж Диего на нем свинью съел.
Такую же чувствительную к трюфелям, как и моя Алиса.
Не слушайте вы его, садиста клятого, сказала, рассмеявшись, Алиса.
Ему бы только мучить кого-то, да хлестать, в том или ином смысле, сказала она.
Присмотрись к нему внимательно, Диего, сказала она, и может быть, узнаешь в нем кого-то из тех монахов, что пристрастили вас пороться в задницу.
Мы были на «ты» с тех пор, как они впервые зашли к нам в дом.
Когда Алиса выпивала, то становилась груба и шероховата, как поваленное ветром, и не отёсанное дровосеками дерево. Я похлопал ее по руке. Алиса снова рассмеялась, и погладила меня. Я думал, что уже не любил ее, но слезы выступили у меня на глазах. Скажи она в тот момент – давай продержимся еще раунд, милый, – и я бы служил ей, как собака. Но было уже поздно, очень, и мы зашли так далеко, как никогда не случалось. Лида уже вросла в меня, как раковая опухоль, а я – в нее, и распустил сотней рыболовных крючков своей раздувшийся член, и вывернул наизнанку ее розовую пизду. Я теперь носил ее горделиво, как ацтекский принц – мантию из перьев птичек-колибри. Пизда Лиды была моим трофеем, она всегда висела у меня на руке. Даже сейчас, когда на руке у меня сидела ворковавшая Алиса, а Лида, потупившись, наливала виски Диего и мне. Ну и, конечно, Алисе. Сама Лида пила немного, да и разговаривала столько же. Молчаливая глупая корова, говорила про нее Алиса. Может быть, – думаю я сейчас, – она и была права. А моя любовь к Лиде была всего лишь чарами – теми самыми, которые лишили мою жену бдительности, и раскрыли ее пятку для смертельного удара.
Который нанес, почему-то, именно я.
Нет, все же, разве порка не сексуально, сказал я, развеселившись, почему-то.
Алиса зажгла свет. Специальные фонарики по периметру, которые делали нашу террасу похожей на плывущий в ночном океане китайский кораблик, где старый ростовщик и его семья хотят принести в жертву Дракону Воды бумажные денежки, ароматические палочки и тому подобную чепуху, преисполненную уважения к предкам. Уважения, которое ничего не стоит. Но выглядело это очень красиво, и я преисполнился гордости за жену, столько сил отдавшую преображению нашего дома. В обычные дни ее страсть разрушать, создавать, переделывать и обустраивать, меня бесила. В дни же приемов гостей я был горд. Внезапно я вдруг понял, что она чувствует, глядя на меня и мои книги. Мы подобрали друг друга только для выходов в свет, подумал я. Но не дал плохому настроению возобладать над собой.
Что делает женщину настоящей женщиной, сказал я.
Только умение подчиниться, а самое главное, желание сделать это, сказал я.
Одно без другого немыслимо, сказала Лида, и Алиса посмотрела на нее с легким презрением и нескрываемым торжеством. Лида частенько отпускала реплики с опозданием, и любила повторять сказанное, выделяя, почему-то, самое банальное и совершенно очевидное. В такие моменты мы все со временем научились делать вид, будто ничего не случилось.
Это само собой, милочка, сказала Алиса покровительственно.
Он, черт побери, прав, сказал Диего, и поднял стакан.
Мы поддержали. Алиса сглотнула чуть-чуть, и облизала губы. Она была хороша, и в этот момент все мы – даже Лида, – любовались ей. В моей жене не было доброты, милосердия, снисходительности, сочувствия, нежности. Но в ней были класс и порода.
В Алисе столько породы, сказал Диего восхищённо.
Мы были уже вдвоем, когда он говорил это. Лида и Алиса вышли на кухню, моя жена готовила все для чайной церемонии, – нашей церемонии, ничего общего со всеми существующими доныне не имеющей, отчасти это походило на попойку бродяг, отчасти, на ведьмовской шабаш, – а мы с Диего курили сигары. Он вечно таскал с собой коробку с шикарными сигарами, и плевать ему было, что я давно бросил курить. Это же не в затяжку, смеясь, сказал он. Я смотрел, как серый пепел медленно пожирает сигару. Мы были совершенно расслаблены, хотя и раскраснелись и все испытывали такое ощущение, будто мимо нас пронесся грузовик, лишь обдавший нас волной воздуха. Но он никого не сбил, и мы, – ошарашенных дети, – громко смеемся в канаве у дороги. Чересчур громко смеемся. Пытаясь смехом отогнать испуг. В это время на террасу вернулись Алиса и Лида с подносом, чайником и чашечками. Они переоделись, но их более домашние наряды не выглядели вызывающе. Мы все прекрасно знали, что этот вечер не получит продолжения. Никакого свинга. Так уж получилось с первой же нашей встречи вчетвером. Этот островок, – посреди затопленного леса, – оставался нашим пристанищем. Мы не договаривались об этом, просто заключили молчаливый союз. Алиса поставила поднос на пол, и улыбнулась мне поощрительно.
Мы все с пониманием посмотрели друг другу в глаза.
Что бы там не случится дальше, мы справились, знали мы. Слова много раз зависали на краю крыши, но ни одно не сорвалось вниз. Мы остались в рамках приличия в первый же вечер, и начало было положено. К традиции свинг-вечеринок у Диего с Лидой добавилась не менее горячий – и даже чуть сладковатый из-за диковинных сортов чая, которые находила где-то Алиса, хотя почему где-то, это ведь Диего ей постоянно их привозил, осенило позже меня, – обычай проводить у нас вечер в одну-две недели.
Виски, сигары, чай, болтовня.
Никакого секса на деле, и все что угодно на словах. Мы взяли за правило смело говорить обо всем, что взбредет в голову. Единственное табу было – никаких табу. Мы чувствовали себя четверкой из молодёжного клипа: про друзей, которые даже мылись в ванной вместе, но так и не переспали.
И это сблизило нас больше секса.
***
Мои сны о ней были порнографичны, как рассказы в дешевых журнальчиках на серой бумаге, что продавались в киосках в пору, когда я еще ходил в школу и покупал порнографические журнальчики в киоске. Он как раз был через дорогу от чертова колеса в парке, куда можно было сбежать с уроков покататься. Сесть в корзинку, прикрепленную к колесу двумя прямыми железными штангами, и подняться над небом.
Иногда я обнимался там с девочками, которые любили меня, и которых любил я.
Куда-то все это подевалось. Не знаю, куда. Я садился не раз в это чертово колесо первые несколько лет после окончания школы. Может быть, искал их всех тем, наверху. Но, поднявшись на самую верхнюю точку, я убеждался, что небо пусто, и призраков девочек, которых я неумело, – а после и умело, – тискал, там уже не осталось. Куда-то они все ушли. А вот Лида – как и Алиса – умела оставить себя возле меня, даже когда ее не было рядом. Я просыпался с мыслями о ней, ненасытный, голодный, распаленный, как тысяча самых растленных шлюх, и вылизывал мед и грязь со своих пальцев. Я просыпался, когда еще было темно, и собаки за окном, – тоже толком не проснувшиеся, – лениво полаивали на редких прохожих, спешивших домой с ночной смены. Серый рассвет еще не подглядывал в щель между шторами нашего дома. Моя голова была пуста, как воздух комнаты, весь пропитанный нашими с Алисой кошмарами, сновидениями, слабоалкогольным дыханием. Иногда мне снилось, что я все вешаю кого-то, и по много раз пытаюсь поднять тяжелое, обмякшее тело человека, – который потерял сознание от ужаса, – а оно все срывается и срывается с петли.
Всмотревшись ему в лицо, я увидел себя.
Ничего особенного для кошмара, правда? Но, как я и говорил, я стал специалистом по кошмарам в ту осень. У меня были великолепные, затяжные, потрясающие оргазмы и такие же депрессии. Ебля и плохое настроение, вот в чем я достиг небывалых высот. Думаю, я стал бы магистром Академии траха и почетным доктором, – гонорис-кауза, – Университета уныния. Они были мои постоянные спутники, как и вечная эрекция тоскливого старшеклассника, которому не дает подружка, – они встречались слишком долго, чтобы он мог бросить порвать с ней без сожалений о потраченном времени, но каждая минута без секса уходит для него жизнью. Уныние и Ебля. Я спал с ними в обнимку, и часто они не позволяли мне прикоснуться к телу Алисы, великолепной безумной Алисы, которая решила соскочить с меня, как с наркотика, и потому порвала между нами вся связи. Мы перестали пить вместе и трахались все реже, хотя она оставалась все так же великолепна, все так же хороша. Сейчас-то я понимаю, что она была готова мне изменить, а потом уже и в самом деле изменила. Неясно только, с кем, как, когда и сколько. Но если каких-то полгода-года назад эти вопросы привели бы меня в ярость и я бы значительную часть своей жизни потратил на то, чтобы выяснить ответы, сейчас…
…я смотрел на мир глазами покойника из-под толщи воды.
И все, что оставалось у него от живого, это член.
Торчащий от удушья член, и воспоминания, – странные, смытые, размазанные воспоминания, – о чем-то, что было его прошлой жизнью. Я прислушивался к своим мыслям о Лиде, как к воспоминаниям о прошлой жизни. Я знал, что мне предстоит еще несколько часов, а может быть, и целый день, без нее. Мне нравилось думать о том, что я сделаю с ней, когда получу ее, дорвусь до тела. Я лежал, без движения, подняв одеяло пальцами ног, – вытянутый, без движения, руки по швам, словно фараон, тутанхамон между жизнью и смертью, чья Душа перебегает по гигантскому члену, – вот мост между Бытием и Небытием – то в мир света, то в мир тьмы, и все никак не может определиться с выбором. Которого, конечно, нет. Боги все решили за нас. Мост дыбился еще сильнее. Я чувствовал пульсацию крови, чувствовал, как дергаются вены. Головка моего члена раздувалась, как капюшон индийской кобры. Королевской кобры. Я страшился глядеть вниз, слушая сонное сопение своей жены, изменяющей мне жены. Но я знал, что нет смысла будить ее, и что одна лишь женщина сейчас сможет укротить эту гигантскую, – смертельно опасную для всего мира, – змею. И я представлял себе моего факира, мою Лиду. Я знал, что до рассвета еще далеко, часа три, не меньше, так что я не торопился. Я начинал с пятна света, рыжего, огненного пятна, такого же яркого, как ее волосы. Она пожаловалась мне на то, что их коротко остригли, чересчур коротко.
Пошла в парикмахерскую, и вышла через пятнадцать минут, представляешь, написала она мне короткое сообщение.
Это норма, написал я.
Не для женщины, сладкий, написала она, и у меня встал, хоть я и стоял посреди людной улицы.
Но наш с Лидой роман в ту пору входил уже в ту стадию, когда ты, – словно тяжело больной, – перестаешь стесняться, ломаешься и отбрасываешь последние условности: шаркаешь, не тянешь спину, и тяжело кашляешь, сплевывая кровь в несвежий платок. Если бы она прислала мне свое фото ню, я бы мастурбировал прямо посреди улицы. Я хотел Лиду весь день, все ночи, и особенно сильно я хотел по утрам.
Это как самый бестолковый секс в моей жизни, написала она.
Как-нибудь расскажи мне о нем, написал я.
Хи-хи, написала она.
Как же ты теперь выглядишь, написал я.
Идиотская стрижка под горшок, из-за которой я похожа на мальчика, написала она.
С твоими-то грудями и задницей, написал я.
М-м-м-м, написала она.
Сегодня, написал я.
Нет, не получится, написала она.
Нет, ты не поняла, написал я.
Я не спрашивал, написал я.
Сегодня, написал я.
Огляделся. Листья, кружась, падали на мостовую, вымощенную самой дорогой и бестолковой плиткой, которая зимой становилась скользкой, как каток. Людей было много, они спешили куда-то под низким небом Кишинева, чтобы стать движущимися фигурами на ретро-снимках города, которые делали сейчас, – сами того не понимая, – молодые люди с фотоаппаратами и в ярких одеждах. Таково было поветрие моды в тот год среди молодежи, фотография. Даже и мы с Лидой не избежали его, так что, когда она, наврав что-то на работе, сорвалась и прибежала, запыхавшись, – в квартиру, найденную мной в считанные минуты, – ее ждала фотосъемка. Это было безумие, мы оба знали, но остановиться никак не могли. Я повалил Лиду на пол и сделал несколько снимков, она потекла, едва увидела меня за этим занятием. Я еле дверь успел закрыть, в подъезд, судя по голосам, заходили жильцы.
Дай хотя бы раздеться, сказала она.
Раздевайся, сказал я.
Глядя на меня, она приподнялась, и стала расстегивать рубашку. Я обожал ее белые рубашки, носить их считалось чем-то вроде дресс-кода, как я понял. Все ее подчиненные, которые постарше, и на машинах подороже, были в таких белых рубашках, и все поглядывали на меня со значением, выходя из своих «джипов», и семеня на высоких каблуках в новое, светящееся, здание концерна, где Лида развлекалась, чтобы Диего чувствовал себя еще и мужем деловой женщины. Все они были заинтересованы мной, как и каждая женщина, которая видит писателя, знает о том, что он писатель, и понятия не имеет, что это значит – жить с писателем. Так что на первых порах нашего романа я был спокоен.
Я знал, что и без Лиды без молочка не останусь.
Вернее, утешал себя этим. Потому что, когда выяснилось, что я могу остаться без ее молочка, никакого другого мне не захотелось. Но это случилось позже, и я не знал об этом, вожделенно глядя на крутые бедра сорокалетних женщин в дорогих меховых накидках. Они возбуждали меня не меньше своих владелиц. Да, Лида была здесь на своем месте. Крутобедрая, задастая, с не очень длинными, но приятно полными, ногами, большим бюстом и задорными ямочками на щеках. Она была похожа на абрикос. Такая же спелая. А когда я разрывал ее, то чувствовал на своих пальцах мякоть – буквально волокна, – абрикосовую мякоть и запах цветущего дерева, запах земли. В ней была и порода, – да, не так много, как в Алисе, но была.
В Лиде было что-то, что позволяло предполагать – она каждое утро уделяет себе не меньше полутора часа.
Так она и делала. В отличие от Алисы, которой достаточно было проснуться, да провести рукой по лицу, чтобы выглядеть сказочно, Лида тратила на себя время. Она ухаживала за собой. Если бы меня спросили, что значит ухоженная женщина, я бы ткнул в нее пальцем, еще до нашего знакомства.
Ну что ты так смотришь, сказала она.
Она не могла оторвать от меня взгляд, и что-то было в нем, что-то, из-за чего руки у нее задрожали, и она не смогла расстегнуть пуговицу. Лида знала, чем это чревато, так что зашептала умоляюще – нет, нет, – но было поздно, потому что я встал над ней и разорвал рубашку, и стянул с рук, безвольно протянутых мне, наверх. Она сдалась, даже не начав бороться. Мне нравилась Лидина покорность. Слишком неуступчива была Алиса, слишком с характером. И мне требовалась передышка. Я нуждался в белоснежной мягчайшей перине на сотне теплых матрацев. Я, как принцесса из сказки, нуждался в миллионах перин, чтобы избавиться от одной единственной горошины, прожигающей мне ребра во всех смыслах. Чтобы забыть Алису, я нуждался в Лиде.
Я понял, что постоянно думаю о них обеих.
Отбросил рубашку, и сфотографировал Лиду несколько раз, что представлял себе все утро. А потом взял за руку и потащил за собой в комнату. Там, конечно, было огромное зеркало. Но как раз сегодня это было то, что надо. Я заставил Лиду встать на колени, – все еще в юбке – и обслуживать себя. Я принуждал ее, как последнюю шлюху. И если поначалу она сопротивлялась, то потом вошла в транс, и все время и силы уделила лишь моему члену. Она провела полную ревизию, после чего показала высший класс. Все это время я фотографировал. Особенно удачным мне показался снимок, на котором она прижималась щекой к моему члену, глядя куда-то в сторону, чуть высунув язык, и показывая обручальное кольцо.
Если бы международному движению адюльтера и свинга потребовался символ, я бы отправил им это фото.
Лида продолжала, ослепленная вспышками. Я понял, что у нее совершенно отсутствующий взгляд, что она в состоянии грогги, что она боксер, пропустивший удар.
Что же, она расплачивалась за утро, проведенное мной в таком же состоянии.
Я гладил Лиду по голове свободной рукой, сначала легко, а потом все жестче. Мне нравилось ощущать, какие жесткие у нее волосы, нравилось принуждать, хотя сосала она легко, охотно и всегда даже чуть охотнее, может быть, чем раздвигала ноги. Снова отличие между ней и Алисой. Моя супруга, хоть и была любительница выжать все, видела центр мира между ног, в то время, как Лида была не столь категорична.
Я сделал еще снимок, отложил фотоаппарат, и ухватился за голову Лиды. Мне представилось, что она гигантский Мюнхгаузен, застрявший в болоте своей лжи, хвастливый барон, оторванная голова богатыря, лежащая на земле, и мне надо обязательно вытащить ее, пусть она и тяжела, как пушечное ядро. Когда я очнулся, Лида едва не задыхалась, так что я схватил любовницу за талию, бросил на диван и велел, наконец, раздеться. После чего с тщательностью сумасшедшего сделал все то, о чем мечтал утром. С точностью до сантиметра, с выверенностью до секунды. Если бы она была тушей коровы, я бы получил приз как лучший мясник.
Примерно к середине воплощения всех моих грандиозных замыслов у нее зазвонил телефон.
Она испуганно забилась подо мной, но я не дал ей сорваться с крючка. Пришлось Лиде, изогнувшись, вытаскивать из сумочки телефон, и принять звонок. К счастью, это был не муж, который – как она часто утверждала, – обладал почти что сверхъестественными способностями и звериной интуицией. Как и положено всякому представителю латинской культуры, нередко с презрением парировал я. Нам белым, нет нужды ничего угадывать, потому что мы – владыки мира. Она не обижалась. Она настолько привыкла к импульсивности мужа, к его горячности, страстности, переменчивому характеру, что была, бедняжка, совсем дезориентирована. И от того, что она прямиком из барабана стиральной машины, – все еще с кружившейся головой – попала в руки мужчины, который принялся стегать ее раны, ее язвы Христовы, понятней картина мира для Лиды не стала. Часто глядя на Лиду, я видел рослую, грудастую славянку, сдуру вышедшую замуж за какого-нибудь сирийца. С одной стороны, это меня печалило. С другой, таким бабам только черные и нужны, знал я, тщательно выбривая щетину со своих синеющих в зеркале щек. Вроде меня. Невысокие смуглые живчики. Стоит голубоглазой, пышной, русоволосой женщине найти себе статного блондина, как она превращается в мегеру. Подчиняться, сосать и ползать на коленях. Вот и все, чего они заслуживают, как-то сказал мне ее муж, с непередаваемо милой гримасой.
Ему как раз отсасывала статная блондинка из университета Молдавии.
В смысле, она там что-то преподавала, а в свободное от лекций и проверок тетрадей время гостила на вечеринках с доме над городом со своим мужем, крупным, медленным мужчиной, явно терявшимся в обилии голой плоти. Не так ли, спросил меня муж Лиды, похлопав профессоршу по щеке. Я кивнул, боясь рассмеяться и выдать себя. Интересно, боялся ли рассмеяться он, думаю я сейчас.
Да, мама, сказала Лида, и охнула, потому что я подал вперед.
Это была ее мать. Нервическая, вечно грызшая заусеницы женщины, которая, – без сомнений, – была хороша, как и Лида, но растратила пыл своей юности в несчастливом браке с мужчиной, который рано обрюзг. Отец Лиды. Чтобы ему не скучно было стареть самому, жена постаралась догнать его, и максимально быстро. Она даже костюмы спортивные стала носить, что при ее фигуре – великолепной до сих пор – было настоящим самопожертвованием. Мне кажется, она подозревала о нас с Лидой, и это ее очень пугало. Мать Лиды страшила перспектива развода дочери. Мысль о том, что Лида перестанет быть Иностранкой и супругой Консула, и останется в нашей убогой Молдавии, была для матери невыносима. Само собой, о свинг-вечеринках, которые устраивали Синьор и Синьора Консулы, она ничего не знала. И не стала бы знать, даже ткни вы ей в лицо пленку с записью всего, что творилось в доме дочери и зятя.
Лида, постанывая время от времени в сторону – тогда она прикрывала трубку, – что-то невнятно бормотала матери.
Я приподнялся и поглядел на ее грудь. Она была вся в красных пятнах. Я положил голову на них, и представил себя на поле маков. Где-то внизу неумолимо стучал в глубины Лидиной пизды мой железный дровосек, рыча, драл ее юбки мой лев с соломенным сердцем, и слюнявил ее соски безголовый Страшила. Я знал, что если спущу сейчас в нее, то она залетит, но она взяла с меня слово никогда не кончать ей в матку.
Ох, милый, сказала она как-то, я еблива как кошка.
Что еще ты мне расскажешь, сказал я тогда.
Я из тех девчонок, которые залетают, стоит к ним прикоснуться пальцем, сказала она.
Случалось и такое, шутливо пожаловалась она.
Ах ты сучка, смеясь сказал я, да что же это был за палец, если ты залетела.
Она по секрету сказала мне, что Диего сделал себе операцию. Что-то там подтянул в этой сложной схеме веревок и тканей, сосудов и нитей, и теперь по его каналам не плывут шхуны, и шлюзы никогда не открываются. Звучало это смешно. Что-то вроде «перетянуть канатики». Почему-то мне при этим словосочетании пришло в голову что-то, связанное с жуками и усиками. Словно Диего был жучок, – бегавший и ощупывавший все своими усиками, – а их затем взяли да и перетянули. И бедняга свалился на спину, смешно барахтается, дрыгает лапками, и не может встать. Я, конечно, никогда бы так не поступил. Я оставлял за собой право обрюхатить любую из своих партнерш. В конце концов, если женщина не испытывает страха вообще, то она не испытывает и любви.
Дайте женщине быть в опасности ежесекундно, и она привяжется к вам, как заложник к террористу.
Так что я, приподнявшись над Лидой, зашипел и стал накачивать так стремительно, что она бросила без объяснений трубку и запричитала. Нет, нет, не в меня, ныла она, пока я долбил ее, распластанную, и, уверен, сучка получала от этого самое острое наслаждение из всех, какие когда-либо испытывала.
Я уже завелся и хочу в тебя, сказал я.
Придется в зад, жестко сказал я.
После этого она сказала еще пару тысяч раз слово «нет», и заткнулась, лишь когда я велел ей заткнуться и грызть подушку. Что она и сделала, пока я раздирал ее, ощущая исходящий от ляжек, пизды и задницы, аромат абрикосового джема, фруктового повидла и чашечки английского чая с молоком, запаха полыни, примостившейся за оградой сада, и жужжания ленивых, – осоловевших от обилия летней пыльцы, – пчел.
…Лида закричала, и, страдальчески морщась, соскользнула с моего члена, когда я позволил ей сделать это.
Думаю, она почувствовала в себе что-то вроде жала.
И, наполненная этим лечебным ядом, охала и стенала, перебираясь из комнаты в ванную, откуда вышла уже эластичная и розовая, как отмытая после употребления кукла. А я все не мог успокоиться, потому что три часа, – сто восемьдесят минут, все свое утро, – посвятил воображаемой ебле с ней и это так меня расколошматило внутри, что я был словно упавший с 29—го этажа монтажник. Вместо почек и печени у меня было кровавое месиво и кровяные медузы из сосудов и полопавшихся тканей плавали во мне, сочась через глаза и член слезами и смазкой.
Становись раком, и покажи, велел я.
Она показала, и, ей богу, все выглядело так, будто она в этом смысле оставалась еще девственницей. Задница в считанные минуты закрылась и приняла прежний вид. Меня озарило, я понял, что это она, Лида, была инициатором этого скорого и противоестественного соития. И это не я поимел ее, а ее задница, – нескромный мясной цветок, – раскрылась росянкой, чтобы втащить меня туда, и размесить попавшего в ядовитую ловушку зверька, до состояния кашицы, чтобы росянка могла насытиться. Моя сперма была кислотной добавкой, без которой она не переваривала добычу, эта задница. Мы работали в паре.
Я наспех оделся, и выскочил на улицу, купил ей рубашку.
Когда вернулся, она сидела на диване, и снова разговаривала по телефону. На этот раз, с мужем. Но так как мой член не был в ней, Лида не беспокоилась. Она владела собой, когда ее не трахали. Кивком указав на диван, она договорила, после чего отбросила телефон. Она была в колготках и бюстгальтер. У меня опять встал и я возблагодарил Бога за то, что оставлял Лиду на несколько минут. В противном случае мне – из-за чересчур небольшого перерыва, – не захотелось бы ее снова. И уже проводив женщину взглядом, я бы понял, что хочу еще и это желание будет поджаривать меня весь день. А мне и адского утра хватило.
Лида встала передо мной на колени и в который раз за день насадилась на меня ртом.
Что он хотел, сказал я.
Она вынула член изо рта, и, оглаживая его пальцами, сказала.
Он снова устраивает вечеринку, сказала она.