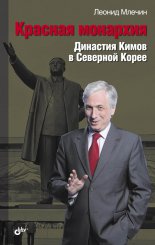У тебя иное имя Мильяс Хуан Хосе

Еще не начинало темнеть, однако ей казалось, что вот-вот наступит ночь.
— Если бы от некоторых людей можно было избавиться с такой же легкостью, — сказал Хулио, забираясь под одеяло.
— От кого ты хотел бы избавиться? — спросила она.
— От твоего мужа, например, — мрачновато отозвался Хулио.
Лаура молчала, прислушиваясь к сухим коротким ударам, с каждым из которых в ее сознание входило чувство вины, определяющее ее душевное состояние.
— Прочти мне какой-нибудь рассказ, — попросила она, чтобы избежать необходимости разговаривать.
Хулио, польщенный, взял рукопись Орландо Аскаратэ и выбрал наугад рассказ. Он назывался “Я потерялся”, и говорилось в нем о том, как один человек как-то в пятницу возвращается домой и застает свою жену больной. У нее симптомы обычного гриппа, ничего страшного, но, тем не менее, они решают отменить запланированную на выходные поездку. Они ужинают и ложатся спать. Всю субботу они проводят в постели: спят, читают журналы и занимаются любовью. В семь вечера человек просыпается, потому что ему хочется курить, и обнаруживает, что у него кончились сигареты. Жена все еще спит. Он осторожно встает, надевает брюки, свитер и выходит из дома, собираясь купить сигареты в баре напротив. Но бар по какой-то неизвестной причине оказывается в тот вечер закрытым. Наш герой, еще не совсем очнувшийся от слишком долгого сна, проходит еще пару улиц и видит наконец ярко освещенное изнутри помещение. Он входит, покупает сигареты, садится у стойки, заказывает пиво и пока его пьет, осматривается по сторонам. И у него возникает чувство, что эти предметы и это освещение он видел когда-то во сне. В баре два официанта и девять или десять посетителей, сидящих в разных углах. Герой вспоминает, что оставил дома спящую жену. Он боится, что она проснется до его возвращения, а потому поспешно расплачивается и выходит на улицу. Он идет по направлению к дому, но очень скоро замечает, что улицы ведут его не туда, откуда он пришел: они выводят к площадям, которые ему неизвестны, и на проспекты, о которых он никогда не слышал. Сначала он приходит в замешательство, но потом решает, что просто пошел не в том направлении, и возвращается к бару. Сориентировавшись, идет по другой дороге. Но результат оказывается таким же. Его охватывает страх, начинает сосать под ложечкой. Он снова возвращается в бар, чтобы позвонить оттуда жене. Его приход производит эффект брошенного в пруд камня: официанты и посетители, собравшиеся в центре бара, словно для того, чтобы обсудить важный вопрос, расходятся в разные стороны, делая вид, что не знакомы друг с другом. Герой чувствует на себе враждебные взгляды, и все же подходит к телефону, снимает трубку и опускает в щель монеты. Но когда он собирается набрать номер, то обнаруживает, что не помнит его. Это кажется ему абсурдом, он уверен, что память к нему вернется, а потому выжидает несколько секунд и повторяет попытку. Но все напрасно: цифры в голове не желают выстраиваться в нужном порядке. Комок подступает у него к горлу.
В этом месте Лаура попросила не читать дальше.
— Это очень тяжелый рассказ, — объяснила она. — Другие были веселее.
— Тебе не нравится? — в голосе Хулио прозвучал упрек.
— Не то чтобы не нравится, но просто мне самой немного грустно, и, когда я слушаю про несчастья этого человека, мне становится еще хуже.
Хулио закрыл рукопись, и снова положил ее на столик. В этот миг день кончился, и на обоих навалилась безнадежная тоска.
Лаура встала и начала одеваться с таким видом, будто собиралась на панихиду.
“Я отвезу тебя домой”, — сказал он, но она вдруг расплакалась и отказалась от его предложения. Она плакала, не переставая одеваться, а Хулио стоял возле кровати, растерянный и испуганный.
— Увидимся завтра, — не терял он надежды.
— Не знаю. Я тебе позвоню. Подожди, пока я позвоню тебе.
Она вышла на улицу, где было светло и тепло. Чтобы немного успокоиться, решила пройтись пешком. И по мере того как приближалась к дому, ею все больше овладевали круговые идеи, возвращавшие ее в привычный надежный круг, в котором были ее муж, дочь, мать и в котором сама она была под надежной защитой. Страх потерять их или страх обнаружить их на прежних местах заставил ее ускорить шаг. Дойдя до улицы Лопес-де-Ойос, Лаура огляделась по сторонам в поисках такси, и, когда подняла руку, чтобы остановить подъезжавшую машину, почувствовала себя прекрасной и никому не нужной.
Двенадцать
В тот день у Карлоса Родо была очень важная встреча, от которой зависело его будущее. Он вышел из клиники в одиннадцать и в одиннадцать двадцать уже входил в кафе, где должна была состояться встреча. Его уже ждали два человека средних лет, немного старше, чем сам Карлос Родо. Они были хорошо одеты, а их лица выражали если не крайнюю степень самодовольства, то, по крайней мере, изрядную самоуверенность.
Начался банальный разговор о новом похоронном бюро — судя по всему, один из собеседников Карлоса был владельцем этого заведения. Он-то и рассказал, что вчера поступило сообщение о заложенной в здании бомбе. Сотрудникам и клиентам пришлось срочно покинуть здание и вынести на улицу усопших.
Потом заговорили о том, ради чего собрались. Человек из похоронного бюро, самый разговорчивый из всех, сообщил, что он и его группа решили поддержать кандидатуру Карлоса Родо на вакантную должность в Аюнтамьенто. В обязанности человека, занимающего эту должность, входит координация и управление всеми муниципальными объектами здравоохранения. По тону разговора можно было понять, что речь шла о ключевом посте в системе здравоохранения и что Карлос Родо — в случае, если он эту должность займет, — вынужден будет взять на себя некоторые не закрепленные никакими договорами обязательства перед представителями группы, которая изъявила готовность ему помочь.
Кафе было в самом центре города, а потому среди посетителей было множество иностранцев из бесчисленных отелей, расположенных в этом районе. Тем не менее за одним из соседних столиков болтали за кофе с чуррос две домохозяйки.
Одна из них в это самое время говорила: “Так вот, на следующий день она пришла его навестить, и он рассказал, что головная боль у него прошла, что он спал, как в молодые годы, что наложил огромную кучу и что о своем шурине больше никогда не слышал”.
У Карлоса Родо удивленно поднялись брови, когда он услышал эту странную фразу, но усилием воли он привел мускулы лица в порядок и обратил все внимание на собеседников. Сейчас самым важным было найти правильный тон, точные слова и подходящую улыбку, которые должны были служить одной цели: убедить собеседников в том, что человек он скромный, но в своем деле является настоящим профессионалом, подчеркнуть его бескорыстие и отсутствие личной заинтересованности в той должности, которую ему предлагают. Он произнес: “Мне хотелось бы, чтобы выбор пал на меня не потому, что я являюсь членом нашей партии, а лишь по причине моих профессиональных заслуг.
Я понимаю, что, находясь на подобной должности, нужно уметь сочетать профессиональные аспекты с аспектами политическими. Вы знакомы с моим проектом, прекрасно знаете мое мнение по поводу того, как в настоящее время работают медицинские центры. Я сознаю, что те, кто трудится в Аюнтамьенто, должны, с одной стороны, разрабатывать и выполнять долгосрочные планы, но, с другой стороны, быть достаточно активными и заметными фигурами, чтобы их деятельность принесла политические дивиденды в короткие сроки. Я всегда придерживался мнения, что эти аспекты их работы являются совместимыми и даже, если хотите, взаимодополняющими. Я понимаю также, что в случае, если я займу эту должность, мне придется приносить многие насущные потребности в жертву политическим целям, некоторые из которых — я допускаю и такую вероятность — останутся мне неизвестны. Для этого существуете вы — люди, способные дать мне четкие указания в нужную минуту. Вы занимаетесь политической деятельностью, которая дает вам возможность глобального, целостного видения. У меня такого видения нет. Но я не наивен, а потому никогда не буду вставать на позиции, которые, даже будучи правильными с профессиональной точки зрения, шли бы вразрез с генеральным курсом партии, тонкости которого мне знать не положено. Одним словом, я полагаю, что если я займу тот пост, который вы мне предлагаете, то должен буду удерживаться от соблазна блеснуть профессионализмом (для этого у меня есть клиника, частная практика и статьи) и превратиться в еще один винтик общего механизма, постараться подчинить свои движения общему ритму. Это мое твердое убеждение. И в доказательство тому я, в тот же день, как вступлю в должность, вручу вам прошение об отставке, где будет стоять моя подпись, но не будет проставлена дата, с тем, чтобы вы сами смогли проставить ее, если это покажется вам необходимым”.
Речь, произнесенная Карлосом, произвела, судя по всему, благоприятное впечатление на его слушателей, и разговор принял другое направление. Собеседники сосредоточились на вопросах практических: кто и почему может выступить против кандидатуры Карлоса Родо и как устранить возможные препятствия на пути к достижению цели. При этом Карлосу Родо было предложено пару раз смошенничать и совершить пяток мелких подлостей по отношению к коллегам, на что тот, не колеблясь, согласился, словно речь шла о тактических приемах, которые нельзя считать грязными, если они приводят к победе: цель оправдывает средства.
Когда пакт был заключен, заговорили на общие темы, словно стремясь сгладить то неприятное впечатление, которое каждый из присутствующих мог произвести на остальных за то время, пока они вместе планировали будущие интриги.
Распрощавшись с собеседниками, Карлос Родо сел в машину и отправился через весь город на улицу Артуро Сориа, к своему психоаналитику, с которым не виделся уже семь лет — с того момента, как прекратил посещать его сеансы.
Первые минуты разговор шел легко и непринужденно. Карлос Родо вкратце поведал о том, чем занимался все эти годы, слегка подчеркнув те моменты, которые характеризовали его как успешного человека.
— И вот недавно, — добавил он, чтобы закончить тему, — мне предложили должность в Аюнтамьенто. Работа сама по себе ответственная — от меня будет зависеть все муниципальное здравоохранение — и, кроме того, может послужить (если я хорошо себя зарекомендую) трамплином для достижения еще более ответственных постов, например, в министерстве.
Психоаналитик, немолодой человек с черной бородой и в очках в тонкой оправе, дужки которых, казалось, вросли в его виски, выслушал рассказ о блестящей карьере Карлоса Родо спокойно, не прерывая, но и не поощряя рассказчика. Потом задал вопрос: “Вы пришли, чтобы поведать мне о вашей профессиональной деятельности?”
Карлос Родо почувствовал себя так, словно ему воткнули кухонный нож в тот уголок тела или души, где гнездится тщеславие. Он сидел напротив своего психоаналитика, их разделял лишь большой кабинетный стол — единственный темный предмет в залитой светом комнате, — и бросил быстрый взгляд налево, на обитый кожей диван, на котором когда-то провел множество часов. Мебель была расставлена так же, как в его собственном кабинете.
— Нет, — ответил он уже совсем другим тоном. — Нет. На самом деле, я пришел за советом. У меня сложились странные отношения с одним трудным пациентом, и я не знаю, что делать. Я мог бы обсудить этот вопрос с кем-нибудь из коллег, но боюсь, что моя профессиональная репутация слишком сильно пострадает. И я предпочел обратиться к вам.
Карлос Родо изложил случай Хулио Оргаса, не вдаваясь в подробности и останавливаясь только на тех деталях, которые считал совершенно необходимыми. Таким образом, рассказ получился лаконичным и сжатым, однако в нем не была забыта ни одна из допущенных Карлосом Родо профессиональных или человеческих ошибок, не скрыта ни одна из проявленных им слабостей.
Слушая своего коллегу и бывшего пациента, старик смотрел на него тем невыразительным взглядом, какой бывает у человека, который, научившись понимать страсти других людей, давным-давно избавился от собственных.
— И что вы сами думаете об этом? — спросил он, когда Карлос умолк.
— Ну, я полагаю, что пациент подсознательно знает, что Лаура — моя жена. Следовательно, он пытается занять мое место. С другой стороны...
— Не надо рассказывать мне о том, что происходит с вашим пациентом. Расскажите, что происходит с вами.
— Я не знаю, — ответил Карлос Родо, секунду поколебавшись. То есть я понимаю, что мои действия, с точки зрения профессионала, нужно рассматривать как несостоятельные. Полагаю также, что моя роль в развитии событий является гораздо более активной, чем может показаться на первый взгляд. Я не помню, в какой именно момент мне стало ясно, что женщина в парке — это моя жена Лаура, но совершенно отчетливо помню, как и когда я признался себе в том, что знаю, о ком рассказывает мой пациент. Хотя первое произошло, без сомнения, гораздо раньше второго. Таким образом, я подозреваю, что каким-то неуловимым образом способствовал, в ущерб своим же интересам, развитию отношений между ними.
— И почему, как вы думаете, вы это сделали? — задал очередной вопрос старик.
— Потому что мне доставляло и до сих пор доставляет острое удовольствие слышать имя Лауры из уст Хулио Оргаса. Вы можете подумать, что я извращенец, усмотреть во мне сходство с любителем подглядывать за другими. Но, мне кажется, речь идет о чем-то более сложном. Вы знаете, я никогда не относил себя к людям, для которых любовь имеет большое значение. Мои устремления — я никогда этого не скрывал — лежали в другой области: меня интересовали только политика, профессиональный успех и тому подобное. А вульгарные страсти — те, которые я считал вульгарными, — я всегда распределял между борделями и случайными связями: они не должны были становиться препятствием на моем пути.
— На пути к чему?
— Вы прекрасно знаете к чему: к общественному признанию. Я никогда этого не стыдился. Это такое же законное стремление, как и всякое другое. Вам это хорошо известно: вы многого добились. Я женился на девушке, которая мне нравилась, но в которую я не был страстно влюблен. Я был уверен, что смогу подчинить ее энергию, сложить с моей и направить обе на достижение поставленной цели. И, надо признать, все шло хорошо: Лаура отказалась от собственных стремлений (если они у нее вообще когда-нибудь были) и посвятила свою жизнь мне. Так что все было на своих местах. Она не просто любила меня — она восхищалась мной. И восхищалась моими достижениями. Я хотел создать крепкую семью. А для этого достаточно, чтобы один любил, а другой был умен. Поэтому мне кажется, что отсутствие влюбленности с моей стороны — это большое преимущество. Однако с тех пор, как Хулио Оргас начал говорить мне о Лауре, я уже не могу жить без этих рассказов. Постепенно я начал влюбляться в собственную жену, и, если на каком-либо из сеансов речь не заходит о ней, я сам осторожно навожу пациента на эту тему. И это происходит со мной в сорок лет, когда я достиг зрелости и уже был уверен, что время, когда со мной могло стрястись подобное, миновало навсегда. И хуже всего то, что я не могу отказаться от этого пациента — он необходим мне: он звено, которое все еще соединяет меня с Лаурой. Я влюбился в нее, благодаря ему.
— Объясните мне, пожалуйста, — попросил старик, глядя своими серыми глазами поверх оправы очков, — что значит слово “циник”?
— Ну, — начал Карлос Родо тоном легкого превосходства, — это слово, произнесенное вами так, как вы его произнесли, имеет оттенок некоторого морализаторства, которого я в вас раньше не замечал. Я допускаю возможность, что вы хотите заклеймить меня циником, если понимать под цинизмом осознание и признание собственных желаний и способность формулировать их тогда, когда это представляется нужным.
Однако мне кажется некорректным давать на основе психоанализа моральную оценку этим или каким-либо другим поступкам.
— Здесь ставится под сомнение не мой профессионализм, — ответил на это старик своим обычным нейтральным тоном, — а ваш.
— Согласен, согласен. И я сам в этом виноват. Я понимаю, что произвожу неважное впечатление, но я не за этим пришел.
— Вы в этом уверены? Уверены, что пришли сюда не с той же целью, с какой ходите в бордели, — дать свободу проявления тем граням своей личности, которые вы не решаетесь или не хотите демонстрировать в других местах?
— В каких местах? — несколько растерялся Карлос Родо.
— В постели со своей женой, например.
— Извините, но я пришел сюда просить о помощи.
— И в чем вам нужно помочь?
— Я и сам не знаю.
— Прекрасно знаете... Вы пришли за советом, которого я не могу вам дать, потому что моя работа заключается в другом. Ключ к решению проблемы, которая возникла у вас с пациентом, в ваших руках, а не в моих. Вы помните, на чем мы с вами остановились в психоанализе? Сколько, кстати, времени прошло с тех пор?
— Семь лет. Мы тогда расстались вопреки вашему желанию. Вы настаивали, что психоанализ еще не закончен, что нам следует продолжить. Но у меня было иное мнение. Вы знаете, что моя профессиональная подготовка безупречна.
— Теоретическая подготовка.
— У меня такое впечатление, что вы выставляете мне счет за решение, которое должен был принять я и только я, — заметил Карлос Родо, стараясь, чтобы его тон был менее агрессивным, чем его слова.
— Вам известно, — медленно ответил старик, — что такое решение не в компетенции пациента.
— Но я не был обычным пациентом. Я был специалистом в этой области и имел право на собственное мнение и право принять решение самостоятельно.
— Вы так и поступили. А теперь ответьте: мог ли бы психоаналитик с тем уровнем подготовки, который, как вы считаете, есть у вас, попасться в сети, расставленные вашим пациентом?
— Хорошо, согласен: имел место досадный промах с моей стороны. Именно потому я здесь. Я не знаю, что мне делать! — теперь в его голосе звучало искреннее отчаяние.
— Что ж, — сказал старик с едва заметной улыбкой, больше похожей на отцовскую, — связь между пациентом и психоаналитиком — это тонкая нить, которая иногда рвется напрочь, не оставляя надежды на то, что ее можно будет снова соединить. Наша с вами связующая нить давно разорвана, так что я, не являясь больше вашим психоаналитиком, волен сказать вам одну вещь. Возможно, это прозвучит как приказ, но я предлагаю воспринять мои слова как совет: возобновите сеансы, курс не завершен. Хороший специалист не совершил бы ошибки, которую совершаете вы в случае с пациентом, о котором вы мне рассказали. И еще: задумайтесь над вашими с ним непростыми отношениями. Вы утверждаете, что не можете обходиться без Хулио Оргаса, потому как он является связующим звеном между вами и Лаурой; утверждаете с полной уверенностью, не оставляющей места сомнению, что влюблены в Лауру, вашу жену, а между тем из того, что я услышал, вытекает, что на самом деле вы влюблены в вашего пациента, и ни в кого другого. Вдумайтесь: вы с ним примерно одного возраста, оба жаждете общественного признания, у обоих неспокойна совесть и оба не желаете признаться в этом самим себе. И оба, как кажется, безумно влюблены в одну и ту же женщину. Когда я слушал, как вы описываете своего пациента и его порывы, у меня возникло ощущение, что вы говорите о себе самом. Ваш пациент — это ваше зеркало. Вы сказали мне, что он вот-вот получит повышение и станет одним из руководителей издательства, в котором работает, а вы в это время как раз собираетесь занять очень важную должность в здравоохранении. Поразмыслите над этим. Я не говорю: подумайте о власти — во-первых, потому что вы уже о ней думаете, а во-вторых, я не хочу, чтобы меня считали моралистом. Проблема не в том, что человек стремится к власти, а в том, что в этом стремлении отсутствует внутренняя логика.
Карлос Родо вышел от коллеги злой на самого себя. И зачем только он поддался слабости и обратился за помощью! В машине он включил радио и напряг мышцы лица, чтобы стереть с него выражение отчаяния. Стоявшее в самом зените солнце заливало светом улицы, крыши, слепило пешеходов. Карлос Родо почувствовал укол в затылок — сигнал невралгии, которая не заставила себя ждать. Достал из кармана флакон с лекарством и проглотил две капсулы. Он был огорчен тем, что на старика не произвел никакого впечатления рассказ о его многочисленных достижениях, и впервые за долгие годы усомнился в том, что действительно добился успеха.
Был вторник. Вечером на очередной сеанс должен был прийти Хулио Оргас.
Тринадцать
— Что за жизнь! — воскликнул Хулио Оргас, устроившись на диване. — В прошлое воскресенье у меня была Лаура. Мы обедали, занимались любовью. А потом я убил свою канарейку, которая была виновата лишь в том, что не вовремя начала высвистывать “Интернационал”. Кончилось тем, что у Лауры испортилось настроение — а может быть, ее начали мучить угрызения совести, — и она почти убежала из моей квартиры. Не знаю, что нам делать. У меня складывается впечатление, что наши отношения нас никуда не приведут.
— А куда, по-вашему, они должны привести? — спросил у него за спиной Карлос Родо нейтральным тоном, лишенным какой бы то ни было эмоциональной окраски — тем самым, каким он всегда разговаривал с пациентами.
— Не знаю, но уверен: все, что не ведет нас к счастью или гибели, ведет в никуда... в абсолютное никуда. Вчера я работал допоздна — на меня сошло вдохновение. Покончил с делами, которые ждали своего часа не один месяц, и написал стоившую мне немалых усилий рецензию на сборник рассказов одного молодого и дерзкого автора.
— И почему же эта рецензия стоила вам усилий?
— Нужно было высказать в ней два взаимоисключающих мнения: с одной стороны, нельзя было не отметить достоинства рукописи, а с другой — следовало подвести к выводу о нецелесообразности ее издания. Только не спрашивайте меня почему.
— Я и не спрашиваю.
— Что ж, возможно, этот вопрос я задал себе сам. Все дело в том, что я создал шедевр. Три страницы хитросплетений и соединений несоединимого, написанные к тому же длиннейшими периодами. И на этих страницах спрятано мое преступление. Если бы я тратил столько усилий на написание своих романов, я бы давно прославился.
— О каких романах вы говорите?
— Если бы этот вопрос задали не вы, мне послышалась бы в нем ирония. Я имею в виду, естественно, те романы, что мною не написаны. Для меня они, однако, в определенном смысле существуют, словно, после того как я их задумал, они начали развиваться сами по себе, помимо моей воли и без моего ведома, как будто кто-то другой писал их по моим указаниям в том, другом, измерении — том, что скрыто от нас за событиями повседневной жизни. Все мы полагаем, что наша жизнь состоит из того, что на виду, что всем заметно, что происходит или может произойти. Вот вы, например, считаете себя моим психоаналитиком, а я считаю себя вашим пациентом, моя секретарша убеждена, что я ее шеф, а я верю, что она моя секретарша. Лаура не сомневается, что для меня она Лаура, в то время как она для меня Тереса, и я не знаю, к кому она обращается, когда говорит со мной, но уверен, что не к Хулио Оргасу. И вот так, принимая все эти условности, мы и живем. Нет, не подумайте, я не против условностей: благодаря им строятся города и прокладываются автомагистрали, возвышаются империи и формируются иерархии, и все, в общем, функционирует, и неплохо, так что мы в конце концов начинаем верить, что одни вещи происходят раньше других и что первые являются причиной вторых. Но на самом деле все обстоит не так. На самом деле мое место и ваше, к примеру, являются взаимозаменяемыми. Почему вы — психоаналитик, а я — пациент? Только потому, что у вас есть соответствующие дипломы, а мне необходима помощь? Вы даете согласие на то, чтобы лечить меня, а я соглашаюсь лечиться, хотя и сам не знаю от чего. Таким образом, деньги переходят из одних рук в другие, и условная жизнь идет своим ходом. Но наши с вами отношения в один миг могут измениться с той же легкостью, с какой возникли. Иногда все обстоит хорошо, и я со всем согласен, даже со светофорами и с политической системой. Я что-то делаю, и делаю неплохо. Меня повышают по службе. Мой сын хочет, чтобы я сводил его в кино и так далее. Но все же иногда я ненадолго, пусть всего лишь на несколько секунд, мрачнею, превращаюсь в другого человека, хотя окружающие — благодаря соглашению, которое мы все заключили, — продолжают видеть меня таким, каким я был раньше. А что со мной в такие минуты происходит? А происходит то, что я вхожу в контакт с обратной стороной вещей, с иным измерением.
В одном из рассказов Орландо Аскаратэ — того типа, на чью рукопись я писал рецензию, я вам говорил, — повествуется о писателе, романы которого имеют успех только тогда, когда выходят под именем его жены. А у меня есть рассказ — тоже ненаписанный (на бумаге, по крайней мере) — о двух писателях, которые вместе едут в поезде на чрезвычайно важную международную конференцию и, пропустив бокал-другой, решают обменяться текстами своих выступлений. И один из них имеет на этой конференции оглушительный успех, и все литературные приложения печатают его речь и его фотографии на первой полосе, и скоро он становится знаменитым, в то время как истинный автор доклада не просто остается в тени, но и терпит неудачу за неудачей, с каждым днем опускаясь все ниже. Отсюда следует, что не стоит тратить время на поиски собственного пути или стремиться сформировать себя как неповторимую личность. Если бы мы действительно были неповторимыми личностями, нам не потребовалось бы для доказательства этого столько бумаг: справок, паспортов, дипломов и тому подобного. Вот что я по этому поводу думаю.
Хулио замолчал и, приподняв голову, начал рассматривать носки своих ботинок. Находящийся вне поля его зрения Карлос Родо был для него всего лишь сгустком субстанции — правда, слегка грузноватым и лысоватым. Молчание длилось несколько минут, пока его не нарушил психоаналитик:
— Вы рассказали это для того, чтобы подвести меня к какому-то выводу?
— Я хотел показать, что наши действия ни к чему не ведут.
— Как и ваши с Лаурой отношения?
— Вот именно: как наши с Лаурой отношения. Хотя здесь мне нужно быть осторожнее: в прошлое воскресенье она вдруг перестала быть Тересой, но может в любой момент опять стать ею — это не зависит ни от нее, ни от меня.
— И от кого же тогда это зависит?
— Сие есть тайна, связана она с другою стороной реальности, которую мы не можем видеть и которой не можем управлять. Если бы то, что происходит со мной, происходило с героем рассказа Орландо Аскаратэ, то все зависело бы от автора. Впрочем, нет: у меня такое впечатление, что кто-то диктует этому парню то, что он пишет. Попробую объяснить по-другому, и, может быть, вы меня поймете. Я влюбляюсь в женщину, когда думаю, что в ней есть нечто, чего нет у меня, но на что я, тем не менее, имею право. На самом деле мне кажется, что каждая из женщин, на которых я смотрю, обладает фрагментом чего-то, что принадлежит мне. И если случайно в одной из них обнаруживается сразу несколько таких фрагментов — я влюбляюсь. Само собой разумеется, они и понятия не имеют, что владеют моей собственностью. И Лаура не догадывается, что в ней живет Тереса — живет в ее жестах, в ее глазах, в ее голосе, в том, наконец, как рассыпаются ее волосы, когда она кладет голову мне на грудь. Но проходит время, отношения достигают определенной точки, и то, что казалось явным и очевидным, неотъемлемо присущим моей возлюбленной, вдруг исчезает, испаряется и таким же неожиданным образом появляется в другой женщине. И тогда женщина, которую я любил, становится плотной и бесцветной. В ней может еще теплиться какая-то искра, оставаться крохотный осколок того, чем обладала она прежде, но мне этого недостаточно. Мне нужно все или ничего. Иногда мне кажется, что женщины, владеющие тем, что принадлежит мне, передают это друг другу, чтобы свести меня с ума. То, что я сейчас сказал, может показаться вам чушью, но дело обстоит именно так: у женщин есть общие интересы, которые для нас, мужчин, недоступны, они делятся секретами, которые не должны достигать мужских ушей. В последние дни, лежа в постели с Лаурой, я каждый раз думал о том, что ее влагалище соединяется тайными протоками с влагалищами всех женщин, какие были, есть и будут. И каждый раз, входя в нее, я чувствовал, что вхожу в широкую реку, образованную слиянием всех этих потоков.
— Вам известно, что такое бред?
— Это то, что я вам сейчас рассказываю. Но вот в чем дело: бредом можно счесть что угодно. Все зависит от того, под каким углом зрения смотреть. Одно очевидно: женщины, нравится нам это или нет, сообща владеют тем, что является и нашей собственностью. Некоторые из них — те, в которых я обычно влюбляюсь, — умеют лучше хранить то, что ищем мы все, хотя и каждый по-своему. Тереса, к примеру, была чудесным сосудом для хранения совокупностей и для хранения абсолютного. И Лаура тоже: в ней могут уживаться, не мешая друг другу, пятьдесят тысяч разных женщин.
— Вы бредите сознательно. Если так пойдет дальше, то мы, как вы сказали в начале нашей беседы, никуда не придем. Все, что вы наговорили с той минуты, как начался сегодняшний сеанс, есть не более чем дымовая завеса, за которой скрывается ваш страх: вы боитесь разобраться в том, что с вами происходит.
— Бредить сознательно... — задумчиво повторил Хулио, глядя в потолок. Интересное словосочетание. Если бы такое сказал я, вы бы тут же к моим словам прицепились: усмотрели бы в них новую тему для психоанализа. Но я действительно собирался рассказать вам кое-что забавное. В прошлую субботу мне в голову пришла идея нового романа, в котором вы являетесь одним из персонажей. Я уже начал его писать. Речь в нем идет об одном человеке, который, как и я, ходит на сеансы психоанализа к человеку, похожему на вас, и который влюбляется в женщину, похожую на Лауру. В конце концов оказывается, что Лаура — жена психоаналитика, то есть ваша жена. И вот, начиная с этого места, повествование может развиваться в разных направлениях.
— И в каких же? — тон Карлоса Родо стал чуть менее нейтральным, чем обычно.
Хулио вкратце изложил основные варианты.
— Карлос Родо дополнил: “Мне кажется, вы упустили из виду еще одну возможность”.
— Какую? — удивился Хулио.
— Психоаналитик и его жена понимают, что происходит, а пациент — нет.
— Ну!.. Эту вероятность я исключил, поскольку я в данном случае являюсь не только рассказчиком, но и главным героем, и, сами понимаете, не хочу выставлять себя дураком. И к тому же такой поворот сюжета завел бы повествователя в тупик: ни один психоаналитик не станет играть в подобные игры. Если, конечно, речь идет о профессионале, таком, как вы — а персонаж романа, который я собираюсь написать, очень на вас похож. В жизни такие ситуации могут встречаться, а вот в литературе — никогда.
— Это почему?
— Просто жизнь полна невероятных происшествий, которые являются отличным материалом для газетных репортеров, потому что, насколько бы невероятными они ни казались, они являются свершившимся фактом. Однако те же самые происшествия в романе будут выглядеть фальшиво. Законы правдоподобности различны для реальности и для художественной литературы,
— И на каком же из вариантов вы в конце концов остановились?
— В этом-то и проблема: любой из них хорош в качестве завязки сюжета, но ни один ни ведет ни к чему.
— Похоже, сегодня ничто не ведет ни к чему.
— Я хочу сказать, что, сколько бы я ни думал, не могу найти достойного финала ни для одного из вариантов развития сюжета. Точнее, любой из них ведет к развязке, которой мне хотелось бы избежать. И сейчас вам полагается спросить меня, что это за развязка.
— И что это за развязка? — не заставил себя ждать Карлос Родо.
— Преступление.
— Какое именно преступление?
— Преступление на почве страсти, но интеллектуальное по форме. Преступление, от которого выигрывают оба любовника, и притом настолько безупречное, что у них даже не возникает чувства вины.
— То есть жертвой должен стать я? — мрачно произнес сгусток Карлоса Родо.
— Я не ожидал, что вы примете историю так близко к сердцу. И я вам за это очень благодарен.
— Я просто пытаюсь объяснить, что сюжет вашего романа, скорее всего, лишь скрытое проявление агрессии, которая направлена на меня и которую вы не решаетесь продемонстрировать открыто.
— Это было бы слишком простое объяснение. Я сознаю, что вы воплощаете для меня целый ряд наделенных властью людей, связь с которыми я до сих пор не могу разорвать. Но, насколько я понимаю, одной из ваших задач как психоаналитика и является воплощать в себе этих людей. А сейчас, если вы не возражаете, вернемся к разговору о моей работе, а я — напоминаю — писатель.
— Вы уверены, что вы писатель?
— Уверен, доктор. Быть писателем — значит иметь особый темперамент. Писатель в чистом виде — это тот, кто за всю жизнь не написал ни строчки: лучше не давать себе возможности потерпеть поражение в том, что для тебя важнее всего на свете.
— На предыдущих сеансах вы говорили совсем другое. Вы говорили, что невыносимо страдаете от того, что не можете писать.
— Наверное, был в плохом настроении. А сегодня у меня настроение прекрасное.
— Можно узнать почему?
— Не знаю, возможно потому, что я начал писать роман. Или потому, что предчувствую: в скором времени что-то должно произойти. А может быть, причина в другом: выйдя от вас, я пойду в парк, встречу там Лауру, и она, вполне вероятно, догадается, что я больше не влюблен в нее.
— Для вас это означает свободу?
— Думаю, да. Это позволит мне уделять больше времени моему роману. Нельзя одновременно писать и жить, нельзя быть одновременно писателем и персонажем.
— И почему нельзя?
— Не могу объяснить. Нельзя, и все.
— Вы говорили о предчувствии. О том, что что-то должно произойти. Что вы имели в виду?
— У меня такое бывает. Я замечаю едва уловимые признаки событий, уже имевших место в других измерениях, но еще не нашедших отражения в нашем. Например, что мой отец скоро умрет, или что, вернувшись домой, я найду на столе уже написанный роман.
— Какой из этих вариантов вы выбрали бы, будь ваша воля?
— Это неправильная постановка вопроса. Эти события являются единым целым.
— Хорошо, вернемся к тому, о чем говорили раньше. Вы утверждали, что не хотите, чтобы развязкой романа стало преступление. Но вы не объяснили почему.
— Это банально. С определенной точки зрения сюжет моего романа можно рассматривать как комедийный: в нем наличествует любовный треугольник и существует много возможностей для создания запутанных, двусмысленных и при этом очень смешных положений, если читатель ждет именно этого. А если я добавлю сюда преступление, то выйду за рамки водевиля и окажусь в жанре детектива. Получится неоправданное скопление малых жанров.
— Итак: преступление не выход из конфликта?
— Дело в том, что оно-то как раз и является выходом. Преступление облегчает боль, и в конце концов каждый оказывается на своем месте: убитый — в гробу, убийца — в бегах, подстрекатель страдает от угрызений совести, наследники плачут, а читатель со спокойной душой закрывает книгу. Есть ситуации, единственным выходом из которых является преступление. Но я не чувствую себя в силах написать подобное произведение. Кроме того, в этом случае повествование снова заходит в тупик. Будут ли пациент и его любовница по-прежнему любить друг друга, после того как покончат с психоаналитиком? Возможно, и будут, но, чтобы такое продолжение выглядело правдоподобным, потребуется написать еще страниц тридцать, продумывая каждое слово. А может быть, они разлюбят друг друга, и тогда роман получится увечным. Какой смысл заставлять двух невинных любовников совершать преступление, которое ничего не решит?
— Вы разбираетесь в этом лучше, чем я, — пожал плечами Карлос Родо, но, насколько я понимаю, персонажи произведения иногда выходят из повиновения и поступают не так, как хочет автор.
— Вы хотите, чтобы жертвой стал я, и я вас в этом не упрекаю. В самом деле, развитие сюжета может пойти и по такому пути. Психоаналитик может убить своего пациента. Но кто тогда будет продолжать повествование? Ведь рассказчика не станет? Признаюсь, впрочем, что как раз сегодня, за обедом, мне пришла в голову мысль несколько расширить образ повествователя, добавить несколько холодных, как помада на губах трупа, блесток, и дать читателю увидеть часть истории с точки зрения психоаналитика и его жены. При условии, что удастся достичь желаемого эффекта холодности, получилось бы неплохо. Но опыт подсказывает мне, что все персонажи, включая второстепенных и даже третьестепенных, начинают очень активно развиваться, если дать им малейшую волю. Как бы то ни было, вариант, который вы только что предложили, есть лишнее подтверждение ранее высказанной мною мысли: люди легко могут поменяться ролями, достаточно одной случайности. В комедиях положений никто не является на самом деле тем, кем кажется, и в этом смысле их можно назвать реалистическими. Но я не хочу писать реалистический роман.
— Создается впечатление, что вы вообще никакой роман не хотите писать.
— Разумеется. При условии, что этот ненаписанный роман войдет во все энциклопедии и о нем будут написаны целые тома исследований на всех языках мира. Чем более утонченным становится искусство, тем больше приближается оно к ядру непознанного, к пропасти.
— И какова роль читателя во всем этом? Вы уже трижды о нем упоминали.
— В одном детективе — сейчас не вспомню чьем — жертвой является именно читатель. Конечно, автор не может заставить читателя делать то, что он, автор, захочет, но читатель — участник действия. А иногда даже помеха для него — когда у него начинается одышка или когда щелкает зажигалкой, закуривая очередную сигарету. И, по сравнению с другими персонажами, именно он теряет больше всех. Поверьте мне: я выступал в роли читателя множество раз.
— И что же он теряет?
— Время и невинность. Такова жизнь.
— Хорошо, — поднялся со своего места сгусток Карлоса Родо, — закончим на сегодня. Мой вам совет: подумайте до пятницы о своем отношении к нашим сеансам. Мне кажется, вам следует его изменить. Сегодняшнюю встречу вы превратили в игру, при этом единственной вашей целью было избежать разговора о том, что действительно является важным.
— Вам кажутся плодотворными только те сеансы, на которых я мрачный и злой?
Вместо ответа Карлос Родо протянул пациенту руку, которую тот (отметив про себя, что на плечах психоаналитика слишком много перхоти) пожал, прежде чем уйти.
Четырнадцать
Когда Хулио вышел на улицу, солнце уже давно спряталось за затянувшими все небо облаками, которые были обязаны своим появлением стоявшей весь день жаре. Но было сухо, и ничто не предвещало дождя в ближайшие часы.
Подгоняемый нетерпением, он попытался пересечь улицу Принсипе-де-Вергара в том месте, где не было светофора, и его едва не сбила мчавшаяся на большой скорости машина. Возмущенный водитель что-то кричал ему, но Хулио, даже не взглянув в его сторону, продолжал бежать к парку. Однако оскорбления водителя достигли его слуха, и, когда он остановился, чтобы перевести дыхание, он вдруг почувствовал, как на смену хорошему настроению приходит состояние подавленности. Юная парочка, проходившая мимо, разглядывала его, как разглядывают чудака или попрошайку в костюме и при галстуке. И тогда он заметил, что он слишком тепло одет для такого жаркого дня: на нем был плащ, в котором он проходил всю зиму. С Хулио лил пот, волосы растрепались. Под пристальным взглядом юнцов он вдруг отчетливо понял, что начинает стареть и что этот процесс необратим.
И тогда, вместо того чтобы идти в парк, он направился в ближайший бар, где заказал у стойки виски и пошел в туалет. Там он снял плащ, поправил узел галстука, пригладил руками волосы и некоторое время разглядывал зубы, пытаясь определить, насколько они потемнели за последнее время. “Такое чувство, что я прихорашиваю труп”, — пробормотал он, обращаясь к своему отражению, которое ответило ему вымученной улыбкой. С перекинутым через руку плащом он вернулся к стойке, взял свое виски и начал пить, рассчитывая паузы между глотками, чтобы опьянение наступало постепенно и медленно, чтобы алкоголь действовал именно на те зоны его характера, которые особенно в нем нуждались. Позади, за ближайшим к стойке столиком, ссорились влюбленные подростки. Она опустила голову, и ее искаженное плачем лицо закрыли волосы. Официант подмигнул Хулио, кивнув на парочку: “У них вся жизнь впереди. Еще успеют натрахаться, так что пока могут тратить время на ссоры”.
Вульгарность этой фразы покоробила Хулио и пробудила какое-то давно забытое воспоминание, и в ту же секунду восприятие реальности изменилось, как изменилось оно несколькими днями раньше, когда мать подала ему чашку с бульоном. На несколько мгновений он застыл неподвижно, опершись правой рукой на стойку, в надежде, что все вернется на свои места. Наверное, лицо его исказилось — он понял это по напряженному взгляду официанта.
Тогда он глотнул еще виски и перевел взгляд на экран телевизора, стоявшего на другом конце стойки. На экране женщина с длинными волосами и изумленными глазами объявляла о выступлении хора молодых священников, исполнявших грегорианские песнопения. Картинка сменилась, и экран заполнили сутаны, каждая из которых была увенчана лицом с отсутствующей улыбкой. Несколько секунд священники простояли в нерешительности, потом тот из них, что казался старше, вышел из строя, повернулся спиной к зрителям, взмахнул рукой. Рты открылись, и из них полились первые такты “Интернационала”.
Хулио заплатил за виски и вышел на улицу. Движение еще не было интенсивным. Машины останавливались и трогались с места четко и быстро — казалось, чья-то рука управляет ими с помощью невидимого пульта. Пешеходы деловито двигались в разных направлениях с таким видом, словно единственное, что их беспокоило, была работа их собственных внутренних механизмов. Пелена облаков казалась теперь куском ткани, туго натянутым на раму.
У входа в парк несколько старичков играли в петанк. Некоторые были совсем старые, но это была старость стали — казалось, с годами они не дряхлели, а становились крепче.
Хулио шел к тому месту, где обычно встречался с Лаурой. У него снова слегка поднялась температура, и неприятные ощущения помогали ему оценить каждое движение своего тела, особенно таза и плеч, и это возбуждало его. У него было крепкое тело и светлая голова, способная принять решение или отдаться чувству.
Но Лауры не было. Он поискал среди немногочисленных деревьев, стараясь не привлекать внимания знакомых женщин, которые, как всегда, привели сюда своих детей, но не обнаружил ни Лауры, ни ее дочери. Тогда Хулио покинул парк, сел в свою припаркованную неподалеку машину и поехал в издательство. За время короткого пути он пришел к выводу, что все еще любит эту женщину, но не ощутил никакой грусти. Наоборот, он чувствовал себя спокойным и уверенным. И знал, что все будет хорошо.
Его секретарша уже ушла, но на столе лежала оставленная ею записка: “Звонил большой шеф. Он хочет с тобой поговорить. Целую, Роса”.
Хулио набрал телефонный номер из четырех цифр и подождал несколько секунд, пристально глядя на листок с написанными рукой секретарши строчками. Потом произнес: “Роса оставила мне записку. Вы хотели меня видеть?” Повесил трубку, пружинисто встал со стула и направился к кабинету директора.
— Продолжаешь учить английский? — спросил шеф, как только Хулио вошел.
— Да, — ответил тот. — Языки такая штука — чем больше знаешь, тем отчетливее понимаешь, как далек от совершенства. И еще к дантисту ходить постоянно приходится.
— А что так?
— Пара коренных зубов никуда не годится. О чем вы хотели со мной поговорить?
Директор выдвинул ящик стола и достал оттуда рукопись Орландо Аскаратэ, к обложке которой скрепкой была прикреплена рецензия, написанная Хулио. Посмотрел сначала на рукопись, потом поднял глаза на Хулио и, помолчав, произнес: “Мне показалось в прошлый раз, что ты меня понял. Эту книгу мы издавать будем. Так решено наверху”.
Хулио помолчал немного, разглядывая стоявший напротив него ящик с карточками, словно тот представлял для него чрезвычайный интерес, потом ответил: “Да я не имею ничего против. Перечитайте внимательно мою рецензию, и убедитесь, что я не написал о рукописи ни одного плохого слова. Единственное, что вызывает у меня некоторые опасения, это коммерческая сторона дела.
— Теперь все ясно, — сказал директор, давая этим понять, что вопрос о публикации рукописи закрыт. — Эти вопросы пусть тебя больше не волнуют. А рецензию возьми и подкорректируй. И, пожалуйста, выражайся попроще: у тебя там встречаются такие длинные фразы, что, когда дочитаешь до конца, уже забываешь, о чем шла речь в начале. И помни, что официально решение принимаешь ты и берешь на себя ответственность тоже ты.
— Согласен, — кивнул Хулио и заговорщически улыбнулся директору. Но тот на его улыбку не ответил.
Вернувшись в свой кабинет, он разорвал написанную им ранее рецензию и взялся за новую. На третьей фразе он уже получал удовольствие от работы: слова как будто сами стекали с кончика шариковой ручки и послушно выстраивались во фразы, занимая именно для них предназначенные места, как занимают свои места фигуры в геометрическом узоре. Он не испытывал никакой злобы к Орландо Аскаратэ: он никогда бы до такого не опустился. “Жизнь в шкафу” будет иметь успех, а ее автор прославится.
Хулио вышел из издательства в семь. Облачная пелена уже не казалась туго натянутой — сейчас это были огромные рыхлые кучи, с трудом передвигавшиеся в сторону юга. Когда он шел к гаражу, где оставил машину, его окликнул по имени человек примерно его лет, полностью облысевший, но при этом выглядевший как постаревший подросток. На нем были джинсы и переливавшаяся всеми цветами радуги рубашка, поверх которой был надет довольно мятый льняной пиджак. Ботинки на нем были желтые.
Это был Рикардо Мелья, когда-то однокурсник Хулио, а впоследствии автор полудюжины приключенческих романов, имевших относительный успех. За последние годы Хулио несколько раз пересекался с ним на презентациях книг и коктейлях, имевших очень отдаленное отношение к литературе, но старался избегать его — отчасти оттого, что испытывал зависть неиздаваемого писателя к более удачливому коллеге, отчасти потому, что презирал Рикардо за манеру одеваться и за его книжки. Рикардо Мелья очень настойчиво приглашал зайти посидеть в баре, и Хулио в конце концов согласился — все же это лучше, чем просидеть весь вечер одному в квартире. Все бары по соседству оказались переполнены, и Мелья предложил: “Слушай, а пойдем ко мне домой? Я живу в двух шагах отсюда, на Сеа-Бермудес. У меня нам будет спокойнее”. Хулио не смог удержаться от соблазна. Он чувствовал себя очень комфортно рядом со второстепенным писателем, сознавая, что сам он был представителем издательства первостепенного. С другой стороны, Рикардо Мелья болтал без умолку, и Хулио достаточно было время от времени вставить какое-нибудь междометие. Реальность по-прежнему виделась в странном свете, а приятное ощущение, какое бывает при повышенной температуре, не покидало его. Хулио чувствовал каждую клеточку своего тела, каждую капельку пота, покрывавшего его. Он казался сам себе рельефным комом, положенным на плоскую фотографию, которая пыталась выдать себя за жизнь.
Они вошли в роскошный подъезд, находившийся под надежной защитой двух охранников и одного консьержа.
— Просто здесь живет один министр, — пояснил Рикардо, когда они поднимались на лифте.
Квартира была огромная и вся заставлена предметами искусства, вывезенными из Африки и Южной Америки. Просторная гостиная была разбита на несколько зон, и в каждом из ее многочисленных углов стоял большой, обитый кожей, диван и столик со стеклянной столешницей на единственной золоченой ножке. В простенках между многочисленными окнами были развешаны слоновьи бивни, шкуры различных животных и музыкальные инструменты, большей частью Хулио неизвестные. Женщина и парнишка лет пятнадцати-шестнадцати играли в парчис на лежащем посреди гостиной персидском ковре. Женщина была блондинка с маленькими блестящими глазами. Ей было около сорока, но зрелость только подчеркивала ее достоинства. Заметно было, что природа и время работали над ней прилежно и не спеша. Ее нос был безупречен, а рот чуть великоват — словно создан для улыбки. Просторная оранжевая блуза была надета прямо на голое тело, и маленькие груди соблазнительно приподнимали тонкую ткань. Когда она встала с ковра, Хулио заметил, что под ее обтягивающими брюками тоже ничего не было надето.
— Моя жена и ее сын от первого брака, — представил игроков в парчис Рикардо Мелья. — А этого важного сеньора, — он указал на Хулио, — зовут Хулио Оргас. Он издает хорошие книги и продает их за хорошие деньги. Он мой товарищ по университету и не только по университету.
— Будете играть с нами? — спросила женщина.
— А и правда, давай? — поддержал ее Риккардо Мелья. — Пара на пару: ты с моим другом, а я с твоим сыном.
Хулио привела в восторг мысль о возможности хоть как-то пообщаться с этой женщиной, но ему очень хотелось выпить, а виски ему никто не предложил. Перед парнишкой стояла бутылка кока-колы.
— Как тебя зовут? — обратился Хулио к женщине, бросив кости.
— Лаура, — ответила она, обнажив в улыбке зубы, прекрасно сочетавшиеся с декором стен.
— У меня есть подружка, которую тоже зовут Лаура, — улыбнулся Хулио. — Но это не ты.
— Никогда не говори “никогда”, — парировала она, слегка щурясь, словно была близорука. — Твоя очередь бросать, Рикардо.
Некоторое время они играли молча. Парнишка сидел с отсутствующим видом, но каким-то странным образом контролировал каждое перемещение каждой фишки на доске. Когда партия уже близилась к концу, Рикардо Мелья поднялся с ковра и жестом пригласил Хулио следовать за ним. Женщина и мальчик продолжали играть. Помещение, куда они пришли, служило, вероятно, кухней, хотя больше походило на операционную. Рикардо Мелья открыл один из шкафов и достал оттуда несколько маленьких конвертиков.
— Они, — кивнул он в сторону гостиной, — в парчис играют целыми днями. А мы с тобой пока нюхнем. Здесь кока. Чистая, привезена из Колумбии.
Мелья показал, что и как нужно делать, Хулио следовал его указаниям. Когда порошок попал в ноздри, он с трудом удержался, чтобы не чихнуть.
— Мне очень нравится твоя жена, — произнес он беспристрастно, словно повторял чьи-то слова.
— Она из тех баб, что мужиков тысячами с ума сводят. Я пытался ей изменять, но не смог.
— Почему?
— Потому что у нее есть какой-то секрет, которым, кроме нее, не владеет никто.
— И что это за секрет? Сейчас я похож на своего психоаналитика.
— Если б я знал! Это какая-то мистика. Она с одинаковым энтузиазмом играет в парчис и готовится к путешествию в Китай. Такое впечатление, что у нее отсутствует шкала ценностей. Ты меня понимаешь? И потом, всегда кажется, что она только что вернулась из таинственных мест, куда остальным смертным путь заказан.
— Понятно, — кивнул Хулио, сохраняя прежнюю беспристрастность тона.
Они сели друг напротив друга за большой белый стол, в центре которого стояла какая-то необыкновенная ваза. Рикардо Мелья разлил виски и, проведя рукой по лысине, предупредил: “Пока не пей. Подожди, пока кокаин начнет действовать”. И вдруг добавил: “У меня тут сзади какая-то шишка. Вот увидишь: окажется, что это рак”.
— Какой рак? — спросил Хулио.
— Пластиковый. Они самые гигиеничные.
Оба посмеялись и снова замолчали. Обоим, казалось, было очень хорошо. Хулио обвел взглядом кухню. Сделал глоток и поинтересовался: “Слушай, Рикардо, откуда у тебя деньги на всю эту роскошь?”
— А! Отовсюду понемножку. Бизнес. Сейчас я на мели, но вот-вот должен закончить роман и пару сценариев. А потом уеду в сельву ненадолго. Набираться впечатлений.
— С Лаурой?
— Нет, она останется здесь. Она думает, что я Хемингуэй.
Хулио задумался. Он почти видел, как мысли движутся внутри его головы, как формируются суждения, как память регистрирует их. Он наблюдал за ходом мыслей с той же легкостью, с какой наблюдал за работой висевших на противоположной стене часов в прозрачном корпусе.
Да, видно, Рикардо Мелья принадлежит к числу типов, для которых заработать деньги ничего не стоит. Он говорил о поездке в сельву (подумать только: в сельву!) с той же легкостью, с какой другие говорят о походе в ресторан. Хулио сделал еще глоток виски и предостерег: “Будь осторожен, не то дело может кончиться тюрьмой или еще чем похуже”.
— С чего бы это? — удивился Рикардо Мелья.
— Нельзя иметь так много хороших вещей, ничего за это не платя.
Рикардо Мелья долго раздумывал над словами Хулио. Потом заговорил: “Ты рассуждаешь как истинный христианин. То есть, полагаешь, что если случилось что-нибудь хорошее, то потом обязательно должно произойти что-нибудь плохое. Поэтому ты и писать не смог.
— Сейчас я влюблен, — возразил Хулио, — и, если повезет, напишу роман.
— Любовь не помогает писать романы. Она отнимает слишком много сил, — произнося эти слова, Рикардо Мелья выстукивал стаканом по столу ритм одному ему слышной мелодии.
— Ты помнишь “Интернационал?” — спросил Хулио.
— Конечно, помню. Мы пели его на трех языках. Только я его давно не слышу.
— А я слышу, но не обращаю внимания. Кстати, ты ведь моложе меня, а почему-то совсем лысый.
— Это из-за химиотерапии.
— Ясно, — ответил Хулио. — Можно попросить тебя об одолжении?
— Говори.