Недобрая старая Англия Коути Екатерина
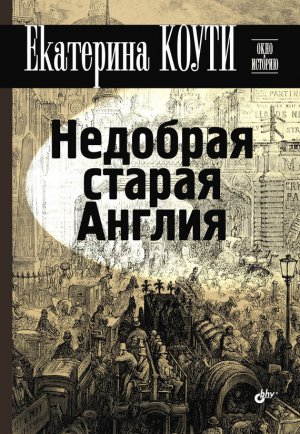
Англичане предпочитали, чтобы слуг можно было отличать по одежде. Когда горничная поступала на службу, в своем жестяном сундучке — непременном атрибуте служанки — у нее обычно лежали три платья: простое платье из хлопчатобумажной ткани, которое надевали по утрам, черное платье с белым чепцом и фартуком, которое носили днем, и выходное платье. Средняя стоимость платья для горничной в 1890-х годах равнялась 3 фунтам — т. е. полугодовому жалованью несовершеннолетней горничной, только начавшей работать. Помимо платьев, горничные покупали себе чулки и туфли, и эта статья расходов была бездонным колодцем, ведь из-за беготни по лестницам обувь снашивалась быстро.
В традиционную униформу лакеев входили брюки до колена и яркий сюртук с фалдами и пуговицами, на которых был изображен фамильный герб, если таковой у семьи имелся. Дворецкий, король прислуги, носил фрак, но более простого покроя, чем фрак хозяина. Особой вычурностью отличалась униформа кучера — начищенные до блеска высокие сапоги, яркий сюртук с серебряными или медными пуговицами и шляпа с кокардой.
Лакей в клубе. Рисунок из журнала «Панч». 1858
Викторианский дом был построен так, чтобы разместить два отличных друг от друга класса под одной крышей. Для вызова прислуги устанавливали систему звонков, со шнурком или кнопкой в каждой комнате и панелью в подвале, на которой было видно, из какой комнаты пришел вызов. Хозяева проживали на первом, втором и иногда третьем этаже. У камердинера и камеристки были комнаты, зачастую смежные со спальней хозяев, кучер и грум жили в помещениях возле конюшни, а у садовников и дворецких могли быть небольшие коттеджи.
Глядя на такую роскошь, слуги нижнего звена наверняка думали: «Везет же некоторым!» Им приходилось спать на чердаке, а работать — в подвале. Когда газ и электричество стали широко использоваться в домах, их редко проводили на чердак — по мнению хозяев, это было непозволительной тратой. Горничные ложились спать при свечах, а холодным зимним утром обнаруживали, что вода в кувшине замерзла и чтобы хорошо умыться, потребуется как минимум молоток. Сами же чердачные помещения не отличались эстетическими изысками — серые стены, голые полы, матрасы с комками, потемневшие зеркала и растрескавшиеся раковины, а также мебель в разной стадии умирания.
От подвала до чердака — большое расстояние, а хозяевам вряд ли понравится, если слуги снуют по дому без веской на то причины. Эта проблема решалась наличием двух лестниц — парадной и черной. Лестница, этакая граница между мирами, прочно вошла в викторианский фольклор, но для слуг она была настоящим орудием пытки. Им приходилось носиться по ней вверх и вниз, таская тяжелые ведра с углем или с горячей водой для ванны. В то время как господа обедали в столовой, слуги столовались на кухне. Их рацион зависел от доходов семьи и от щедрости хозяев. В некоторых домах обед для слуг включал холодную птицу, овощи, ветчину, в других прислугу держали впроголодь. Особенно это относилось к детям и подросткам, за которых некому было заступиться.
До начала XIX века слугам не полагались выходные. Каждая минута их времени всецело принадлежала хозяевам. Но в XIX веке хозяева стали давать служанкам выходные или разрешать им принимать родственников (но ни в коем случае не ухажеров!). А королева Виктория устраивала ежегодный бал для дворцовых слуг в замке Балморал.
Отношения между хозяевами и слугами зависели от многих факторов — и от общественного положения хозяев, и от их характера. Обычно чем более родовитой была семья, тем лучше в ней относились к прислуге. Аристократам с длинной родословной не требовалось самоутверждения за счет прислуги, они и так знали себе цену. В то же время нувориши, чьи предки относились к «подлому сословию», могли третировать слуг, тем самым подчеркивая свое превосходство. Следуя завету «возлюби ближнего своего», часто господа заботились о слугах, передавали им поношенную одежду и вызывали врача, случись им заболеть, но это вовсе не означало, что прислугу считали равной себе. Барьеры между классами поддерживались даже в церкви — в то время как господа занимали передние скамьи, их горничные и лакеи садились на задних рядах.
Общественный транспорт и профессия кучера
До эпохи поездов наиболее популярным средством передвижения из города в город были дилижансы (stagecoach). В Англии такой вид транспорта получил распространение в XVI веке и пользовался популярностью вплоть до начала XX века. Дилижанс представлял собой четырехколесную карету, запряженную четверкой лошадей. Рамы вокруг окон и колеса красили в ярко-красный цвет, по бокам большими буквами были намалеваны место отправления и место назначения. Пассажирские места размещались как внутри, так и снаружи. Те, что снаружи, располагались на крыше или на выступе позади кареты. Дилижансы путешествовали от одной станции к другой, на которых меняли лошадей, и путешествие из города в город могло растянуться на несколько дней. Скрипя, карета ползла по дороге со скоростью приблизительно 4 мили (6 км) в час. Если дорога была в гору, пассажиров могли попросить выйти из кареты, чтобы лошади не надорвались, взбираясь по холму.
В 1784 году в Англии появился еще один вид дилижанса — почтовая карета (в Ирландии — с 1799 года). Почтовые кареты продержались до 1850-х годов, когда их окончательно вытеснили поезда. Фактически, это был дилижанс, который, помимо перевозки пассажиров, развозил еще и почту. Прежде почту доставляли конные почтальоны, но так как они путешествовали в одиночку, то часто становились жертвами разбойных нападений. В этом плане почтовые кареты, сопровождаемые вооруженным охранником, были надежнее. К месту назначения они прибывали быстрее.
По контракту с Почтовым ведомством работали частные компании, но с начала XIX века Почтовое ведомство обзавелось собственными каретами. Сопровождавшие их охранники носили черные шляпы и алые ливреи с синими лацканами и золотыми галунами. Они были хорошо вооружены — двумя пистолетами и мушкетоном. В случае поломки кареты охранники обязывались самолично доставить почту, хотя бы и пешком. На протяжении поездки могло смениться несколько кучеров, но охранник сопровождал почту от начала и до конца. Ему выдавали часы, чтобы он точно следовал расписанию, и горн, чтобы предупреждать местных почтальонов о приближении кареты. Услышав горн, привратники на заставах, где взималась пошлина, немедленно распахивали ворота — если почтовой карете приходилось останавливаться, их могли оштрафовать. Остальные кареты обязаны были уступать дорогу почтовым, так что горн служил предупреждением и им.
В общем и целом путешествие на почтовой карете было если не комфортным, то относительно безопасным. Впрочем, случались и курьезы. Так, в 1816 году почтовая карета, направлявшаяся из Эксетера в Лондон, уже въезжала на постоялый двор где-то на равнине Солсбери, как на лошадей набросилась… львица! Она сбежала из передвижного зверинца. Прежде чем охранник успел отреагировать, львица переключилась на крутящегося рядом пса, погналась за ним и растерзала его на месте. Выиграв время, перепутанные пассажиры бросились в гостиницу и забаррикадировали двери, опасаясь, как бы львица не добралась и до них. В конце концов хозяин зверинца отыскал ее в одном из сараев и забрал с собой. Можно представить, как долго пассажиры вспоминали это происшествие!
Популярным городским транспортом были омнибусы и кэбы. Основоположником системы омнибусов стал Джордж Шиллибер в 1829 году. Первый лондонский маршрут начинался в пригороде Пэддингтона, проходил через Риджентс-парк и заканчивался в Сити. Все путешествие длиною в 5 миль занимало 1 час.
Места в омнибусе располагались как внутри, так и снаружи. Чтобы добраться до мест на крыше, нужно было вскарабкаться по железной лестнице, придерживаясь за ремень или за поручень. Возле кучера находились 2 или 4 места, которые обычно занимали постоянные клиенты.
Внутри омнибус был обит бархатом. Сиденья располагались с двух сторон, на каждом могло поместиться 5 человек. Воздух проникал внутрь лишь когда открывали дверь, а крохотные оконца едва пропускали свет. На полу лежала солома, чтобы у пассажиров не мерзли ноги, но она быстро пачкалась и намокала. Согласно рассказам современников, внутри было довольно противно, особенно если набьется сразу много народа. Кто-нибудь отдавит вам пальцы, ткнет в бок зонтиком в качестве просьбы открыть дверь, под ухом разорется младенец, а сосед слева непременно окажется карманником. Кроме того, в некоторых омнибусах гнездились блохи. Неудивительно, что мужчины предпочитали путешествовать снаружи, щедро оставляя внутренние сиденья дамам.
Уличное движение в Лондоне. Рисунок Гюстава Доре из книги «Паломничество». 1877
Омнибусы начинали работу в 8 утра. К этому времени мелкие служащие уже должны были находиться на рабочих местах, так что на омнибусах путешествовал преимущественно средний класс. Если пассажир, желавший прокатиться на омнибусе, выглядел недостаточно солидно, то кучер вполне мог проехать мимо или же просто замедлить ход, предлагая запрыгнуть на ходу.
Кондуктор стоял на ступеньке слева от дверей. В его обязанности входило зазывать — или отсеивать — пассажиров, брать плату за проезд, а в эпоху кринолинов еще и придерживать дамскую юбку, чтобы она не задралась, пока ее владелица пытается протиснуться в салон. Поначалу в омнибусах не было билетов — кондуктор просил столько, сколько считал нужным. А когда билеты все же ввели, кондукторы устроили забастовку, которая, разумеется, прошла впустую, потому что никому не нравится произвол.
Пассажиры жаловались на грубость и жадность кондукторов, старавшихся набить в салон побольше народа, сами же кучера и кондукторы стенали от суровых требований владельцев компаний. Зарабатывали они неплохо: водитель в середине века получал от 20 до 34 шиллингов в неделю, не считая чаевых за сиденья на облучке, кондуктор — около 20 шиллингов. Но на эти деньги нужно было содержать семью, детей и неработающую жену. Следуя «духу времени», простые работяги, как и представители средних классов, стремились к тому, чтобы их жены не работали вне дома. Только в таком случае можно было претендовать на респектабельность.
Рабочий день начинался около восьми утра, а заканчивался в полночь, так что почти весь день извозчик и кондуктор тряслись в омнибусе, каждый на своем месте. Перехватить обед на постоялом дворе, во время пятнадцатиминутной остановки, было большой удачей, и многие извозчики обедали, не сходя с облучка. Выходные им тоже не полагались. Как сокрушался один кондуктор: «Я никогда не посещаю общественные места, ни церкви, ни театры. Разве что получу отпуск, но это раз в два года… Зимой я вижу своих троих детей только по ночам, когда они уже спят… Если они разревутся, мне это не мешает — после пятнадцатичасового дня под открытым небом меня уже ничем не разбудишь» [19]. К тяжким условиям труда добавлялось недоверие со стороны начальства. Хозяева опасались, что подчиненные могут обсчитать их, провезти больше пассажиров и сдать меньше выручки, поэтому устраивали проверки — например, нанимали даму респектабельного вида, которая подсчитывала число пассажиров и прикидывала, кто из них платит за долгое путешествие, а кто — за короткое.
Извозчик. Рисунок из журнала «Панч». 1870
Соперниками омнибусов были кэбы, пришедшие на смену наемным каретам. В XVIII и начале XIX века снять наемную карету можно было на постоялом дворе, причем за немалую сумму. В своей прошлой жизни наемные кареты были вышедшими на пенсию экипажами аристократов, и неудивительно, что они ползли еле-еле. Да и куда им было спешить при отсутствии конкуренции? Но уже в 1820-х из Парижа в Лондон добралась мода на кабриолеты, или «кэбы», — легкие экипажи, лихо разъезжавшие по улицам в поисках клиентов. Хэнсом, двухместный двухколесный экипаж, в котором сиденье кучера, хорошо приподнятое, располагалось сзади, стал одним из главных символов викторианского Лондона.
Извозчики были группой разношерстной, среди них встречались бывшие торговцы, клерки, плотники, лакеи, бакалейщики, даже взломщики и карманники. Некоторые покупали карету и лошадь, другие же арендовали их у компаний. Чтобы хватило денег и с компанией расплатиться, и домой унести, приходилось работать в поте лица. У извозчиков было несколько смен, самая долгая длилась около 20 часов, начинаясь в 10 утра и заканчиваясь уже следующим утром. Когда кэбби так уставал, что едва не валился с облучка, он просил доработать смену кого-нибудь из нелицензированных кучеров, которые бродили поблизости. Утратив лицензию за какой-то проступок, они могли разве что полировать медь на экипажах или, с оглядкой, заменять более удачливых товарищей. Участь разжалованного кэбби была незавидной, так что извозчики держались за свои места.
Санитары улиц
«Жалкие привратники и метельщики сметают в канавы клочья газет и прочие жалкие отбросы, а отбросы человеческие, еще более жалкие, наклоняются над этим мусором, роются, шарят там, в поисках чего-нибудь еще годного на продажу» [20], — так в романе «Наш общий друг» Диккенс описывает лондонские улицы. Английский классик едва ли преувеличивал. Конский навоз, солома, гнилые овощи на рыночных площадях, кости, устричные раковины и лавины золы из бесчисленных каминов — все это создавало несусветную грязь. Нужно отдать лондонцам должное, они признавали проблему и пытались с ней бороться, в результате чего и возникали причудливые профессии, которые сегодня внушают ужас.
Бичами городских улиц были зола и навоз. По официальным данным, в 1840-х годах лондонское семейство среднего класса сжигало около 11 тонн угля в год. Дома победнее обходились двумя тоннами, но цифра все равно значительная. Куда же девалось столько золы?
Несознательные горожане вытряхивали ее на улицы или оставляли груды золы во дворе. Их более респектабельные соплеменники прибегали к услугам мусорщиков, которых нанимали от лица всего прихода. В назначенные дни мусорщики приезжали со своими телегами и лопатами, грузили золу и прочие отходы и увозили подальше. Нередко те же мусорщики выступали в роли золотарей, чистивших по ночам выгребные ямы, но в этом случае каждый домовладелец договаривался с ними отдельно — регулярная чистка выгребных ям была скорее роскошью, чем необходимостью. Мусорщиков отличали по брюкам до колен и сероватым от золы курткам. Несмотря на то, что они изо дня в день вдыхали пыль, мусорщики были дюжими парнями, высокими и широкоплечими — другие бы на такой работе не задержались.
Наравне с золой мусорщики сметали с улиц навоз и любые другие отбросы — кости, тряпки, гвозди. Ничего не пропадало, все шло в дело. Высушенный навоз пересеивали, более мелкую пыль продавали на кирпичные заводы для изготовления кирпичей, более крупную — фермерам на удобрения. Кости и тряпки забирали старьевщики, раковины и треснувшие кирпичи — строители, старую обувь — изготовители берлинской лазури.[4] Даже современным европейцам, помешанным на повторных переработках, трудно представить, до какой степени их предки тряслись над мусором.
Наполнив телеги доверху, мусорщики свозили свои сокровища на свалку, где и происходила сортировка. Свалки располагались в пригородах, среди пустырей или же прямо возле домов бедняков, чье здоровье мало кого волновало. Журналист Генри Мэйхью так описывал свой визит на одну из таких свалок: «В центре высится гора мелкой навозной пыли, рядом с ней груды поменьше из пыли вперемешку с мусором, подготовленным к сортировке. Среди этих груд, вооружившись железными ситами, суетятся женщины и старики и отсевают крупную пыль от мелкой. На другом конце двора расположилась гора из угольков и золы, готовых к отправке на кирпичные заводы. Вся свалка бурлит жизнью: кто сеет, кто выгребает мусор, время от времени телеги сваливают свой груз и отправляются за новым. В грудах мусора барахтаются куры, а многочисленные свиньи роются в требухе и отходах, собранных с кухонь и рынков» [21].
Свалки принадлежали частным владельцам, которые наживали капиталы на перепродаже мусора. Вспомнить хотя бы мистера Хармона или его преемника, «Золотого Мусорщика» Боффина из романа «Наш общий друг». В свою очередь, хозяева свалок нанимали работников, получавших за свой труд 1 шиллинг в день. Дети зарабатывали и того меньше — 3–4 пенса. Как показывает Диккенс, в грудах мусора можно было найти вещи и поинтереснее костей — например, пропавшее завещание. Но если работники находили деньги или драгоценности, по условиям найма они обязаны были сдать сокровища хозяину. За попытку припрятать добро им грозило увольнение.
Не все городские отходы оседали на свалках. По улицам сновали собиратели окурков, клочков бумаги, костей, но самая неаппетитная профессия была у pure finders. «Собирателями чистоты» называли тех, кто занимался собиранием собачьих экскрементов. Этот эвфемизм возник в связи с тем, что собачий кал, наравне с птичьим пометом, использовали для очищения шкур в кожевенных мастерских. Вдобавок, «собиратель чистоты» звучит гораздо внушительнее, чем «собиратель нечистот».
По подсчетам Генри Мэйхью, в середине века в Лондоне работало около 240 «собирателей чистоты». Большинство составляли нищие старики и старухи, неспособные заниматься иным трудом. Разницу между собирателями обычного мусора и собирателями помета можно было определить на глаз. У первых за плечами был мешок, а в руках остроконечная палка, которой они ворошили груды мусора. Их встречали в темных переулках, куда выливали помои и выносили сор. В отличие от своих коллег, «собиратели чистоты» ходили повсюду, ведь собакам закон не писан и место для туалета они выбирают произвольно. С собой «собиратели чистоты» носили объемистую корзину с крышкой, чтобы не оскорблять прохожих ее содержимым. Иногда на правую руку они натягивали кожаную перчатку, но гораздо чаще обходились без оной. Вымыть руку проще, чем возиться со стиркой.
Преуспевающий искатель экскрементов в день мог насобирать полное ведро, которое затем продавал в кожевенную мастерскую. Ведро стоило от 8 пенни до шиллинга в зависимости от качества продукта. Да-да, в этом ремесле тоже были свои критерии. Кожевенники сообщали поставщикам, помет какого цвета и консистенции они предпочитают. Но, как и в любой профессии, здесь не обходилось без мошенничества. Нечистые на руку собиратели отколупывали строительный раствор со стен домов и смешивали его с собачьим пометом для большего веса или лучшей консистенции. Процветал также блат: можно было договориться с владельцами питомников и, не тратя особых усилий, выгребать оттуда собачий кал. Впрочем, не все кожевенники принимали такой товар. Собак в питомниках кормили всякой гадостью, а это в свою очередь отражалось на продуктах их жизнедеятельности.
Из-за высокого содержания щелочей помет применялся в дубильном процессе. Сначала его втирали в шкуру, снаружи и изнутри. Это делалось для того, чтобы «очистить» шкурку. Затем последнюю подвешивали сушиться, а экскременты помогали вытягивать из нее влагу. После просушки кал соскребали. Таким образом очищали кожу, которая шла на изготовление обуви, перчаток, книжных переплетов и т. д. Выдубленная кожа была невысокого качества и сохраняла неприятный запах, так что изделия из нее ценились недорого. Тем не менее бизнес процветал.
Столь же неаппетитной была профессия «тошера» — собирателя мусора вдоль берегов Темзы и в лондонских клоаках, открытых сточных трубах, которые в середине XIX века сменила централизованная система канализации. Тошеры искали в первую очередь деньги, но сгодились бы и любые другие металлические предметы — англичане все пускали в ход. За незаконное проникновение в сточную трубу можно было поплатиться штрафом в 5 фунтов, но это не останавливало храбрецов. Не пугали их и другие опасности, таившиеся в зловонных трубах, как-то: обрушение стен и потолков, груды склизких кирпичей, через которые приходилось перелезать в потемках, внезапные потоки нечистот, и, конечно, полчища крыс. К своим вылазкам тошеры готовились тщательно: захватывали фонарь, холщовый мешок, чтобы складывать добычу, и длинный шест с изогнутым металлическим наконечником. Шестом шарили в лужах, а случись тошеру увязнуть в трясине, им можно было зацепиться за что-нибудь поблизости.
Тошер в канализации. Рисунок из книги Генри Мэйхью «Рабочие и бедняки Лондона». 1861–1862
Несмотря на обилие мусорщиков всех мастей, в Лондоне середины XIX века было грязно: усилий уборщиков было явно недостаточно, чтобы вычистить эти авгиевы конюшни. Хотя кэбы и омнибусы не досаждали горожанам выхлопными газами, лошади производили навоз, регулярно и в больших количествах. По подсчетам Генри Мэйхью, на лондонских улицах ежедневно находилось около 24 214 лошадей. В год они оставляли на улицах 36 662 тонны навоза, Учитывая, что на городские рынки также перегоняли скот, навоза было еще больше. Летом он высыхал и превращался в едкую пыль, зимой смешивался со снегом до состояния вонючей бурой массы. В начальных строках «Холодного дома» Чарльз Диккенс так описывает столичную грязь: «Несносная ноябрьская погода. На улицах такая слякоть, словно воды потопа только что схлынули с лица земли, и, появись на Холборн-Хилле мегалозавр длиной футов в сорок, плетущийся, как слоноподобная ящерица, никто бы не удивился. Дым стелется, едва поднявшись из труб, он словно мелкая черная изморось, и чудится, что хлопья сажи — это крупные снежные хлопья, надевшие траур по умершему солнцу. Собаки так вымазались в грязи, что их и не разглядишь. Лошади едва ли лучше — они забрызганы по самые наглазники» [22].
Однако некоторым лондонцам невообразимая грязь давала возможность заработать. Это были так называемые crossing-sweepers — подметальщики перекрестков. В ненастную погоду они ловко орудовали метлами, расчищая дорогу прохожим, которые шли по тротуару или пересекали улицу. Таким образом, дамы могли перемещаться в пространстве, почти не замарав кромку платья.
Подметание перекрестков было занятием хотя и не слишком приятным, но довольно простым — нужно лишь время от времени менять метлу. Как и многие другие занятия городской бедноты, включая продажу спичек или пение песен, это также был удобный предлог для попрошайничества. Вместе с тем, метельщики могли с чистой совестью заявить, что не просто клянчат у прохожих деньги, но занимаются общественно полезным делом! Поскольку они зачастую работали на одном и том же участке, иногда десятилетиями, жители окрестных домов подкармливали их, а порою давали еженедельное вспомоществование.
Подметанием перекрестков занимались как мужчины, так и женщины, как взрослые, так и дети. Среди взрослых попадались бывшие слуги, потерявшие место из-за болезни, немощные старики и калеки. Одним из таких калек был чернокожий моряк, потерявший обе ноги до колена во время пожара на судне. Он предпочитал работать зимой, потому что тогда его культи замерзали и передвигаться на них было проще. В остальное время он просил милостыню.
Гораздо чаще взрослых подметанием перекрестков занимались дети. Наиболее известным малолетним метельщиком является Джо из «Холодного дома», который не выучился даже элементарной грамоте и был вынужден бессмысленно скитаться от места к месту:
«Зовут — Джо. Так и зовут, а больше никак. Что все имеют имя и фамилию, он не знает. Никогда и не слыхивал. Не знает, что „Джо“ — уменьшительное от какого-то длинного имени. С него и короткого хватит. А чем оно плохо? Сказать по буквам, как оно пишется? Нет. Он по буквам сказать не может. Отца нет, матери нет, друзей нет. В школу не ходил. Местожительство? А что это такое? Вот метла она и есть метла, а врать нехорошо, это он знает. Не помнит, кто ему говорил насчет метлы и вранья, но так оно и есть» [23].
Мальчик — подметальщик перекрестков. Рисунок из журнала «Панч». 1853
Тем не менее, опрошенные Мэйхью мальчишки-метельщики кажутся гораздо сметливее Джо. Не рассчитывая заработать только подметанием, они развлекали прохожих акробатическими трюками. Почти все умели ходить колесом или стоять на голове. Когда на улице останавливался омнибус, к нему подбегал метельщик и начинал кувыркаться на потеху пассажирам. А поскольку в городской пробке омнибус мог простоять довольно долго, мальчишка успевал получить несколько пенсов.
Метельщики не чуждались и изящных искусств. Один паренек, капитан уличной шайки по прозвищу Гусак, рисовал узоры из грязи. Начал он с того, что изобразил между лужами якорь, что очень позабавило прохожих. На следующий день он написал в слякоти — «Боже, храни королеву». Не самая подходящая техника, чтобы славить монарха, но и это понравилось лондонцам — мальчишка отлично заработал. Однако эстетический порыв вышел бедняге боком. Прохожим так нравились орнаменты, которые он регулярно чертил на мостовой, что посмотреть на них собиралась толпа. Однажды полицейский, совершенно безразличный к прекрасному, счел это помехой дорожному движению и прогнал мальчишку с бойкого места.
Последние новости: газетчики и торговцы бумажным товаром
От разнообразия товаров, которые продавали на лондонских улицах, захватывает дух — цветы и фрукты, инструменты и посуда, часы и игрушки, собачьи ошейники и породистые собаки, похищенные у владельцев. Среди разношерстных торговцев Лондона продавцов печатных изданий можно выделить в отдельную категорию. Это были и газетчики, и торговцы бульварными балладами и жизнеописаниями великих висельников, и те, кто разносил по домам открытки, записные книжки, альманахи, канцелярские принадлежности, а также конверты. Иными словами, все, кто так или иначе имел дело с бумагой.
Иногда в этой братии попадались образованные и воспитанные люди, впавшие в крайнюю нужду. Генри Мэйхью имел обстоятельную беседу с женщиной, совсем недавно начавшей торговать конвертами. Она происходила из благополучной семьи, но после смерти отца, армейского офицера, была вынуждена сама зарабатывать на жизнь. Поначалу она давала уроки музыки, но после тяжкой болезни вынуждена была оставить это поприще. Долгое время она скиталась по больницам и исчерпала все свои сбережения. Знакомый посоветовал ей торговать конвертами «от двери к двери». Обнищавшая учительница призналась, что каждый раз дрожит, прежде чем постучать в дверь — вдруг на нее накричат. О том, чтобы продавать конверты своим бывшим ученикам, она и думать не могла — стыдно!
В большинстве своем торговцы бумагой были менее щепетильны и более деловиты. Надо ведь привлечь внимание публики, а порою и перекричать конкурентов, которые тоже норовят сбыть брошюрку про свеженькое смертоубийство. В ход шли любые средства, не только громкий голос, но и аляповатые плакаты. На них огромными буквами было написано, какие именно ужасы прохожие смогут прочесть в этой книжице или балладе. Заглавия были очень сочными, например, «Дьявольские опыты доктора *** над пациентами в состоянии месмеризма» или «Тайные делишки в Белом Доме, Сохо». Огромной популярностью пользовались так называемые broadsides — тексты, отпечатанные на одной стороне бумажного листа. То были лондонские «скандалы, интриги, расследования». Листовки живописали убийства, громкие судебные процессы, откровения преступников, особо впечатляющие пожары и прочее, и прочее. Жители удаленных деревушек, куда даже коробейники (Коробейники — торговцы-разносчики дешевого галантерейного товара. — Ред.) не захаживают, собирали пенни в складчину, чтобы купить отчет о недавних казнях.
В середине XIX века расхожим товаром были баллады, как старинные, так и совсем новые, сложенные наспех, чтобы увековечить очередное преступление. Лондонцы любили почитать, а то и промурлыкать песенку о матери, ослепившей родное дитя с помощью двух тараканов, или о хозяевах, моривших голодом служанку, или о девятилетием мальчишке, зарубившем крошку-сестру. Если баллады не отличались качеством, продавцы брали количеством. Песни печатали на широких листах и продавали… по ярду! Называлась это «торговля длинными песнями». Полосы бумаги прикреплялись к шесту и колыхались на ветру, пока торговец вышагивал по улочкам, вопя: «Новые песни! Чудные песни! Три ярда за пенни! Кому песни? Три ярда песен!» (Что ж, некоторую литературу можно только рулонами и продавать.)
Некоторые продавцы полагались исключительно на свои ноги и голосовые связки, другие же устанавливали книжные киоски на оживленных улицах. В таких киосках можно было купить как penny dreadfuls — дешевые детективы и ужастики, так и английскую классику. Книги были на любой вкус. Ближе к середине XIX века зародилась торговля путеводителями и каталогами различных музеев. Приторговывали ими возле Национальной галереи, Британского музея, Вестминстерского аббатства и прочих достопримечательностей. Музейных работников не радовал этот бизнес, поскольку музеи сами печатали брошюры и каталоги. К вящей досаде торговцев, у входов в галереи довольно скоро появились объявления о том, что официальные каталоги можно купить только в вестибюле.
Торговлю печатными изданиями также регулировали железнодорожные компании. Право торговать книгами и газетами на железнодорожных станциях и в метро получали по тендеру, и за это право нужно было платить. Отхватив лакомый кусочек, бизнесмен нанимал продавцов, как взрослых, так и мальчишек. Работа была хлебной — взрослые зарабатывали 20–30 шиллингов в неделю, мальчишки от 6 до 10 шиллингов. Серьезные романы в метро не котировались, продавали исключительно легкое чтиво стоимостью до одного шиллинга за книгу.
Продавец «длинных песен». Рисунок из книги Генри Мэйхью «Рабочие и бедняки Лондона». 1861–1862
Самыми ушлыми из лондонских книготорговцев были, безусловно, «торговцы соломой». Казалось бы, какое отношение солома имеет к печати? Оказывается, самое прямое. Держа в руках пучок соломы, торговец многозначительно подмигивал прохожим. Стоило ему привлечь внимание, он сразу же заводил речь: «Пожалуй, многие решат, что это абсурдная идея — продавать соломинку за полпенни, раз солома и так повсюду валяется. Но все дело в том, что власти запрещают мне торговать вот этими листками. Посему я продаю солому, а листки даю в придачу. Джентльмены найдут здесь множество интересных изображений — и у кровати, и на кровати, и под кроватью!»
Ни дать ни взять, настоящий диссидент. Таким образом сбывали не только порнографию, но также политические и антирелигиозные памфлеты. Да что памфлеты! Не пощадили саму королеву, пробрались в святая святых — ее семейную жизнь! В середине XIX столетия в Лондоне продавали документ, предназначенный для «холостяков и дев, мужей и жен».
«ПИСЬМО
Отправлено из герцогства Кобург
Моя дражайшая Виктория!
[Неразборчивый текст].
Твой пламенный обожатель,
Альберт, герцог Кобургский» [24].
С таинственными улыбками торговцы сообщали, что это, дескать, тайная переписка юной Виктории с женихом. А почему абракадабра вместо текста? Так ведь секретный код! Его можно расшифровать с помощью зеркала, свечи и подробных инструкций продавца.
Но писать всю эту тарабарщину, как ни крути, слишком хлопотно. Гораздо проще остановить на улице прыщавого юнца и показать ему из-под полы пухлый пакет, завернутый в разноцветную бумагу и запечатанный красным сургучом. Ничего, что сверху наклеен религиозный трактат или обрывок старой газеты. Так надо. Для конспирации. Потому что внутри там такое, ну такое! Самый смак. Берите, сэр, не пожалеете. Но когда юноша, задыхаясь от возбуждения, прибегал в свою спальню, захлопывал дверь и дрожащими руками разрывал упаковку, то вместо стопки непристойных гравюр находил всего лишь обрезки бумаги. А торговца уже как ветром сдуло!
Профессиональные нищие
Наравне с торговлей и уборкой мусора, популярным уличным ремеслом было попрошайничество. Лондон кишел нищими всех мастей, и отношение к ним было двойственным.
С одной стороны, лондонцы знали, сколь хрупкой была грань между достатком и беспросветной нищетой. Даже семьи среднего класса не зарекались «от тюрьмы и от сумы» — что уж говорить о простых рабочих? Кровельщик упал с лестницы и сломал обе руки. Закрылась фирма, и пожилой служащий остался не у дел. Старушки зарабатывали на жизнь изготовлением резиновых мячей, но куда им тягаться с массовым производством резины? После смерти мужа вдова перебралась к сыну, но не ужилась с невесткой и оказалась на улице. Швея трудилась от зари до темна, чтобы прокормить маленьких детей, а потом зрение начало сдавать… Таким историям несть числа. Никакого социального обеспечения в те годы, разумеется, не было, и бедняки могли рассчитывать разве что на помощь друзей и филантропов. Еще одним вариантом был работный дом, но его боялись, как огня. Лучше уж зябнуть на улице.
С другой же стороны, англичане считали, и вполне справедливо, что среди попрошаек найдется немало жуликов. Как и сейчас, в XIX веке писали об организованных бандах нищих и о профессионалах в рубище, которые в свободное от «работы» едят и пьют в свое удовольствие. И как ни гоняй их, все равно набегут новые.
Консерваторы сетовали, что законы уже не карают побирушек так сурово. Им было с чем сравнивать, ведь в прошедших веках с нищими не церемонились. Если до Реформации нищие и бродяги могли получить миску каши в монастыре, во времена Генриха VIII баловство прекратилось. Монастыри были закрыты, нищим же пришлось клянчить еду и гроши где придется. Но парламент не дремал. Несколько последующих актов запретили не только собирать, но и подавать милостыню: в противном случае сердобольной особе пришлось бы заплатить в казну всю сумму поданной милостыни, но в десятикратном размере! Это, конечно, отрезвляет.
Таким образом, парламент хотел направить благотворительность в другое русло. Пожертвования собирались в приходской фонд, откуда черпали средства на содержание стариков и калек и на обеспечение работой трудоспособных бедняков. Иными словами, всякий, кто мог работать, должен был работать. Тунеядцам же приходилось несладко: после первой поимки бродяге грозила порка, после второй — отрезание уха, после третьей — конопляная петля. При Эдуарде VI, государе мягкосердечном, участь бродяг по-прежнему была незавидной. Нищих, отвергавших предложенную работу, клеймили и на два года отдавали в рабство любому, кто польстится на такого раба.
Нельзя сказать, что все англичане были довольны такой системой. Правильно, конечно, что лентяев секут и клеймят, но от обеспеченных прихожан настойчиво требовали пожертвования в приходской фонд. Несогласные платить рисковали предстать перед судьей, а то и оказаться в тюрьме.
Приходской налог на бедных окончательно закрепился в правление Елизаветы I.
Слепой нищий. Рисунок их журнала «Панч». 1888
Викторианцы уже не тешили взор публичной поркой бродяг, но все равно требовали для них наказания. Им грозило тюремное заключение или же пребывание в работном доме, что, по сути своей, было немногим лучше. Вместе с тем, создавались благотворительные общества, где бедняков могли накормить и обогреть. Одним из них было Общество по искоренению попрошайничества, основанное в 1820 году. Методы общества отвечали его грозному названию: благодетели сотрудничали с полицией и доносили, по кому из нищих плачет тюрьма. Этакое добро с кулаками. Подписчики общества получали талоны, которые затем раздавали достойным, по их мнению, попрошайкам. Те обращались в контору, где с ними проводили интервью с целью выяснить, заслуживают ли они помощи. Если бедняк отвечал всем требованиям, выглядел достаточно голодным и несчастным, но вместе с тем трезвым, его кормили и давали денег на ночлежку. В Общество можно было обратиться и еще раз, но кормить бедняков регулярно задарма никто не собирался. За каждый обед отрабатывали три часа — мужчины кололи дрова или дробили камни, женщины щипали пеньку. Словом, заведение напоминало работный дом, только добровольный и без забора. Не все нищие принимали такую благотворительность, тем более что горожане все равно подавали сирым и убогим.
Журналисты викторианской эпохи хором уверяют, что профессия нищего была более чем выгодной. В 1838 году Джеймс Грант писал о парнишке, который зарабатывал 10–14 шиллингов в день, сидя на ступенях и держа в руках табличку с надписью «Я — бедный сирота». Более 50 раз он оказывался в тюрьме, но опять возвращался на насиженное место. Упоминает Грант и одноглазого негра, который после смерти оставил несколько сотен фунтов дочерям олдермена (члена городского управления). Почему именно им? Оказывается, барышни часто подавали ему пенни, и не просто так, а с доброй улыбкой. Милосердие принесло дивиденды.
Какими же методами пользовались попрошайки, чтобы разжалобить прохожих? Их было немало. Не будем забывать, что нищие XIX века отличались от своих суровых предшественников, известных нам, например, по роману «Принц и нищий» Марка Твена, где приводится такой способ изготовления язвы: «…приготовляли тесто из негашеной извести, мыла и ржавчины, накладывали эту смесь на ремень и крепко обвязывали ремнем ногу. От этого кожа очень быстро слезала, и вид обнаженного мяса был ужасен; затем ногу натирали кровью, которая, высохнув, принимала отвратительный темно-бурый цвет. Больное место перевязывали грязными тряпками, но так, чтобы ужасная язва была видна и вызывала сострадание прохожих» [25]. В викторианском Лондоне обстоятельства отчасти изменились. Язвы казались негигиеничными, распухшие конечности не нравились барышням, и уродство уже не котировалось. А те, кто действовал по старинке, не хотели себя калечить. Проще облепить ногу толстым слоем мыла и сбрызнуть уксусом, чтобы оно запузырилось. Если прохожим не понравится, стереть такую язву можно в два счета.
Впрочем, калек на улицах тоже хватало. Слепые работали в паре с собакой-поводырем, которая так жалостливо подвывала, так умилительно заглядывала в глаза прохожим, что невозможно было не бросить пенни в ведерко, которое она держала в пасти. В числе калек были и ловкие мошенники, которые носили повязку на глазах, приволакивали ногу или же валились на тротуар, содрогаясь в припадке. Появление полицейского производило чудотворный эффект — слепцы дружно прозревали и бросались наутек, а к припадочным возвращалось сознание.
Внешний вид нищих тоже со временем изменился. Как и сотни лет назад, многие одевались в лохмотья. В зимнюю стужу вид полуголых побирушек, особенно детей, производил желанный эффект. Прохожие не только одаривали их деньгами, но приносили обувь и чулки, которые потом можно было загнать старьевщику. Однако появился и новый тип нищих, вполне респектабельных на вид. Они попрошайничали семьями: печальный отец вел за руку карапузов, рядом шла мать с младенцем на руках, за ней следовали остальные дети. Вся семья была одета в ветхие, но аккуратно заплатанные и безупречно чистые платья, да и дети были не чумазыми, а чистенькими, только уж очень грустными. В глазах несчастного семейства так и читалось: «Посмотрите, как мы бедны, но в то же время порядочны! Посмотрите! Мы стремимся к респектабельности, и добились бы ее, если б только смогли. Мы не какие-нибудь там заурядные, вульгарные побирушки или бродяги. Мы люди приличные, но и нас постигло несчастье. Бедность это не наша вина, это наша беда!» Как уверяли журналисты, это была еще одна уловка, чтобы умилостивить прохожих.
Семья попрошаек. Рисунок из журнала «Панч». 1869
Другие попрошайки тоже били на жалость. Взять хотя бы серийных самоубийц. Они регулярно топились в Темзе или в озере Серпентайн, что в Гайд-парке. Напарник нырял за «самоубийцей» и откачивал его, между делом сообщая прохожим о невзгодах, заставивших беднягу взять на душу такой грех. Добрые христиане совали руку в карман. Еще бы, как не спасти заблудшую душу. А самоубийца, как следует просохнув, шел топиться по новой. За одну попытку можно было собрать несколько фунтов, жаль только — заработок был сезонным, ведь зимой зябко прыгать в воду, Христорадничали и «жертвы» всевозможных катастроф — погорельцы, потерпевшие крушение моряки, шахтеры, пережившие взрыв, ветераны военных кампаний. В большинстве своем они дурачили горожан. Лжеморяки, к примеру, украшали руки татуировками, учились моряцкому говору и походке, а солдаты тщательно изучали военную историю — вдруг какой-нибудь зануда начнет допытываться, в каком полку они служили, где он был расквартирован в таком-то году, как звали капитана. Попадались среди них и настоящие матросы и солдаты, но с ними нужно было держать ухо востро, а то как бы не ограбили в темном переулке.
Жалость вперемешку с неловкостью вызывали иностранцы, изъяснявшиеся на ломаном английском. Были здесь и французские ремесленники, и польские эмигранты, которые на поверку оказывались или русскими, или немцами, но никак не аристократами в изгнании. На волне сочувствия к неграм улицы Лондона запестрели чернокожими попрошайками. Правда, если как следует отмыть их, взору явился бы белый пройдоха — жулики пускались на любые уловки, лишь бы заработать лишний пенни.
Охотнее всего подавали старикам и детям, поэтому нищенки брали детей напрокат на «фермах младенцев».[5] За неимением младенца в ход шел мешок тряпок, кое-как замотанный в пеленку — в темноте все равно не разглядишь. Как и андерсеновская девочка со спичками, английские ребятишки сновали по городу с лотками, на которых лежали спички, цветы, шнурки, пуговицы, ленты, но товары были, скорее, для отвода глаз. Они стоили так дешево, что прокормиться выручкой от них было невозможно, зато с маленьких продавцов снимались все подозрения в попрошайничестве. Качая головой, прохожие бросали оборвышу несколько монет, но ничего не брали с лотка.
Некоторые попрошайки действовали иначе, более хитро. Какой-нибудь джентльмен замечал на улице девочку, которая горько плакала над корзиной с разбитыми яйцами. Девочка объясняла, что торгует яйцами, но нечаянно уронила корзину. Теперь она боится идти домой, ведь родители зададут ей трепку. Добрый джентльмен платил за все яйца сразу, а когда уходил, девочка аккуратно собирала разбитые яйца и уходила плакать на другую улицу.
Очень часто торговцы-попрошайки наведывались в кабаки, где к ним благоволили проститутки. Вот что об этом пишет Генри Мэйхью: «Попрошайки заходят в питейные дома, увидев за стойкой женщин, которые могут им помочь. Когда они предлагают свой нехитрый товар какому-нибудь джентльмену, женщины просят: „Дайте что-нибудь бедолаге“ или „Купите нам букетик“. Если же предлагают шнурки или пуговицы, говорят: „Не берите ничего у старушки, просто дайте денег“. Желая прихвастнуть щедростью, джентльмены уступают их просьбам, тогда как без заступничества своих разбитных спутниц они бы обругали торговку и послали прочь. Однажды я видел, как старуха, переполненная благодарностью, поцеловала руку размалеванной кокотке. Пожалуй, мне еще не доводилось видеть столь трогательного зрелища. Пару минут назад девица прохаживалась по кабаку с развязностью, присущей ее классу, но поступок нищенки до того ее растрогал, что слеза медленно скатилась по нарумяненной щеке, оставляя за собой белую полосу. В следующий же миг девица смахнула слезу и вновь начала кривляться и петь» [26].
Существовал, наконец, и более «интеллигентный» подвид попрошаек — авторы жалобных писем с просьбами о помощи. Адресатами становились аристократы, дамы-благотворительницы, меценаты, священники и все те, у кого можно выклянчить пару фунтов, не опасаясь, что они проверят изложенные в письме факты. Журналист Джеймс Грант приводит выдержки из дневника одного афериста:
«29 июня — написал герцогу Ричмонду под именем Джона Смита. Ампутация ноги, полгода без работы, жена и семеро детей голодают. Результат — 2 фунта. Неплохо, но, надеюсь, в следующий раз больше повезет.
25 июля — написал епископу Лондонскому под именем Уильяма Андерсона. Англиканский священник, без работы четыре года, жена скончалась три недели назад, пятеро детей остались без материнской заботы. Результат — ни полпенни, это стреляный воробей. Еще раз попробую на следующей неделе.
28 июля — написал сэру Питеру Лори. Работящий шотландец, оставшийся без работы, восемь дней перебивался с хлеба на воду, но вот уже три дня ни крошки во рту. Зовут Джон Лори. Результат — послал меня в Общество по искоренению попрошайничества. Ох, и ушлые эти шотландцы, их так просто не проведешь» [27].
Перед тем как закинуть удочку, аферисты узнавали всю подноготную своего «клиента» и подгоняли под него историю: епископам писали обнищавшие священники, адмиралам — моряки, якобы служившие под их началом, аристократкам — многодетные матери. И как бы ни гневались на них адресаты, находчивость мошенников иной раз вызывала вздох восхищения. Ничего не скажешь, индивидуальный подход к каждому клиенту!
Уличные актеры
В развлечениях лондонцы не знали нужды. Городские улицы были запружены не только торговцами всех мастей, но также певцами, акробатами, глотателями змей, шотландскими музыкантами, игравшими на волынке, художниками, которые за пенни вырезали из черной бумаги профиль заказчика, безрукими каллиграфами и слепыми чтецами. Охочие до зрелищ горожане не только глазели на карликов или бородатых женщин, но и знакомились с достижениями науки. Например, за небольшую плату можно было заглянуть в микроскоп. На выбор предлагались следующие объекты: блохи, сырные клещи, простейшие в капле воды, человеческий волос, поперечный срез трости, которой учителя лупили мальчишек по рукам, и кусочек дубовой коры. Последний экспонат сопровождался патриотической лекцией о красоте английского дуба, которая затмевает узоры на индийских шалях.
Лондонцы любили живность и покрупнее — например, танцующих собак или канареек в пестрых костюмах. В середине XIX века в столице появился новый тип зверинца под названием «счастливое семейство». Дело в том, что некоторые христиане были слишком нетерпеливы, дожидаясь наступления нового мира, обещанного Библией, когда волк будет пастись вместе с ягненком. Может, стоит немного помочь естественному ходу истории? Да и интересно очень. Суть нового зверинца была в том, чтобы засунуть в одну клетку тех животных, которые в природе охотятся друг на друга, и приучить их к мирному сосуществованию.
Виды животных и птиц, составлявших «счастливое семейство», зависели от мастерства дрессировщика. У дрессировщика, давшего интервью Мэйхью, в одной огромной клетке обретались 3 кошки, 2 собаки (спаниель и терьер), 2 обезьяны, 2 сороки, 2 галки, 2 сойки, 10 скворцов, 6 голубей, 2 ястреба, 2 домашние птицы (вероятно, гуси или утки), 1 филин, 5 обычных крыс, 5 белых крыс, 8 морских свинок, 2 кролика, еж и черепаха. По его мнению, труднее всего дрессуре поддавались ястребы и крысы, которые периодически норовили напасть на своих сокамерников… то есть на остальных членов большой и дружной семьи. Из птиц проще всего было дрессировать голубей, из животных — обезьян. Напротив, его конкурент заявлял, что дрессировать обезьян очень сложно, ведь во время игры они пускают в ход зубы и могут запросто поднять крысу за хвост.
Оба дрессировщика клялись, что добиваются желаемого результата исключительно терпением и лаской, никогда не опаивают животных опиумом, не бьют их и не выдирают им зубы. Впрочем, похваляясь своими животными, один дрессировщик добавил, что как-то раз оставил их без еды на 36 часов, но даже тогда они не покусились друг на друга! Такой эксперимент он провел в Кембридже по просьбе какого-то ученого господина, хотя перед началом испытания все же накормил животных как следует.
Среди городской детворы особой любовью пользовались представления кукольных театров. Их главным героем был мистер Панч, задира и грубиян, любитель приложиться к бутылке, а на досуге поколотить свою женушку Джуди. Английский кукольный театр берет начало в Италии XIV века, когда Панч был одним из персонажей Коммедиа дел Арте и звался Пульчинелла. Во Франции он сменил имя на Полишенеля, а в XVII веке добрался до берегов Британии и обрел английское имя. Его сварливую жену поначалу звали «Джоанна», но в XIX веке она стала известна как Джуди. Деревянные куклы были грубо размалеваны и одеты в яркое тряпье — разноцветный колпак у Панча, в придачу к крючковатому носу и внушительному брюшку, старомодный чепец у его жены. Помимо счастливой четы, в кукольном театре встречались и другие персонажи — констебль, бидль, доктор, клоун, палач, призрак, появлялся и сам дьявол. Перед ширмой, над которой проходило представление, сажали пса Тоби в шляпе и гофрированном воротнике.
Кукольные спектакли разыгрывали на улицах и ярмарках. Если до XIX века представления были рассчитаны скорее на взрослых, которым импонировали грязные шутки и сцены насилия, в викторианскую эпоху поклонниками Панча стали дети. Однако драки и ругань сохранились.
Представление Панча и Джуди. Рисунок Гюстава Доре из книги «Паломничество». 1877
Типичный сценарий начинается с того, что Джуди просит Панча присмотреть за их малышом, пока она готовит, но Панчу не по плечу роль воспитателя:
«Панч качает младенца, а когда тот продолжает кричать, берет его на руки, приговаривая: „Какой несносный ребенок! Терпеть таких не могу!“ Он трясет младенца, бьет его головой о стену и швыряет из окна. Возвращается Джуди.
Джуди: Где наш малыш?
Панч (меланхолично): С ним вышел несчастный случай, он так громко орал, что я выбросил его в окошко.
Джуди истерически оплакивает ребенка, после чего уходит за дубинкой и бьет Панча по голове.
Панч: Не злись так, милая, я же не нарочно.
Джуди: Ты мне за все заплатишь!
Она продолжает бить его по голове, но Панч вырывает у нее дубинку и избивает Джуди» [28].
Далее Панч забьет Джуди насмерть, в результате чего к нему явится ее призрак, но нематериальная субстанция тоже отведает дубинки. Попытки призвать убийцу к ответу не увенчаются успехом: он поколотит и бидля, и констебля, а когда его все же уволокут на эшафот, достанется и палачу. В конце концов, Панч одолеет Сатану, который неблагоразумно пришел по его душу, и закончит спектакль триумфальным поклоном.
Дети смотрели представления, то приоткрыв рот, то взрываясь смехом. Какому сорванцу не понравится, как мистер Панч охаживает палкой констебля или насмехается над судьей? Вот бы и в жизни так! Что касается битья жен, для завсегдатаев представлений оно давно уже стало частью повседневной жизни и никого не шокировало, тем более что на деревянных лицах не проступали синяки. Насилие на сцене помогало выпускать пар и справляться с бытовыми невзгодами.
От шума на улицах Лондона у чужака начиналась мигрень. Ржание лошадей, перестук колес по булыжным мостовым, зычные крики уличных торговцев и нытье нищих, громкий гогот из питейных заведений. Важной составляющей городского гама была музыка. Точнее то, что могло сойти за музыку. Не все уличные певцы и музыканты были профессионалами, зато надрывались они от души — еще бы, не шутка перекричать такой базар!
Кто мог, играл на музыкальных инструментах — барабанах, скрипках, банджо, тарелках и, конечно же, шарманке. В 1860-х годах на лондонских улицах насчитывалось около тысячи шарманщиков! Вокруг шарманщика прыгали и пританцовывали его клиенты, уличные мальчишки. Им нравились простенькие мелодии, ужимки обезьян, верных спутниц шарманщиков, и особенно то, что им самим разрешалось покрутить ручку инструмента. Относились к шарманщикам по-разному — кто сочувственно, а кто с раздражением. Шарманки кряхтели, визжали и тарахтели так, что извлекаемые из них звуки вряд ли назовешь бальзамом для ушей. Кроме того, в шарманщики подавались иностранцы, французы, немцы и итальянцы, что тоже не украшало их в глазах викторианцев — политкорректность была им несвойственна. Зато шотландцы охотно бросали пенни своим землякам, игравшим на волынке. Как признавался один парнишка-музыкант, герцог Аргайл даже распорядился, чтобы его всегда угощали обедом во дворце.
Шарманщик и горничная. Рисунок из журнала «Панч». 1853
Лондонцы жалели слепых музыкантов, которые, по общему мнению, отличались смирением и набожностью. Генри Мэйхью с теплотой отзывался о старушке Саре, игравшей на колесной лире. История нищенки достаточно типична. Сара родилась в конце XVIII века, ее отец был шляпником, мать делала искусственные цветы. Сразу после рождения у девочки воспалились глаза, как она считала, из-за сквозняка. Нянька нашла оригинальный способ лечения, намазав ей глаза смесью масла, воска, оксида цинка и оксида железа. Так Сара окончательно лишилась зрения. После смерти родителей ее передали в школу для слепых, где девочек учили шить и прясть, но рукоделие Саре не давалось. Решено было обучить ее игре на музыкальном инструменте, что и стало для нее основным источником пропитания. Вместе с поводырем она ходила по улицам, играя на колесной лире и собирая подаяние, Увы, столичные улицы были опасны и для зрячих, не говоря уже о слепых старушках. Сару и ее провожатую сбил кэб, внезапно вывернувший из-за угла. Провожатая скончалась на месте, Сара отделалась переломами, но так повредила руки, что уже не смогла играть. Через несколько месяцев она умерла в нищете.
Детские профессии
В наши дни детей и подростков принято оберегать от тяжелого физического труда. А вот маленьким англичанам, проживавшим в Лондоне XIX века, приходилось самим зарабатывать на жизнь, а порою и обеспечивать безработных родителей. Тяжкий труд был уделом далеко не всех детей. От юных лордов и леди порою не требовалось даже заправлять постель, ведь все работы выполняла прислуга. Однако ребятишки из семей рабочих и мелких торговцев с малолетства помогали старшим. В некоторых случаях заниматься тяжким и неприятным трудом детей вынуждала беда. Если в многодетной рабочей семье умирал отец, главный добытчик, то семейство оставалось без средств к существованию. Матери, которая прежде вела домашнее хозяйство, приходилось в спешке искать работу уборщицы, прачки или швеи. А дети, от мала до велика, старались заработать хотя бы несколько грошей.
На лондонских улицах, и без того шумных, наполненных в том числе криками вечных мальчишек-газетчиков, то и дело можно было услышать: «Сэр, хотите, я присмотрю за вашей лошадью?» или «Мэм, давайте я донесу ваш сверток!»
Дети занимались и куда более неприятным трудом. Взять, к примеру, собирание мусора по берегам реки Темзы во время отливов. Ребятишек, которые зарабатывали именно так, называли «mud-larks» — «жаворонки из грязи». Такова жизнь — одни жаворонки парят в небесах, а вот другим приходится копошиться в грязи. «Жаворонки» проживали в домах неподалеку от реки. Дождавшись отлива, они спешили к берегам и, закатав штаны по колено, забирались в холодную грязь. Задача заключалась в том, чтобы собрать как можно больше мусора, который оставался после кораблей. Это были угольки, обрывки веревок, кости и медные гвозди, иногда ржавые ножи и молотки. Свои находки мальчишки продавали старьевщикам, которые перерабатывали мусор — например, варили клей из костей. А угольки можно было унести домой для растопки камина.
Работа была хотя и не сложной, но изнурительной и опасной, ведь в любое время года, и летом, и зимой, мальчишки работали босиком, одетые лишь в рванье. В таких условиях легко было простудиться. Очень часто «жаворонки» наступали на стекло или ржавые гвозди. Тогда мальчишки ковыляли домой, чтобы перевязать рану, но тут же возвращались на реку — если ничего не собрать сегодня, будешь голодать до следующего отлива! По словам Генри Мэйхью, один из опрошенных им «жаворонков» как-то раз загремел в исправительный дом, где ему очень понравилось. Там мальчишке выдали одежду и обувь, а кормежка была хоть скудной, зато не приходилось идти спать на голодный желудок. Просто идеальное место, чтобы провести зиму, когда холодная грязь так и обжигает босые ноги.
Маленькая цветочница. Рисунок из книги Генри Мэйхью «Рабочие и бедняки Лондона». 1861–1862
В XIX веке женщины и дети нередко работали в шахтах, по 12 и более часов. В некоторых шахтах от них требовалось поднимать на поверхность корзины с углем, в других — тянуть за собой вагонетку, груженную углем, которую привязывали цепью к талии. Передвигаться приходилось на четвереньках. Дети тянули вагонетки наравне со взрослыми или же открывали затворку, чтобы вагонетки могли проехать.
В 1842 году в шахтах работали 2350 женщин, одна треть из них в Ланкашире, хотя работа женщин под землей уже была законодательно запрещена. Кроме того, владельцы шахт больше не имели права нанимать на работу детей младше десяти лет. А десятью годами ранее, в 1833 году, были определены часы работы для несовершеннолетних — дети младше 13 лет не могли трудиться больше 8 часов в день, подростки до 18 лет — только 12 часов в день. Кроме того, детям запрещено было работать по ночам. Тем не менее законодательные препоны можно было обойти с помощью махинаций. Родители прибавляли детям пару лет, чтобы они могли работать дольше, а следовательно, и зарабатывать больше. Во второй половине XIX века женщины и девочки трудились на поверхности, занимаясь сортировкой угля.
Самой известной детской профессией XIX века была профессия трубочиста. Когда топливо в каминах сгорало, выделялась копоть, которая частично оседала на стенках трубы. Чтобы камины не дымили, трубы приходилось время от времени чистить. Поскольку каминные трубы были узкими, чистить их могли только дети.
В подмастерья к трубочистам отдавали мальчиков-сирот в возрасте от 4-х лет. Работа состояла в том, чтобы залезть в трубу и почистить ее скребком или щеткой. На первых порах мальчишки боялись лезть вверх по трубе, вдруг еще застрянут. Тогда в камине зажигали немного соломы, и трубочист, боясь обжечься, волей-неволей карабкался вверх. В романе Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста» маленького Оливера чуть было не отдали в ученики трубочисту мистеру Гэмфилду. А он как раз практиковал именно такую методику: «Мальчишки — народ очень упрямый и очень ленивый, джентльмены, и ничего нет лучше славного горячего огонька, чтобы заставить их быстрехонько спуститься. К тому же это доброе дело, джентльмены, потому как, если они застрянут в дымоходе, а им начнешь поджаривать пятки, они изо всех сил стараются высвободиться» [29]. К счастью для Оливера, он все же не стал учеником извращенца Гэмфилда. Другим ребятишкам везло гораздо меньше. Иногда они застревали в трубах, срывались вниз или гибли прямо в трубе, задохнувшись от пыли.
Хозяева не заботились о благополучии маленьких подмастерьев. Дети спали в подвалах и на чердаках. Кормили мальчишек плохо, ведь чем тоньше трубочист, тем больше от него пользы. Трубочисты редко мылись, поэтому год за годом на их теле накапливались слои сажи, что приводило к раковым заболеваниям.
Во второй половине XIX века в сфере детского труда произошли изменения. Еще в 1804, 1817 и 1819 годах предпринимались попытки запретить наем детей до 10 лет, но все законопроекты результата не приносили. Лишь в 1840 году английский парламент запретил забираться в трубы лицам до 21 года. К сожалению, штрафы были так малы, что этот закон мало кого останавливал. Но в 1864 году штраф повысили до 10 фунтов — значительная сумма по тем временам. Новая мера получила как юридическую, так и общественную поддержку, и эксплуатация маленьких трубочистов пошла на спад.
У ребятишек, работавших на улице, появилась возможность выбиться в люди. В 1840-х годах только 20 % маленьких лондонцев ходили в школу или обучались на дому. В 1860-х годах эта цифра возросла, и уже половина всех детей в возрасте от 5 до 15 лет посещала школу. Чаще всего дети улиц ходили в так называемые «ragged schools» — «школы для оборвышей», в которых они получали бесплатное начальное образование, а иногда и тарелку супа в придачу. С 1880 года начальное образование для детей до 10 лет стало обязательным.
По мере того как благосостояние нации возрастало, а условия жизни улучшались, в детском труде отпала необходимость.
От некроза до профсоюза: девушки со спичками
О том, каким тяжким, опасным и унизительным был труд рабочих в XIX веке, многие из нас еще помнят по трудам Маркса и Энгельса, прочитанным на курсе по истории КПСС. Поэтому оставим в стороне профсоюзы и рост сознательности среди пролетариата и поговорим о болезнях. Точнее, о профессиональных заболеваниях. Впрочем, нет. Вспомнить историю борьбы рабочего класса нам все же придется, поскольку именно некроз челюсти привел к одной из наиболее известных и успешных забастовок XIX века. Повлияли на нее и другие причины, но некроз челюсти был, конечно, самой живописной из них.
В XIX веке Великобритания стала индустриальным гигантом. В Шеффилде, Бирмингеме, Вулвергамптоне, Абергавенне расположились металлургические заводы, в Уэльсе добывали уголь и железо, в Стоке-на-Трентоне выпускали фарфор и керамику, Лестер и Ноттингэм славились текстилем, а на севере, в Лидсе, Брадфорде, Манчестере, жужжали станки на хлопкопрядильных заводах. По сравнению с цветущим югом, север Англии был более индустриализированным, здесь находился «Черный край», укрытый траурным полотном из заводского дыма.
Вполне понятна реакция Маргарет Хейл, героини романа «Север и Юг» Гаскелл, впервые увидевшей унылый промышленный город: «За несколько миль до Милтона они увидели свинцовую тучу, нависшую над горизонтом. Она казалась особенно темной в контрасте с бледно-голубым зимним небом Хестона, — у побережья уже начались утренние заморозки. Ближе к городу в воздухе чувствовался слабый запах дыма, возможно, особенно ощутимый из-за отсутствия запаха трав и деревьев… То здесь, то там, как курица среди цыплят, возвышалась огромная, длинная фабрика с множеством окон, выпуская черный „непарламентский“ дым. Этот дым стягивался в висевшую над городом тучу, которую Маргарет поначалу приняла за дождевую» [30].
Как на севере, так и на юге, участь рабочих была незавидной. Они просыпались в тесных комнатенках, душных летом и промозглых зимой, и пешком шли на фабрику, порою под снегом или дождем. На работе их поджидали полутемные, плохо проветриваемые помещения, где им предстояло провести 12, 14, а то и 16 часов. О технике безопасности в те годы не задумывались, хозяевам едва ли хотелось тратиться на ремонт помещений, защитную одежду или душ для рабочих. Пусть радуются, что их вообще наняли. А если вздумают роптать, их можно заменить ирландцами, которые будут работать за любые гроши. Законодательство постепенно менялось — например, в 1864 году был принят Фабричный акт, делавший упор на вентиляцию помещений. Но законы легко было игнорировать, и на фабрике хозяева были в своей власти.
Учитывая ужасающие условия труда, а также неуютное жилье и недостаток пищи, становится понятно, почему профессиональные заболевания были так распространены. Шахтеры страдали от астмы, прозванной в их среде «черные плевки», трубочисты — от рака, работники на бумажных и линолеумных заводах — от отравления свинцом, их коллеги на хлопкопрядильных фабриках — от туберкулеза. В романе «Север и Юг» фабричная работница Бесси так объясняет свою болезнь: «Я начала работать в чесальном цехе, пух попал в мои легкие и отравил меня… Маленькие волокна хлопка, когда его расчесывают, они летают в воздухе, будто мелкая белая пыль. Говорят, он оседает на легких и сжимает их. Почти все, кто работает в чесальном цехе, чахнут, кашляют и плюют кровью, потому что они отравлены пухом» [31].
Рабочие на газовом заводе в Ламбете, Лондон. Рисунок Гюстава Доре из книги «Паломничество». 1877
После того как в 1840-х на север Англии начали завозить альпаку, верблюжью шерсть и мохер, среди работников ковровых заводов разразилась эпидемия сибирской язвы, и вспышки продолжались вплоть до 1890-х. В первый день больной жаловался на затрудненное дыхание, головокружение, озноб, боль в горле, рвоту и сонливость, на второй лежал пластом, а к третьему успевал умереть.
Еще более распространенным было отравление мышьяком. От мышьяка страдали не только неверные мужья или богатые тетушки, но и рабочие на фабриках, поскольку мышьяком, дававшим красивый зеленый цвет, подкрашивали все, что угодно: обои и абажуры для ламп, шторы и обивку для мебели, открытки и игральные карты, фантики для леденцов и сами леденцы, детские книги и игрушки, искусственные цветы и восковые елочные украшения. Постоянный контакт с мышьяком приводил к кожным заболеваниям, включая рак, не говоря уж о заурядной сыпи и нарывах вокруг гениталий.
Но больше всего викторианцев пугал некроз челюсти — профессиональный недуг работниц спичечных заводов. Спички изготавливали как в цехах, так и на дому. По данным Армии спасения, христианской благотворительной организации, даже в 1890-х процветало надомное изготовление спичек. В одном случае мать и двое ее детей, которым не исполнилось и девяти лет, работали по 16 часов в день и набивали спичками тысячу коробков, получая за это всего 1 шиллинг 4 пенса, притом что фосфорную массу приходилось покупать самим!
О фосфоре разговор особый — как раз он и становился причиной страшной болезни. На смену огниву и серным спичкам пришли спички из фосфора, изобретенные в 1830 году французом Шарлем Сориа. Французский химик использовал белый фосфор, который отлично горел, но был опасен для здоровья. В 1850-х вошли в употребление спички на основе аморфного красного фосфора, безопасного в изготовлении, тогда как белый был запрещен по всей Европе. Исключением стала Англия. Здесь продолжали делать спички из белого, более дешевого фосфора, а среди их изготовителей процветал некроз челюсти.
Изготовление спичек на дому. Рисунок из «Английского иллюстрированного журнала». 1892
Рабочие вдыхали фосфор, ели, склонившись над фосфорной массой, наспех мыли руки, а при зубной боли натирали десны все той же фосфорной спичкой. Результатом было отравление, которое доктора описывали в цветистых подробностях. Сначала пациент жаловался на зубную боль и нарывы на деснах. Из нарывов сочился гной, выпадали зубы, постепенно обнажались кости челюсти, начинался некроз. Через несколько лет пациент умирал, а если все же излечивался, до конца дней на нем оставалась печать уродства.
Любители всего сенсационного и сентиментального, викторианцы сочувствовали работницам спичечных заводов, как и другим работающим женщинам, например швеям. В июне 1888 года в Лондоне состоялось очередное собрание социалистов-фабианцев (Фабианцы — приверженцы философско-экономического течения, исповедовавшие медленное и постепенное преобразование капитализма в социализм. — Ред.), на котором Клементина Блэк, подруга Элеоноры Маркс, зачитала доклад о женском труде в Лондоне. Среди ее слушателей была другая феминистка, Энни Безант. Шокированная услышанным, Безант отправилась на спичечный завод «Брайант и Мэй», где условия труда были особенно неприглядными. Даме из среднего класса трудно было разговорить простых работниц, но когда они втянулись в беседу, то рассказали ей о своем житье-бытье вполне откровенно.
За шестнадцатичасовой рабочий день они получали 1 шиллинг 4 пенса. Все бы ничего, но на заводе были установлены суровые штрафы. Штрафовали за все — за опоздание, за разговоры на рабочем месте, за отлучку в туалет, за уроненную коробку спичек, за грязную обувь. Из крошечной зарплаты вычитали от нескольких пенсов до шиллинга, а ведь это была разница между хрупким благополучием и голодом. Время от времени от работниц требовали вклад в благотворительность — например, шиллинг на возведение памятника премьеру Гладстону (впрочем, такого рода поборы знакомы и современному читателю). Начальники цеха кричали на работниц и раздавали тумаки, станки были опасны в употреблении, помещения были душными и зловонными.
Здоровье работниц тоже оставляло желать лучшего, ведь на заводе использовали ядовитый белый фосфор. Отдельной столовой не было, работницам приходилось есть хлеб, принесенный из дома, прямо в цехе, где на нем оседали частицы фосфора. Опасаясь увольнения, женщины до последнего скрывали зубную боль и опухшие десны. Носильщицам приходилось таскать тяжелые коробки на голове, так что уже к пятнадцати годам девушка могла обзавестись плешью.
23 июня 1888 года Безант опубликовала в социалистическом журнале «Линк» статью «Белое рабство в Лондоне», предварительно оповестив о ней хозяев завода. Она не боялась, что фабриканты подадут в суд за клевету. Наоборот, на это она и рассчитывала. Громкое разбирательство со свидетельскими показаниями сыграло бы ей на руку. Но директора, опасаясь огласки, потребовали от работниц подписать заявление о том, что они довольны и заработками, и условиями труда.
Несколько женщин наотрез отказались подписывать бумагу. Как они потом рассказали Безант: «Вы за нас заступились, так и мы вас не подведем». Бунтовщицы были тут же уволены, а директора вздохнули с облегчением — уж теперь-то остальные испугаются. Кому охота оказаться на улице? Но они просчитались. На следующий день завод опустел. 1400 работниц завода «Брайант и Мэй» устроили забастовку. Возможно, таким образом они выражали классовую сознательность, или же им просто опостылели штрафы и поборы. У любого терпения есть предел.
Забастовка длилась три недели и получила широкое освещение в прессе. Бастующих поддерживал драматург Джордж Бернард Шоу и журналист Уильям Стэд, с которым вы еще познакомитесь поближе. Общественное мнение раскололось: с одной стороны, британцы сочувствовали работницам, с другой, многих раздражала социалистическая подоплека забастовки — женщины организовали профсоюз, который возглавила Энни Безант. Поначалу директора гнули свою линию, но в конце концов сдались и приняли условия бастующих. Уволенные были восстановлены на рабочем месте, а система штрафов канула в прошлое. Торжествующие женщины вернулись в цех, показав своим товаркам с других заводов, что в единстве сила.
А что же некроз челюсти?
Увы, с ним все было не так радужно. Несмотря на усилия Энни Безант и христианской организации «Армия спасения», «Брайант и Мэй», как и другие заводы по всей Англии, пользовался белым фосфором вплоть до начала XX века. Лишь в 1910 году парламент запретил делать спички из белого фосфора и фосфорный некроз присоединился к другим полузабытым болезням недобрых старых времен.
Глава III
Дела семейные
В этой главе мы на время покинем трущобы и заглянем в респектабельные (по крайней мере, с виду) дома среднего класса. За опрятными фасадами порою творились неблаговидные дела. Цепи Гименея превращались в настоящие кандалы, а домашние тираны, пользуясь безнаказанностью, создавали свою собственную версию «недоброй старой Англии». Жестокость — это явление вневременное, однако в совокупности с несправедливыми законами она принимает особенно уродливые формы. Тем больше уважения заслуживают люди, которые не только не сломались, но сумели отстоять свои права.
Суровое английское воспитание
Оправдывая применение телесных наказаний в отношении детей и преступников, англичане XIX века ссылались на Библию. Разумеется, не на те эпизоды, где Христос проповедовал любовь к ближнему и просил апостолов пустить к нему детей. Гораздо больше сторонникам порки нравились притчи Соломона. Помимо всего прочего, там содержатся и следующие сентенции:
«Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его (23:24).
Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его (19:18).
Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он не умрет; ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней (23: 13–14).
Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него (22:15)».
Все доводы о том, что притчи Соломона не стоит воспринимать так уж буквально, а упоминаемая там розга — это, возможно, метафора, а не пучок прутьев, сторонники телесных наказаний игнорировали. В 1904 году вице-адмирал Пенроуз Фитцджеральд вступил в полемику с драматургом Джорджем Бернардом Шоу, яростным противником подобных унижений. Предметом спора стали карательные меры во флоте. Адмирал закидал Шоу цитатами из Соломона. На это Шоу отвечал, что как следует изучил биографию мудреца, а также отношения в его семье. Картина вырисовывалась невеселая: к концу жизни Соломон впал в идолопоклонство, а его хорошо выпоротый сын так и не сумел сохранить отцовские земли. По мнению Шоу, пример Соломона как раз и является лучшим аргументом против воплощения его принципов воспитания в жизнь.
Помимо притч, у сторонников порки была еще одна любимая поговорка — «Spare the rod and spoil the child» («Пожалеешь розгу — испортишь ребенка»). Мало кто знал, откуда она вообще появилась. Считалось, что тоже откуда-то из Библии. Там же много всего написано, наверняка и эта поговорка затесалась. Где-нибудь. На самом же деле, это цитата из сатирической поэмы Сэмюэля Батлера «Гудибрас», опубликованной в 1664 году. В одном из эпизодов дама требует от рыцаря, чтобы он принял порку в качестве испытания любви. После уговоров, она сообщает рыцарю следующее: «Love is a boy, by poets styled/ Then spare the rod and spoil the child» (Любовь — это мальчишка, созданный поэтами/ Пожалеешь розгу — испортишь дитя). В данном контексте упоминание порки скорее связано с эротическими игрищами и, вероятно, с пародией на религиозных флагеллянтов, т. е. любителей самобичевания. По крайней мере, сама идея преподносится в насмешливом ключе. Кто бы мог подумать, что суровые мужья от образования будут цитировать шутливые вирши?
Розги в Итоне. Рисунок из «Английского иллюстрированного журнала». 1885
У себя дома эти господа, не колеблясь, следовали указаниям Соломона в том виде, в котором их понимали. Если в рабочих семьях родители попросту кидались на ребенка с кулаками, детишек из среднего класса чинно секли розгами. В качестве орудия наказания могли применяться и трости, щетки для волос, тапки и так далее в зависимости от родительской изобретательности. Детишкам доставалось и от нянек с гувернантками. Далеко не в каждом доме гувернанткам позволяли бить своих воспитанников — некоторые в таких случаях призывали на помощь папаш, но там, где позволяли, они лютовали по-настоящему. Например, некая леди Энн Хилл так вспоминала свою первую няньку: «Один из моих братьев до сих пор помнит, как она уложила меня к себе на колени, когда я еще носила длинную рубашку (тогда мне было от силы 8 месяцев) и со всей силы била меня по заду щеткой для волос. Это продолжалось и когда я стала старше». Няня лорда Джорджа Кёрзона была настоящей садисткой: однажды она приказала мальчику написать письмо дворецкому с просьбой подготовить для него розги, а потом попросила дворецкого зачитать это письмо перед всеми слугами в людской.
В 1889 году разразился скандал, связанный с жестокостью гувернантки. В английских газетах нередко встречались объявления вроде: «Холостяк с двумя сыновьями ищет строгую гувернантку, которая не погнушается поркой» и дальше в том же развеселом духе. По большей части так развлекались садомазохисты в эпоху, когда не было еще ни чатов, ни форумов специфической направленности. Каково же было удивление читателей «Таймс», когда одно из этих объявлений оказалось подлинным!
Некая миссис Уолтер из Клифтона предлагала свои услуги в воспитании и обучении неуправляемых девочек. Предоставляла она и брошюрки по воспитанию молодежи, по шиллингу за штуку. Редактор «Таймс», где и было опубликовано объявление, уговорил свою знакомую связаться с загадочной миссис Уолтер. Интересно было разузнать, как именно она воспитывает молодежь. Находчивая леди написала, что ее малолетняя дочь совсем от рук отбилась, и попросила совета. Воспитательница поверила. Сообщив свое полное имя, миссис Уолтер Смит, она предложила взять девочку к себе в школу за 100 фунтов в год и как следует ее там обработать. Более того, она готова была показать рекомендательные письма от духовенства, аристократов, высоких военных чинов. Вместе с ответом миссис Смит прислала и брошюрку, где описывала свой метод воздействия на неуправляемых девиц. Так красочно описывала, что, за неимением другого дохода, она могла бы писать садомазохистские романы. Как жаль, что именно эта идея не постучалась ей в голову!
Журналистка решила встретиться с ней лично. Во время интервью, миссис Смит, высокая и крепкая дама, сообщила, что в ее академии есть и двадцатилетние девицы, причем одной из них пару недель назад она нанесла 15 ударов розгой. При необходимости воспитательница могла приехать и на дом. Например, к тем особам, которые нуждались в дозе английского воспитания, а матери-ехидны никак не могли организовать им порку своими силами. Будучи дамой пунктуальной, все свои встречи она заносила в записную книжку. За прием брала 2 гинеи, как настоящий профессионал (оплату в гинеях требовали врачи и адвокаты, тогда как народ попроще получал фунты и шиллинги). Судя по всему, среди ее клиентов было немало мазохистов.
Как только интервью с миссис Смит было опубликовано, в редакцию хлынул поток писем. Громче всех надрывались те дамы и господа, которых добрая гувернантка упомянула среди своих поручителей. Выяснилось, что миссис Смит была вдовой пастора, бывшего директора Школы Всех Святых в Клифтоне. После его смерти миссис Смит открыла школу для девочек и попросила у знакомых рекомендательные письма. Те с радостью согласились. Потом все как один уверяли, что знать не знали и ведать не ведали про воспитательные методы миссис Смит. Открестилась от нее и бакалейщица миссис Клапп, которая, судя по брошюрке, поставляла ей розги. Таким образом, хотя многие англичане и поддерживали порку, связываться с такой скандальной и откровенно неприличной историей никому не хотелось. Да и к наказаниям девочек относились с куда меньшим энтузиазмом, чем к наказаниям мальчиков.
Телесные наказания были распространены как дома, так и в школах. Нелегко отыскать средневековую гравюру с изображением школьной тематики, где учитель не держал бы в руках то или иное орудие наказания. Такое впечатление, что весь учебный процесс сводился именно к ним. В XIX веке дела обстояли не многим лучше. Учеников элитных учебных заведений били не в пример сильнее и чаще, чем тех, кто посещал школу в родной деревне. Особый случай — исправительные школы для юных правонарушителей, где условия были просто кошмарными, Комиссии, инспектировавшие такие заведения, а также школы при тюрьмах, упоминали о различных злоупотреблениях, о чересчур тяжелых тростях, а также розгах из терновника.
Одной из самых престижных школ в Англии, если не самой престижной, в XIX веке был Итон — пансион для мальчиков, основанный еще в XV веке. Итонский колледж воплощал суровое английское воспитание. В зависимости от объема знаний учеников определяли в Младшее или Старшее отделение (Lower/Upper School). Если предварительно мальчики занимались с репетитором или прошли подготовительную школу, они попадали в Старшее отделение. В Младшее поступали ученики, еще не достигшие 12 лет, но иногда случалось, что и взрослого парнишку заносило в Младшее отделение, что было особенно унизительно. При поступлении в колледж ученик попадал под опеку наставника (tutor), в апартаментах которого проживал и под началом которого обучался. Наставник был одним из учителей в колледже и надзирал в среднем за 40 учениками. Вопрос об оплате родители решали напрямую с наставником.
Поскольку наставник фактически выступал в роли опекуна по отношению к ученику, он же имел право его наказывать. Для проведения наказаний учителя обращались за помощью и к старшим ученикам. Так, в 1840-х на 700 учеников в Итоне приходилось всего 17 учителей, так что старосты были просто необходимы. Таким образом, старшие ученики могли официально бить младших. Естественно, санкционированными порками дело не обходилось, имела место и дедовщина. Один из выпускников Итона впоследствии вспоминал, как старшеклассник принялся избивать его друга прямо во время ужина, колотил по лицу и голове, в то время как остальные старшеклассники, как ни в чем не бывало, продолжали трапезу. Таких происшествий было великое множество.
Имела место и квазифеодальная система под названием fagging. Ученик из младших классов поступал в услужение к старшекласснику — приносил ему завтрак и чай, зажигал камин и, если потребуется, мог сбегать в табачную лавку, хотя такие эскапады сурово карались. Этакие сеньор и вассал в миниатюре. В обмен на услуги старшеклассник должен был защищать своего подчиненного, но детскую жестокость никто не отменял, так что старшие ученики часто вымещали свои обиды на младших. Тем более что обид накапливалось немало.
Ученик частной школы. На заднем плане его «слуга» готовит ему чай. Карикатура из журнала «Панч». 1858
Жизнь в Итоне была не сахар даже для старшеклассников, даже для детей из богатых семей. Подвергнуться порке могли и 18–20-летние юноши, завтрашние выпускники — фактически, молодые мужчины. Для них наказание было особенно унизительным, учитывая его публичный характер. Итонские розги напоминали метелку с ручкой длиною в метр и пучком толстых прутьев на конце. Заготавливал розги директорский слуга, каждое утро приносивший их в школу целую дюжину. Иногда ему приходилось пополнять запас в течение дня. За обычные провинности ученик получал 6 ударов, за более серьезные проступки их число возрастало. Секли в Итоне всегда по обнаженным ягодицам, и в зависимости от силы удара на коже могла выступать кровь, а следы от порки не проходили неделями. Розга была символом Итона, но в 1911 году директор Литтелтон совершил святотатство — упразднил розгу в Старшем отделении, заменив ее тростью. Бывшие ученики пришли в ужас и наперебой уверяли, что теперь английская система образования покатится в тартарары. Родную школу без розог они просто не могли вообразить!
Как в Младшем, так и в Старшем отделении, экзекуции были публичными. Любой из учеников мог на них присутствовать. В этом, собственно, и заключался эффект наказания — чтобы одним махом напугать как можно больше учеников. Другое дело, что итонцы приходили на порки как на шоу, скорее злорадствовать, чем на ус мотать. Ученики, которых никогда не наказывали дома, трепетали от такого зрелища, но и они вскоре привыкали. Судя по воспоминаниям выпускников, со временем они переставали бояться или даже стыдиться наказания. Выдержать его без криков было своего рода бравадой.
Посылая сыновей в Итон, родители отлично знали, что порки их отпрыскам не избежать. В этом плане интересно происшествие с мистером Морганом Томасом из Сассекса в 1850-х. Когда его сыну, ученику Итона, исполнилось 14 лет, мистер Томас заявил, что отныне он не должен подвергаться телесным наказаниям. Эту радостную новость он сообщил сыну «с глазу на глаз», администрация колледжа ничего не знала об его распоряжениях. Четыре года юный Томас протянул без серьезных нарушений. Но когда 18-летнего юношу заподозрили в курении и приговорили к розгам, тогда-то он и открыл своему наставнику, что отец запретил ему подчиняться итонским правилам. Директор не стал писать отцу ученика и просто исключил юного Томаса за неповиновение. Разозленный мистер Томас затеял кампанию в прессе с целью отмены телесных наказаний в Итоне. Ведь, согласно парламентскому акту от 1847 года, преступников старше 14 лет запрещено было пороть розгами (на протяжении всего XIX века, эти правила менялись, становясь то мягче, то жестче). Но если закон щадил зады юных правонарушителей, почему же можно было сечь 18-летних джентльменов? К сожалению, отец так ничего и не добился.
Время от времени, вспыхивали и другие скандалы, связанные с жестокостью в школах. Например, в 1854 году староста в школе Хэрроу нанес другому ученику 31 удар тростью, вследствие чего мальчику понадобилась медицинская помощь. Об этом происшествии раструбили в «Таймс», но никаких последствий скандал не повлек. В 1874 году преподобный Мосс, директор школы в Шрусберри, нанес ученику 88 ударов розгами. По свидетельству врача, осмотревшего мальчика через 10 дней после происшествия, его тело было покрыто рубцами. Невероятнее всего то, что о жестокости директора читатели «Таймс» узнали из его же письма! Раздосадованный Мосс написал в газету, жалуясь, что отец мальчишки растрезвонил о наказании на всю округу. Как будто что-то серьезное произошло! Обычное же дело. Разумеется, директора с должности не сняли, лишь попросили впредь считаться с общественным мнением и не наказывать учеников столь сурово.
Настоящим адом на земле была школа-интернат Крайстс Хоспитал (Christ’s Hospital) в Лондоне. После того как в 1877 году 12-летний ученик Уильям Гиббз повесился, не выдержав издевательств, школа попала в поле зрения парламента. Выяснилось, что с восьми вечера до восьми утра никто из учителей не присматривал за воспитанниками. Власть была сосредоточена в руках старост, а те творили, что хотели. У Уильяма Гиббза был конфликт с одним из старост. Мальчик уже сбегал из школы однажды, но его вернули и жестоко высекли. А когда и повторный побег не увенчался успехом, Уильям предпочел самоубийство еще одному унижению. Вердикт врача — «самоубийство в состоянии временного помешательства». Порядки в школе остались прежними.
Нужно отметить, что телесные наказания в английских государственных школах, а также в частных школах, получающих государственные субсидии, запретили лишь в 1987 (!) году. В оставшихся частных школах телесные наказания отменили еще позже: в 1999 году — в Англии и Уэльсе, в 2000 году — в Шотландии, и в 2003 — в Северной Ирландии.
Несмотря на заверения порнографов, девочек в английских школах XIX века секли гораздо реже, чем мальчишек. По крайней мере, это относится к девочкам из среднего класса и выше. Несколько иной была ситуация в школах для бедных и в приютах. Судя по отчету 1896 года, в исправительных школах для девочек применяли розги, трость и ремень-тоуз. По большей части девочек били по рукам или плечам.
Хотя девочкам доставалось в школах гораздо меньше, чем мальчишкам, женские пансионы тоже порою ужасали. Любой, кто хоть раз читал роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», запомнил мрачный приют Ловуд, где над смиренной Элен Бернс издевалась учительница мисс Скетчард. Прототипом Ловуда стала школа для дочерей духовенства в Кован Бридж, Ланкашир, которую посещали сестры Бронте. Школа была рассчитана на дочерей обедневших священников, не имевших возможности нанять дочерям гувернантку или отправить их в пансион подороже. Именно из финансовых соображений Патрик Бронте, отец будущих писательниц, остановил свой выбор на Кован Бридж.
Кован Бридж. Рисунок из книги Дж. Э. Стюарта «Край Бронте». 1888
Ученицам преподавали правописание, арифметику, историю, грамматику, вышивание и домоводство. Обучение каждой девочки, включая проживание и стол, стоило родителям 14 фунтов в год (за рисование, музыку и иностранные языки приходилось доплачивать), однако эта сумма не покрывала все расходы, и оставшийся бюджет добирали у филантропов. Увы, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и то же самое относится к сыру дешевому. Однако Патрик Бронте счел школу удовлетворительной и в июле 1824 года отправил туда старших дочерей, 11-летнюю Марию и 10-летнюю Элизабет. Осенью того же года к ним присоединились 8-летняя Шарлотта и 7-летняя Эмили.
Школу в Кован Бридж возглавлял богатый священник Уильям Карус Уилсон. Элизабет Гаскелл, биограф Шарлотты Бронте, подчеркивает его благие намерения, обвиняя во всех упущениях недобросовестный персонал. Как бы то ни было, человеколюбивому мистеру Уилсону следовало бы заботиться не только о духовном росте учениц, но и об их питании. Еда в школе была кошмарной: девочки давились подгоревшей овсянкой, прокисшим молоком, гнилым мясом и прогорклым жиром. Рисовые пудинги тоже подкачали, ведь для варки риса кухарка брала застоявшуюся воду из водосточной бочки. А по субботам учениц ожидало настоящее пиршество — пирог из картофеля и мясных ошметков. Привыкшие к простой, но здоровой пище, девочки выходили из-за стола голодными.
Сестры Бронте едва успели оправиться от кори, но в Кован Бридж их поджидали ледяные каменные полы в спальнях и промозглые классные комнаты. Каждое воскресенье ученицам приходилось идти 3 км до церкви в Тансталле, чтобы послушать проповедь своего благодетеля мистера Уилсона. Летом прогулка была приятной, зато в непогоду она становилась настоящим мучением, особенно для голодных и простуженных детей.
Маленькую Шарлотту на всю жизнь потрясло увиденное в школе Кован Бридж. После смерти матери Мария Бронте взяла на себя заботу о младших братьях и сестрах, но в школе добрую и трудолюбивую девочку невзлюбила одна из учительниц, прообраз мисс Скетчард. Придиркам и наказаниям не было конца. Однажды Мария так разболелась, что едва могла подняться с постели, и ученицы пообещали рассказать о ее болезни директрисе — быть может, Марии будет позволено провести день в спальне. Но девочка так боялась гнева учительницы, что начала одеваться, хотя и очень медленно. В этот момент в спальню влетела «мисс Скетчард», сдернула Марию с постели и со всей силы швырнула на пол, продолжая ругать ее за неряшливость и лень. С трудом поднявшись, Мария все же сумела одеться и спустилась в столовую, где ее тут же наказали за опоздание.
Весной 1825 года Мария ослабела настолько, что Патрику Бронте пришлось забрать ее домой, где 6 мая она скончалась от туберкулеза. А когда месяц спустя вслед за ней отправилась и Элизабет, убитый горем отец увез из Кован Бридж Шарлотту с Эмили. Но память о пережитом осталась с ними навсегда.
Тяжелые цепи Гименея
Наравне с детьми, женщины оставались самыми бесправными членами общества. Замужняя дама не имела права заключать контракт от своего лица, распоряжаться имуществом или представлять себя в суде. Подобное бесправие иногда приводило к всевозможным казусам. Например, в 1870 году воришка стянул кошелек у Миллисент Гаррет Фосетт, суфражистки[6] и жены либерального члена парламента. Когда женщину пригласили в зал суда, она услышала, что вора обвиняют в «краже у Миллисент Фосетт кошелька с 18 фунтами 6 пенсами, являющегося собственностью Генри Фосетта». Как сказала пострадавшая: «Мне казалось, будто меня саму обвиняют в воровстве». Правовая грамотность была настолько низкой, что многие женщины узнавали об отсутствии прав, лишь когда дело доходило до судебных разбирательств. До тех же пор они считали, что уж в их-то жизни все благополучно и беда обойдет их стороной.
За правонарушения представительниц слабого пола порою наказывали строже, чем мужчин. Взять, например, такое преступление, как двоеженство (двоемужие). Бигамия была противозаконной, но встречалась совсем не так редко. Например, в 1845 году рабочего Томаса Холла привлекли в суд по этому обвинению. Его жена сбежала, а поскольку кто-то должен был присматривать за маленькими детьми, Холл женился повторно. Чтобы получить развод, требовалось разрешение парламента — дорогостоящая процедура, на которую у подсудимого не хватило бы денег. Принимая во внимание все смягчающие обстоятельства, суд приговорил его к одному дню заключения. Женщины, обвиненные в двоемужии, не могли отделаться таким легким приговором. В 1863 году перед судом предстала некая Джесси Купер. Первый муж покинул ее, пустив слухи о своей смерти, чтобы обмануть кредиторов. Поверив молве, Джесси снова вышла замуж. Когда ее первого мужа арестовали и обвинили в растрате, он в свою очередь донес на жену. Новый муж Джесси поклялся, что на момент заключения брака считал ее вдовой, поэтому расплачиваться пришлось ей одной. Женщину признали виновной и приговорили к нескольким месяцам тюремного заключения.
Как упоминалось выше, бесправие женщины проявлялось еще и в том, что она не могла распоряжаться собственными заработками. Казалось бы, все не так страшно — пускай кладет честно заработанные деньги в общий котел. Но реальность была куда мрачнее. Некая дама, проживавшая на севере Англии, открыла ателье, после того как ее муж потерпел крах в делах. Много лет супруги жили безбедно на доходы от этого заведения, но после смерти мужа предприимчивую портниху ожидал сюрприз: оказывается, покойник завещал всю ее собственность своим незаконнорожденным детям! Женщина осталась прозябать в нищете. В другом случае, женщина, брошенная мужем, открыла собственную прачечную, а заработанные деньги хранила в банке. Прослышав, что у жены дела пошли в гору, изменник отправился в банк и снял с ее счета все до последнего пенса. Он был в своем праве.
Супруг мог отправиться к нанимателю своей жены и потребовать, чтобы ее жалованье выплачивали непосредственно ему. Так поступил муж актрисы Джулии Гловер, который оставил ее вместе с маленькими детьми в 1840 году, но объявился позже, когда она уже блистала на сцене. Поначалу директор театра отказался выполнить его требование, и дело было передано в суд. Выразив сожаление, судья все же вынес решение в пользу мужа, потому что права последнего защищал закон.
Размолвка. Рисунок из журнала «Кэсселс». 1886
Настоящим кошмаром обернулась семейная жизнь Нелли Уитон. После нескольких лет работы гувернанткой она накопила денег и купила дом, приносивший ей годовой доход в размере 75 фунтов. В 1814 году она вышла замуж за Аарона Стока, владельца маленькой фабрики в Уигане. В 1815-м Нелли родила дочь, но в том же году написала в дневнике: «Мой муж это мой ужас, моя беда. Не сомневаюсь, что он станет и моей смертью». Три года спустя мистер Сток выгнал ее на улицу, когда она пожаловалась на невозможность распоряжаться своим доходом. За этой сценой последовало недолгое примирение, но вскоре мистер Сток добился ареста жены, якобы потому что она посмела поднять на него руку. Если бы не помощь друзей, уплативших залог, Нелли коротала бы дни в исправительном доме. В 1820 году женщина получила разрешение на раздельное проживание. Теперь муж обязан был выплачивать ей 50 фунтов в год — меньше, чем ее доход до брака. В свою очередь, Нелли обязывалась жить не ближе трех миль от Уигана и видеться со своей дочерью лишь три раза в год, потому что опека над ребенком опять-таки доставалась отцу.
Несмотря на вопиющую несправедливость, законодатели защищали такое положение дел: «Зачем жаловаться? Лишь один муж из тысячи злоупотребляет своими полномочиями». Но кто даст гарантию, что одним из тысячи не окажется именно твой муж? Наконец, благодаря стараниям как женщин, так и мужчин — их отцов, в 1870 году парламент принял Акт об имуществе замужних женщин, позволивший женам распоряжаться своими заработками, а также собственностью, полученной в качестве наследства. Все остальное имущество принадлежало мужу. Но была и другая загвоздка — раз уж женщина как бы растворялась в своем супруге, она не отвечала за свои долги. Иными словами, приказчики из модного магазина могли явиться к мужу и вытрясти из него все до последнего гроша. Но в 1882 году еще один парламентский акт даровал женщинам право владения всей собственностью, принадлежавшей им до вступления в брак и приобретенной после замужества. Теперь супруги отвечали за свои долги раздельно. Многие мужья нашли это обстоятельство удобным. Ведь кредиторы мужа теперь не могли потребовать, чтобы жена продала свое имущество и расплатилась с его долгами. Таким образом, состояние жены выступало в роли страховки от возможного финансового краха.
Помимо финансовой, существовала и еще более мучительная зависимость — отсутствие прав на детей. Рожденный в браке ребенок фактически принадлежал своему отцу (в то время как за незаконнорожденного несла ответственность мать). При разводе или раздельном проживании ребенок оставался с отцом или с опекуном, опять же назначенным отцом. Матерям разрешались редкие свидания. Разделению матерей и детей сопутствовали душераздирающие сцены. Так в 1872 году преподобный Генри Ньюэнхэм обратился в суд с ходатайством об опеке над своими дочерьми, которые проживали с их матерью, леди Хеленой Ньюэнхэм, и дедушкой, лордом Маунткэшлом. Поскольку старшая дочь уже достигла 16 лет, она могла принимать самостоятельные решения и предпочла остаться с матерью. Но судья распорядился, чтобы младшую, семилетнюю девочку, передали отцу. Когда судебный исполнитель привел ее в зал, она кричала и вырывалась, повторяя: «Не отсылайте меня. Когда я вновь увижу маму?» Судья заверил, что мама будет видеться с ней очень часто, а когда малышка спросила: «Каждый день?», он ответил утвердительно. Однако лорд Маунткэшл, присутствовавший при этой сцене, заявил: «Учитывая то, что я знаю, вряд ли это получится. Он (т. е. зять) настоящий дьявол». Тем не менее рыдающую девочку передали отцу, который унес ее из зала суда. Статья в газете, посвященная возмутительному делу, растрогала многих матерей, которые даже не подозревали о существовании таких законов.
Чтобы защитить своего ребенка, женщина могла попытаться затеять судебный процесс или же просто сгрести его в охапку и пуститься в бега. Последний путь выбирали чаще, но он был опаснее. В частности, так поступила главная героиня романа Энн Бронте «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла». Энн наименее известна из триады Бронте, но, как нам кажется, ее роман ничем не уступает сочинениям старших сестер. «Незнакомку из Уайлдфелл-Холла» зовут Элен Грэхем. В молодости она выходит замуж за очаровательного Артура Хантингтона, который на поверку оказывается алкоголиком, вертопрахом и удивительно аморальной личностью. После рождения их сына Артура мистер Хантингтон начинает ревновать жену к ребенку. С годами конфликт между супругами обостряется. Но если Элен еще может переносить нескончаемые любовные интрижки мужа, его удивительно неотцовское отношение к маленькому Артуру становится последней каплей. Когда Элен замечает, что Хантингтон не только учит ребенка сквернословить, но и начинает его спаивать, она решается бежать. Поскольку в романах все чуточку благополучнее, чем в жизни, побег ей удается, но Элен вынуждена скрываться от мужа. В этом ей помогает ее брат, и, кроме того, Элен зарабатывает на жизнь продажей картин. Тем не менее, если бы не помощь брата — а как мы знаем, не все братья столь милосердны — одними картинами она вряд ли бы прокормилась. В конце романа, раскаявшись, муж Элен умирает, а сама женщина обретает любовь и семейное счастье. Она его заслужила.
Увы, в жизни все не так романтично. Реальным примером битвы за детей является случай с Каролиной Нортон. Красавица Каролина в 18 лет вышла замуж за аристократа Джорджа Нортона. Ее муж не только обладал невыносимым характером, но был еще и юристом, так что прекрасно разбирался в своих правах. В течение 9 лет он регулярно избивал ее. Причем в некоторых случаях Каролина убегала в отчий дом, и тогда Нортон умолял о прощении, и ей не оставалось ничего иного, как вновь с ним воссоединиться. На карте стояло благополучие сыновей, которые по закону должны были оставаться с отцом. Мужу постоянно не хватало денег, и миссис Нортон стала неплохо зарабатывать литературной деятельностью — редактировала дамские журналы, писала стихи, пьесы и романы. Все гонорары шли на домашние нужды.
В конце 1835 года, когда избитая Каролина гостила у родственников, Нортон отослал сыновей к своей двоюродной сестре и запретил жене с ними видеться. Затем он подал иск против премьер-министра лорда Мельбурна, обвиняя его в любовной связи с Каролиной. Тем самым он надеялся отсудить хоть сколько-нибудь денег, но, ввиду отсутствия доказательств, дело было закрыто. Супруги разъехались, но Джордж отказался сообщить жене, где находятся их дети. Он уклонился от законов, разрешавших матери хоть изредка навещать детей, уехав в Шотландию, куда не распространялась юрисдикция английского суда.
Каролина не сдалась. Она начала кампанию с целью изменить правила опеки над несовершеннолетними. Отчасти благодаря ее усилиям в 1839 году парламент принял акт, разрешавший женщинам опеку над детьми до семи лет (женщины, виновные в прелюбодеянии, утрачивали эти права). К сожалению, когда закон все же был принят, один из сыновей Каролины Нортон уже умер от столбняка. Мальчик проболел целую неделю, прежде чем Джордж удосужился известить жену. Когда она приехала, то нашла сына уже в гробу. На этом ее беды не кончились. Коварный муж не только присвоил наследство Каролины, но еще и конфисковал у издателей ее гонорары. Каролина тоже не осталась в долгу и отомстила ему по-женски — по уши влезла в долги, выплачивать которые обязан был Джордж. По закону. Можно только представить себе, с каким необыкновенным горьким наслаждением она покупала самые дорогие наряды и драгоценности!
Акт 1839 года позволял женщинам видеться со своими детьми, но в завещании муж имел право назначить опекуна по своему усмотрению. Иными словами, даже после смерти супруга-тирана женщина не могла забрать детей. Как тут не впасть в отчаянье! Только в 1886 году был принят Акт об опеке над несовершеннолетними, принимавший во внимание благополучие ребенка. Отныне у матери появилось право опеки над детьми, а также возможность стать единственным опекуном после кончины мужа.
Помимо психологического и финансового давления, мужья не брезговали и физическим насилием. Колотили своих жен представители разных сословий. Избиение жены считалось делом заурядным, чем-то вроде шутки — вспомнить хотя бы Панча и Джуди, которые гоняются друг за другом с палкой. Кстати, о палках. Широко известно выражение «rule of thumb» («правило большого пальца»), В экономике — это правило принятия решений, исходя из лучшего, имеющегося на данный момент варианта. В других случаях, «правило большого пальца» обозначает упрощенную процедуру или же принятие решений, основанных не на точных, а на приблизительных данных. Считается, что эта фраза восходит к судебному решению сэра Фрэнсиса Буллера. В 1782 году он постановил, что муж имеет право бить жену, если палка, применяемая для вразумления, не толще большого пальца. Острые языки окрестили Буллера «Судья Большой Палец».
В некоторых случаях родственники жены пытались защитить ее от деспота, но материальные соображения часто превалировали над моральными. В 1850 году лорд Джон Бересфорд так сильно избил свою жену Кристину, что ее братья сочли нужным заступиться. По прибытии в имение Бересфорда они узнали, что его брат, маркиз Уотерфорд, только что сломал шею на охоте, так что титул переходит к Джону. Призадумались братья. Теперь родственник-самодур выглядел куда привлекательнее. В конце концов они развернулись на 180 градусов и убедили сестру терпеть побои в обмен на титул маркизы. Кристина вымещала гнев на детях. Ее сын, лорд Чарльз Бересфорд, клялся, что на ягодицах у него навсегда остался отпечаток от золотой короны, украшавшей мамину щетку для волос.
Частым поводом для побоев была слишком тесная дружба с соседками. Если женщины собираются вместе, жди беды. Наверняка начнут перемывать кости мужчинам да отлынивать от работы. Мужья часто объясняли в суде, что были вынуждены колотить жен, чтобы удержать их от общения с другими женщинами, в частности с их сестрами и матерями.
Хотя английские законы были неласковы к прекрасному полу, кое-какую защиту женщины все же получали. В 1854 году был принят Акт о предотвращении нападений на женщин и детей, благодаря которому мировые судьи могли сами разрешать дела, связанные с избиениями. Прежде подобные дела направлялись в вышестоящий суд. Но помня, что «милые бранятся — только тешатся», судьи со снисходительной улыбкой выслушивали избитых жен. Один судья посоветовал жертве нападения больше не раздражать мужа. Другой отказался выносить приговор, пока не удостоверится, заслужила ли женщина побоев своим брюзжанием или же муж поколотил ее без вины.






