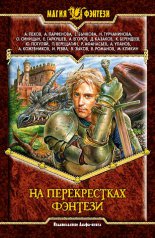У женщин грехов не бывает! Крицкая Ирина

Читать бесплатно другие книги:
Рассказ дал название авторскому сборнику «Сержанту никто не звонит», 2006 г....
Рассказ входит в авторский сборник «Сержанту никто не звонит», 2006 г....
Враги убили жену благородного рыцаря. Что делать, если у тебя на руках – пистолет и четырехмесячная ...