Всего один день Форман Гейл
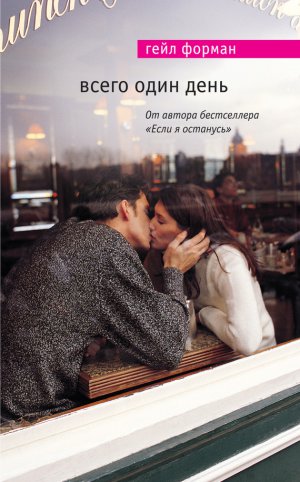
— Это был не ее кабинет, — медленно отвечает он, растягивая каждое слово. — И я бы сказал, что скорее это она меня раздевала.
— А, тогда совсем неважно. Заказывай с шоколадом, конечно же.
Уиллем не сводит с меня глаз.
— Нет. В качестве покаяния я возьму с «Нутеллой».
— Не похоже на покаяние. «Нутелла» — это почти тот же шоколад.
— Она ореховая.
— И шоколадная! Отвратительно.
— Ты так говоришь лишь потому, что ты американка.
— Это никакого отношения к делу не имеет! Шоколад с хлебом ты готов есть бесконечно, но я не думаю, что это из-за того, что ты голландец.
— Почему же?
— Голландский шоколад. У вас же на него патент.
Уиллем смеется.
— Кажется, ты с беьгийцами путаешь. А я такой сладкоежка в маму, она у меня даже не голландка. Она сказала, что, пока носила меня, все время очень сильно хотела шоколада, поэтому и мне он так нравится.
— Ясное дело. Во всем женщины виноваты.
— А кто-то разве обвиняет?
Подходит официантка с нашими напитками.
— Эта Селин, — начинаю я, хотя понимаю, что надо уже забыть о ней, но почему-то не могу. — Она бухгалтер? В клубе?
— Да.
Я понимаю, что мысль стервозная, но я радуюсь, что у нее такая скучная работа. Но Уиллем проясняет:
— Но не бухгалтер. Она концерты организовывает, знает всех этих музыкантов. — И, как будто этого мало, добавляет: — Ну и постеры частично рисует.
— А, — я сдуваюсь. — Наверное, она очень талантливая. Вы с ней познакомились в труппе?
— Нет.
— А как же?
Он теребит обертку от моей трубочки.
— Ясно, — говорю я, сама не понимая, зачем задала вопрос, ответ на который так болезненно очевиден. — У вас что-то было.
— Нет, нет.
— А, — я удивлена. И чувствую себя лучше.
Но потом Уиллем добавляет, как бы невзначай:
— Просто однажды мы влюбились друг в друга.
Я делаю огромный глоток «citron press» и начинаю кашлять, чуть не захлебнувшись. Оказывается, что это не лимонад, а настоящий лимонный сок, разбавленный водой. Уиллем дает мне кубик рафинада и салфетку.
— Однажды? — спрашиваю я, придя в себя.
— Это было давно.
— А сейчас?
— Теперь мы добрые друзья. Ты видела.
Я не совсем уверена, как трактовать то, что я видела.
— Значит, ты больше ее не любишь? — я провожу пальцами по ободку своего стакана.
Уиллем смотрит на меня.
— Я не говорил, что любил ее.
— Ты же только что сказал, что влюбился в нее.
— Сказал.
Я непонимающе смотрю на него.
— Лулу, «влюбиться» и «любить» — это совершенно разные вещи.
У меня разгораются щеки, я не совсем могу понять почему.
— Разве это не вытекает одно из другого? Как Б из А?
— Чтобы полюбить, надо влюбиться, но влюбиться — это не то же самое, что любить. — Уиллем сверлит меня пристальным взглядом из-под ресниц. — Ты когда-нибудь влюблялась?
Мы с Эваном расстались на следующий день после того, как он отправил оплату за обучение в колледже. Не то чтобы это было неожиданно. Нет. Мы даже договорились, что, поступив, разойдемся — если не окажемся близко друг к другу. Он собирался в Сэнт-Луис. А я — в Бостон. Меня удивило время, когда он это сделал. Эван решил, что есть смысл «оторвать пластырь» не в июне, после выпускного, или в августе, когда придет пора разъезжаться, а в апреле.
Но на самом деле если исключить слухи, что меня бросили, и тот факт, что мне не с кем было идти на выпускной, по поводу утраты Эвана я не особо расстроилась. Я на удивление спокойно отнеслась к разрыву отношений со своим первым парнем. Как будто его и не было. Я по нему не скучала, а время, которое я раньше уделяла ему, быстро заполнила собой Мелани.
— Нет, — отвечаю я. — Я ни разу не любила.
На этом месте пришла официантка с нашими заказами. Мой блинчик оказался золотисто-коричневым, с кисло-сладким ароматом лимона с сахаром. Я всецело отдаюсь ему, отрезаю кусочек и кладу в рот. Он тает на языке, как теплая и сладкая снежинка.
— Я про другое спросил, — напоминает Уиллем. — Влюблялась ли ты?
Игривость его голоса вызывает во мне какой-то легкий зуд, который я не могу унять. Я смотрю на него, гадая, всегда ли он так дотошен в выборе слов.
Уиллем откладывает приборы.
— Это вот — влюбиться, — он пальцем берет «Нутеллу» со своего блинчика и кладет солидную каплю мне на запястье. Горячая и жидкая, она начинает течь по моей липкой руке, но Уиллем, облизнув палец, снимает ее и съедает. И все так быстро, как ящер, заглотивший муху. — А вот это — любить, — он берет другую мою руку, на которой часы, и поднимает их, пока не находит, что искал. Он снова облизывает палец и принимается тереть мое родимое пятно, с силой, словно пытается его удалить.
— Любовь — это родимое пятно? — шучу я, убирая руку. Но голос чуть дрожит, а то место, которого коснулся его влажный палец, как-то странно жжет.
— Это нечто такое, что навсегда, что не уберешь, как бы ни хотелось.
— Ты сравниваешь любовь с… пятном?
Уиллем откидывается на спинку стула так, что его передние ножки приподнимаются. Он выглядит очень довольным, блинчиком или собой — не знаю.
— Именно.
Я вспоминаю кофейное пятно на его джинсах. Леди Макбет и ее «Прочь, проклятое пятно!»[14] — этот монолог тоже приходилось учить в школе.
— Мне кажется, что «пятно» — слишком уродливое слово для описания любви, — говорю я.
Уиллем лишь пожимает плечами.
— Ну, может, это только в английском так. По-голландски это будет «vlek». По-француски — «tache». — Он качает головой и смеется. — Да, тоже некрасиво.
— И на скольких языках ты запятнан?
Снова облизнув палец, Уиллем протягивает руку и убирает крошечное пятнышко «Нутеллы» с моего запястья. В этот раз он оттирает его — меня — начисто.
— Ни на одном. Оно всегда сходит, — он запихивает оставшийся блин в рот и тупым краем ножа собирает с тарелки «Нутеллу». А потом пальцем вытирает край, чтобы не оставить совсем ничего.
— Верно, — говорю я. — Зачем ходить с пятном, если постоянно пачкаться заново куда прикольнее. — Из лимонов в моем блинчике куда-то пропала вся сладость.
Уиллем молчит. И пьет кофе.
В кафе забредают три женщины. Все они нереально высокие, почти как Уиллем, и длинноногие — ноги, можно сказать, от груди растут. Словно это некий странный подвид людей-жирафов. Модели. Раньше я их в естественных условиях не видела, но это явно они. На одной из них крошечные шортики и сандалии на платформе; она окидывает взглядом Уиллема, он отвечает ей своей полуулыбкой, но потом, словно опомнившись, переводит взгляд обратно на меня.
— Знаешь, какое у меня впечатление складывается? — спрашиваю я. — Что ты просто бабник. И это нормально. Только признайся себе в этом. А не придумывай какую-то там разницу между тем, чтобы влюбиться и любить.
Я слышу себя будто со стороны. Как маленькая мисс Маффет, этакая праведная ханжа. На Лулу совсем не похоже. И не знаю, чего я расстроилась. Мне-то какое дело до того, что он проводит разницу между тем, чтобы влюбиться и полюбить? Может даже считать, что любовь зубная фея под подушку подкладывает.
Подняв взгляд, я вижу, что Уиллем прикрыл глаза и улыбается, как будто я ему придворный шут. Я выхожу из себя, как ребенок, готовый закатить истерику из-за того, что ему отказали в абсурдной просьбе — например, купить пони, — хотя он и сам понимает, что это невозможно.
— Ты, наверное, в любовь даже не веришь, — мой голос звучит явно раздраженно.
— Верю, — тихо отвечает он.
— Да? Ну расскажи, что такое любовь. На что похожа эта «запятнанность»? — я рисую пальцами в воздухе кавычки и закатываю глаза.
Он отвечает моментально:
— Как у Яэль и Брама.
— Это кто такие? Типа голландская Бранджелина? Это не в счет, кто знает, как у них там все на самом деле? — Модели гуськом входят в кафе, собрались себе на обед кофе с воздухом заказать. Однажды они станут жирными и обычными. Такая красота не вечна.
— Что это за Бранджелина? — рассеянно спрашивает Уиллем. Достав из кармана монетку, он принимается перекатывать ее по костяшкам.
Я смотрю на монетку, смотрю на его руки. Они большие, но пальцы тонкие.
— Неважно.
— Яэль и Брам — это мои родители, — тихонько говорит Уиллем.
— Родители?
Дойдя до конца, он подбрасывает монетку.
— Запятнанные. Мне понравилось твое слово. Яэль и Брам: запятнаны вот уже двадцать пять лет.
Он говорит это с любовью и какой-то грустью, у меня аж живот скручивает.
— Твои такие же? — спрашивает он.
— Они в браке тоже уже почти двадцать пять лет, но в пятнах ли они? — я не могу сдержать смех. — Не знаю, были ли они запятнаны вообще хоть когда-нибудь. Они познакомились в колледже, на свидании вслепую. Мои мама с папой никогда не быи похожи на влюбленных голубков, они скорее такие добрые бизнес-партнеры, для которых я — единственный продукт.
— Единственный? Ты одинокая в семье?
Одинокая? Он, наверное, имел в виду «одна». Я не одинока, не с такой мамой, как у меня. Она ведет специальный календарь, прилепленный к холодильнику, в котором цветами закодированы разные развивающие мероприятия, она следит за тем, чтобы ни минута моей жизни не прошла даром, чтобы она была хорошо и счастливо выстроена. Разве что если вспомнить, как я себя чувствую, сидя с родителями за столом, когда они говорят как бы со мной, но на самом деле не со мной, и в школе, где вокруг много народу, но друзей нет. И я понимаю, что Уиллем, даже если не нарочно, все верно подметил.
— Да, — говорю я.
— И я.
— Они решили остановиться, пока им везет, — говорю я, повторяя то, что всегда говорят сами родители, когда их спрашивают, единственный ли я ребенок. «Мы остановились, пока нам везло».
— Некоторых английских поговорок я не понимаю, — говорит Уиллем. — Если везет, зачем останавливаться?
— Я думаю, это выражение касается азартных игр.
Но Уиллем качает головой.
— По-моему, природа человека такова, что, пока ему везет, он ни за что не остановится. Останавливаются, когда проигрывают. — Он снова переводит взгляд на меня, словно понимая, что его слова могли меня обидеть, и поспешно добавляет: — Я уверен, что это не про твой случай.
Когда я была маленькая, мама с папой пытались родить еще одного ребенка. Сначала ждали, что получится само собой, потом обратились к специалисту, и маме пришлось вытерпеть кучу ужасных процедур, которые так и не помогли. Потом они задумались об усыновлении, начали даже собирать документы, но тут мама забеременела. Она была так счастлива. Я тогда училась в первом классе. Когда родилась я, она рано вышла на работу, но после появления второго ребенка она планировала уйти в длительный отпуск, а потом, может быть, вернуться в свою фармацевтическую компанию на полставки. Но на пятом месяце она ребенка потеряла. На этом они с папой и решили остановиться — «пока везет». Это они мне так сказали. Но, думаю, я даже тогда понимала, что это ложь. Они хотели еще детей, но пришлось ограничиться мной одной, и мне надо быть хорошей дочерью, дабы все могли делать вид, что довольны жизнью.
— Может, ты и прав, — говорю я Уиллему. — Может, действительно никто не останавливается, пока ему везет. Родители всегда так говорят, но на самом деле они ограничились мной одной, потому что больше просто не получилось. А не потому, что им больше не надо было.
— Я не сомневаюсь, что тебя им достаточно.
— А тебя — твоим? — интересуюсь я.
— Может, даже больше, чем достаточно, — уклончиво отвечает он. Уиллем как будто бы хвастается, хотя по его виду так и не скажешь.
Он снова начинает перекатывать монетку. Мы сидим молча, я слежу за ее движением, и в животе растет какое-то напряжение, я все думаю, даст ли он ей упасть. Но Уиллем не дает, все продолжает перекатывать. Наигравшись, он бросает ее мне, как накануне.
— Можно кое-что спросить? — спустя минуту говорю я.
— Да.
— Это было частью программы?
Он настораживается.
— Ну, ты после каждого выступления бросаешь какой-нибудь девчонке монетку, или я особенная?
Вернувшись в отель прошлым вечером, я очень долго рассматривала монетку Уиллема. Это была чешская крона, равная по стоимости примерно пяти центам. Но все же я не стала класть ее в то же отделение кошелька, где хранила другие зарубежные монетки. Я достаю ее сейчас. Она сверкает на ярком солнце.
Уиллем тоже смотрит на нее. Не знаю, говорит ли он правду или просто какую-то безумную чушь, или, может, и то и другое. Именно это он и отвечает:
— Может, и то и другое.
Семь
На выходе из ресторана Уиллем спрашивает у меня, который час. Я поворачиваю часы на запястье. Они кажутся тяжелее обычного, рука под ними чешется. Кожа у меня там бледная, ведь она уже три недели окована этим тяжелым куском металла. Я их ни разу не снимала.
Это подарок от родителей, хотя вручила их мне мама, вечером после получения аттестатов, что мы отметили в итальянском ресторане с семьей Мелани. Там же они сообщили нам и об этом туре.
— Что это? — спросила я. Мы сидели на кухне, отходили от тяжелого дня. — Подарок ведь уже был.
Она улыбнулась.
— А у меня еще один.
Я открыла коробочку, провела пальцами по тяжелому золотому браслету, прочла выгравированную надпись.
— Это слишком, — я действительно так думала. Во всех отношениях.
— Время никого не ждет, — сказала мама, немного грустно улыбнувшись. — И ты заслужила хорошие часы, чтобы следить за ним. — Затем она надела их мне на руку, показала, где там дополнительная застежка, сказала, что они еще и водозащитные. — Ни за что не соскочат. Так что можешь взять их с собой в Европу.
— Ой, нет. Они слишком дорогие.
— Ничего страшного. Они застрахованы. К тому же твой «Свотч» я выбросила.
— Да? — я носила эти часы в полосочку, как у зебры, все старшие классы.
— Ты теперь взрослая. И часы у тебя должны быть как у взрослой.
Я смотрю на них. Уже почти четыре. Во время тура я вздохнула бы с облегчением, потому что самая активная часть дня как раз подходила к концу. Обычно мы в пять отдыхали, а к восьми я, как правило, уже могла пойти к себе в номер и найти какой-нибудь фильм.
— Наверное, пора уже посмотреть что-нибудь из достопримечательностей, — говорит Уиллем. — Ты знаешь, куда хочешь?
Я пожимаю плечами.
— Можем начать с Сены. Это не она? — я показываю на бетонную набережную у какой-то речки.
Уиллем смеется.
— Нет, это канал.
Мы идем по мощеной дорожке, и Уиллем достает толстый путеводитель по Европе «Раф Гайд». Он открывает небольшую карту Парижа и приблизительно показывает, где мы. Район называется «Виллет».
— А Сена тут, — говорит он, проводя пальцем вниз по карте.
— А, — я смотрю на лодку, застрявшую между двумя массивными металлическими воротами; и туда набирается вода. Уиллем объясняет, что шлюз, грубо говоря, лифт, который поднимает и опускает лодки, когда глубина в каналах различается.
— Откуда ты столько всего обо всем знаешь?
Он смеется.
— Я голландец.
— Это что, значит, что ты гений?
— Только по вопросам каналов. Как говорят, «Господь создал землю, а голландцы — Голландию». — И рассказывает, как они отвоевали огромный кусок своей территории у моря, о том, как все ездят на великах по низким дамбам, не позволяющим воде залить страну. О том, что проехаться под дамбой — это символ веры, потому что ты хоть и знаешь, что находишься ниже уровня моря, видишь, что ты не под водой. Рассказывая обо всем этом, Уиллем кажется такими юным, я буквально вижу в нем маленького мальчика с взъерошенными волосами и огромными глазами, который смотрит на бесконечные каналы, гадая, куда же они ведут.
— Может, на лодке прокатимся? — спрашиваю я, показывая на баржу, которая только что прошла через шлюз.
У Уиллема загораются глаза, и на миг я снова вижу того мальчишку.
— Не знаю, — он смотрит в путеводитель. — Тут об этом районе почти ничего нет.
— Может, спросим?
Уиллем обращается к прохожему, и ему дают очень путаный ответ, буйно жестикулируя. Когда он поворачивается ко мне, я вижу, что он воодушевлен.
— Ты права. Он сказал, что из бассейна выходит пассажирская лодка.
Мы продолжаем свой путь по мощеной дорожке, пока она не выходит к большому озеру, где плавают люди на байдарках. А у бетонного причала пришвартованы две лодки. Но подойдя к ним, мы видим, что они не для общественного пользования. Лодки для туристов уже закончили свой рабочий день.
— Сможем тогда поплыть по Сене, — говорит Уиллем. — Там больше народу, и лодочники работают круглосуточно. — Но глаза у него грустные. Я вижу, что он расстроен, словно разочаровал меня.
— Ну и ничего страшного. Мне все равно.
Но он с тоской смотрит на воду, я вижу, что ему не все равно. И я понимаю, что я его не знаю, но я спорить готова, что тот маленький мальчик заскучал по дому. По лодкам, каналам и другой воде. И на миг я представляю себе, каково это — уехать на два года, тем не менее Уиллем отложил возвращение еще на день. Он сделал это. Ради меня.
Поднялся ветер и принялся раскачивать стоявшие у причала лодки и баржи. Я смотрю на Уиллема; от печали морщинки на его лице стали глубже. Я оглядываюсь на лодки.
— Вообще-то мне не все равно, — лезу в сумку за кошельком, за лежащей там стодолларовой бумажкой. Размахивая ею в воздухе, я кричу:
— Я хочу прокатиться по каналу. И готова заплатить!
Уиллем резко поворачивается ко мне.
— Лулу, что ты делаешь?
Но я отхожу от него.
— Есть желающие прокатить нас по каналу? — кричу я. — У меня тут старая добрая американская зелень.
На барже с синим тентом показывается рябой мужчина с острыми чертами лица и редкой эспаньолкой.
— Сколько зелени? — спрашивает он с сильным французским акцентом.
— Все!
Он берет сотню и пристально рассматривает. Потом нюхает.
Пахнет, наверное, по-настоящему, так как он отвечает:
— Если пассажиры не против, я отвезу вас вниз по каналу до Арсенала, это рядом с Бастилией. Там мы встаем на ночь, — он показывает на заднюю часть лодки, где за маленьким столиком сидят четыре человека и играют в бридж или что-то типа того, и обращается к одному из них.
— Да, капитан Джек, — отвечает тот. Ему лет шестьдесят. Уже седой, а лицо раскраснелось от солнца.
— Тут к нам попутчики хотят присоединиться.
— А в покер они играют? — интересуется одна из женщин.
Я играла на мелочь в семикарточный стад с дедушкой, пока он был жив. Он говорил, что я прекрасно блефую.
— Да неважно. Она уже все деньги мне отдала, — отвечает капитан Джек.
— Сколько он с вас взял? — спрашивает один из мужчин.
— Я дала сотню долларов, — говорю я.
— Куда?
— По каналам.
— Вот поэтому мы и зовем его капитаном Джеком. Он пират.
— Нет. Это потому, что меня зовут Жак и я ваш капитан.
— Но целую сотню, Жак? — говорит женщина с длинной седой косой и поразительными голубыми глазами. — Это многовато даже для тебя.
— Она сама предложила, — Жак пожимает плечами. — К тому же чем больше денег, тем больше я проиграю вам в карты.
— Да, хороший аргумент, — соглашается она.
— Мы не сейчас отплываем? — интересуюсь я.
— Скоро.
— Когда именно? — Уже больше четырех. День стремительно идет к концу.
— Такие вещи нельзя торопить, — он взмахивает рукой. — Время — оно как вода. Жидкое.
Мне оно жидким не кажется. Наоборот, для меня оно настоящее, живое и твердое, как камень.
— Он хотел сказать, — говорит мужчина с хвостиком, — что до Арсенала плыть прилично, а мы как раз только что собирались открыть бутылочку бордо. Капитан Джек, давай пошевеливайся. За сотню вино можно отложить и на потом.
— А мы продолжим распивать этот чудесный французский джин, — говорит дама с косой.
Пожав плечами, он убирает в карман мои деньги. Я с ухмылкой поворачиваюсь к Уиллему. А потом киваю капитану Джеку. Он подает мне руку и помогает сесть на лодку.
Пассажиры представляются. Оказывается, что они датчане, на пенсии, и, как они говорят, каждый год арендуют баржу и отправляются в четырехнедельный круиз по Европе. Агнет с косой, а Карин с короткими жесткими и торчащими во все стороны волосами. У Берта целая копна светлых волос, а у Густава — лысина и крысиный хвостик и беспроигрышно модное сочетание носков с сандалиями. Уиллем представляется, и я, почти на автомате, называюсь Лулу. Как будто я ею действительно стала. Может, так и есть. Эллисон никогда бы не отважилась на то, что сделала я сейчас.
Капитан с Уиллемом отвязывают лодку, и я думаю спросить, не должны ли мне вернуть часть денег, если уж Уиллем будет исполнять роль первого помощника, но замечаю, что Уиллем просто кайфует. Он явно умеет управляться с лодкой.
Баржа, пыхтя, выходит из широкого бассейна, и перед нами открывается вид на старое здание с широкими колоннами и современное с серебряным куполом. Датчане возвращаются к своей игре.
— Смотрите, все не продуйте, — кричит им капитан Джек. — А то мне нечего проигрывать будет.
Я пробираюсь на нос и любуюсь проплывающим пейзажем. Тут, на воде, под узкими сводчатыми пешеходными мостиками, прохладнее. И пахнет тоже иначе. Чем-то старым, заплесневелым, словно между этими влажными стенами хранится какая-то древняя история. Интересно, какие секреты они рассказали бы, если бы могли говорить.
Когда мы доходим до первого шлюза, Уиллем забирается на борт, чтобы показать мне, как работает его механизм. Старые металлические ржавые ворота, такого же противного цвета, как и вода, закрываются за нами, вода сливается, и в нижней секции открываются другие ворота.
Мы попадаем в такую узкую часть канала, что наша баржа занимает его почти на всю ширину. От канала вверх, к улицам, ведут крутые валы, а там растут тополя и вязы (по словам капитана Джека), образуя арки, которые спасают от беспощадного послеобеденного солнца.
Порыв ветра качает деревья, и на палубу, трепеща, падают листья.
— Дождь собирается, — объявляет капитан Джек, нюхая воздух, как кролик. Я смотрю наверх, потом на Уиллема и закатываю глаза. На небе ни облачка, в этой части Европы дождя не было уже десять дней.
А Париж продолжает жить своей жизнью. Женщины пьют кофе, присматривая за детьми, носящимися по тротуарам. Торговцы в открытых палатках, как ястребы, приглядывают за своими овощами и фруктами. Любовники обвивают друг друга руками, невзирая на жару. А на мостике стоит кларнетист и играет им всем серенаду.
Я в этой поездке почти не фотографировала. Мелани все время прикалывалась надо мной на эту тему, а я всякий раз отвечала, что для меня важнее все это проживать, нежели фанатично фиксировать. Хотя, по правде говоря, в отличие от подруги (которая хотела запомнить и продавца обуви, и мима, и симпатичного официанта, и всех остальных, с кем общалась), меня ничего не цепляло. В самом начале тура я еще фотографировала достопримечательности. Колизей. Бельведер. Площадь Моцарта. Но потом перестала. Выходило не особо красиво, да и все это можно найти на открытках.
Но этого на открытках нет — жизни.
Я фотографирую лысого мужчину, выгуливающего четырех лохматых собак. Девочку в просто нелепой юбке с рюшечками, она обрывает лепестки с цветка. Парочку, бесстыдно целующуюся на искусственном пляжике у канала. Датчан, которые ничего этого не замечают, весело проводя время за игрой.
— Давай я вас тоже сфотографирую, — предлагает Агнета и на шатающихся ногах встает из-за стола. — Разве ты не милашка? — Она поворачивается к столу. — Берт, я когда-нибудь была такой же милашкой?
— Да ты и сейчас такая, любимая.
— Вы давно женаты? — интересуюсь я.
— Тринадцать лет, — отвечает она, и я думаю, интересно, запятнаны ли они, и тут она добавляет: — Хотя десять из них мы были в разводе.
Она замечает мое смущение.






