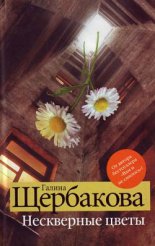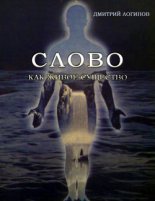К чему снились яблоки Марине Жукова Алёна
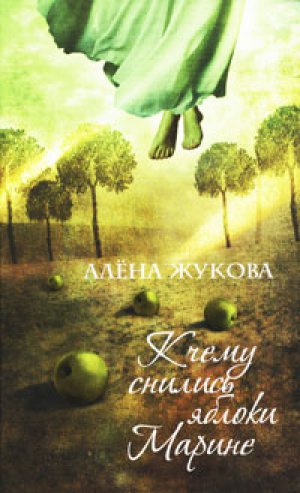
– Вы правы, конечно, я ошибался. Ничего бы не вышло, она поняла это раньше. Теперь послушайтесь моего совета – сегодня вам лучше остаться тут. Во-первых, у меня есть основания полагать, что ваше сердце опять барахлит. Мне не нравятся ваша бледность и синева на губах. Кроме того, вам угрожает реальная опасность, и будет лучше, если вы на время скроетесь.
Серж нервно хохотнул:
– Нет, вы, определенно, сумасшедший, и даже опасный сумасшедший. Зачем все это, от кого и от чего я должен скрываться?
– Поверьте, есть причины.
– Я вам не верю, – отрезал Серж.
– Тогда сестра вас выведет тем же путем, что вы проделали, идя сюда.
– А что, тут нет другого выхода?
– Для вас нет.
Мэтт Девис уже пять часов сидел возле центрального входа, ожидая Сержа. Он находился в больнице с утра, собственно, с утра он его и ждал. Все было готово для эксперимента еще до полудня. После обеда состояние Аннет стало ухудшаться, Дэвис нервничал и не понимал, почему бы доктору не поторопить «Ловца», так он его теперь прозвал. Но Робинс не собирался этого делать, объясняя, что никакого давления, только желание и добрая воля. Когда стало ясно, что Аннет уходит, он, страшно матерясь, поклялся наказать этого парня. Он видел убитых горем мужа и дочь Аннет. Он все время задавал себе вопрос: почему ее душа не захотела удержаться ради них? Почему доктор так уверен, что никто из них не смог бы ее вернуть?
Его дочь Кэри лежала в палате этажом выше. Он каждый день заглядывал в ее неподвижное лицо и всякий раз надеялся, что увидит в нем знак возвращения. Иногда казалось, что восковая бледность исчезла, что порозовели губы и на них появилась тень улыбки. Он подолгу разговаривал с ней – так советовал доктор, да и ему самому хотелось. Раньше поговорить не получалось, она проживала свою безумную подростковую жизнь и редко дослушивала до конца то, что говорил отец. Сегодня он рассказал, как не удался эксперимент, но добавил, что все сработает, если…
Если ее дружок захочет, а если не захочет, то тогда он его точно посадит.
Доктор постучал по спине детектива, выведя того из глубокой задумчивости:
– Все сидишь, ждешь? А зачем? Что ты собираешься ему сказать? Он ни в чем не виноват, не в нем дело. Она сама не захотела. Я, наконец, понял это, когда Сагрине опоздал, и я даже догадываюсь почему. Скорее всего она ему помогала отыграться, а потом, может быть, захотела еще выше взлететь, чтобы дальше увидеть, и там ей открылось что-то такое, после чего она передумала возвращаться. Что это, мы не узнаем. Но ей оттуда виднее. Может, она его уже там ждет. Я ведь часто замечал, случается так: человек уже по всем признакам не жилец, уже не надеешься, и вдруг чудо – а это его душа поднялась высоко и прозрела. И увидела она, что есть еще не законченная работа в этом теле. Помню случай с одним пациентом. Уже ничего не ждали, кроме конца, да и никто его, собственно, тут и не стремился удержать, кроме докторов, разумеется. Человек был тяжелый, многим жизнь испортил, а у многих и отнял, так вот… не тут-то было, вернулся, еще лет двадцать прожил, а знаешь для чего? Душу свою наизнанку выворачивал, писателем знаменитым стал, потому и вернулся. А этого Сагрине оставь в покое, и бойфренда твоей Кэри тоже. Если душа твоей девочки поймет для чего, то найдет дорогу домой.
Среди ночи Серж проснулся от странных звуков. В ушах стоял звонкий смех, лепет, шушуканье и возня. Казалось, что где-то затевается веселая игра и его вот-вот туда позовут.
Очень хотелось встать. Тело и голова были легкими от удивительного состояния лопнувшей внутри оболочки. Близко, очень близко зазвенел тонкий девичий голосок. Серж хотел было посмотреть, откуда он доносится, но не смог повернуть головы. А голосок звал, манил. Наконец он ясно расслышал слова: «Ну чего ты застрял! Руку, руку давай!» Он изловчился, потянулся и почувствовал, как невероятная сила оторвала его от кровати и стремительно увлекла за собой. Он летел над землей, среди тысяч, а может, миллионов светящихся пузырьков. Они сталкивались и разлетались, кружились и падали. Он знал, что летит рядом с ней. Не видел этого, не чувствовал, но знал. Было хорошо, как никогда раньше. Хорошо, потому что теперь навсегда.
Сказка о перекрестке
Ничего особенного в этом перекрестке не было. Даже если с высоты птичьего полета посмотреть – простенький такой перекресток, хоть и возникший от пересечения двух самых больших и значительных улиц города. На одном углу бензоколонка, на другом – школа, на третьем – банк, на четвертом – маленькие магазинчики, химчистка и сапожная мастерская. Бывают другие перекрестки, где по углам расставлены театры, соборы, парки и рестораны. Над ними, расцвеченными огнями и наполненными чудными звуками и запахами, кружат подолгу птицы, щебеча и воспаряя к небесам в затейливых птичьих танцах. А над таким, как этот, они пролетают не задерживаясь. И тем не менее именно над этим скучным перекрестком однажды в промозглый февральский день зависло в небе серебристое облачко. Вряд ли кто-то смог бы разглядеть его легкую тень среди тяжелых сизых туч, посыпающих землю ледяными колючками. И кому охота в такую погоду поднимать глаза к небу?.. А жаль. Поэтому никто, кроме недовольно каркнувшей одинокой вороны, так и не увидел, как на долю секунды вспыхнуло солнце и превратило маленькое облако в гигантское белоснежное крыло, но, возможно, это только так показалось. Хотя, собственно, с этого все и началось.
На том углу, где сгрудились дешевые магазинчики, стояла сапожная мастерская. Старожилы могли бы подтвердить, что сколько существовал этот перекресток, столько и стояла в дальнем углу будка сапожника. Раньше будка, теперь – красивый павильон с тонированным стеклом во всю стену, на котором под позолоченным сапогом красовалась надпись: «Бенцион и сыновья». Внутри павильона в тот момент, когда на небе происходили непонятные явления, находился мужчина лет тридцати пяти, который был единственным праправнуком Бенциона. После всех войн, погромов и переселений из семи сыновей Бенциона осталось сначала три, потом из этих трех – один. Этот один родил четверых, но из них тоже остался один. У последнего родилась дочка, которая так и не вышла замуж, но родила мальчика, и его назвали Вениамин. Вениамин продолжил дело, начатое прадедом, развил его и приумножил, но женой и детьми так и не обзавелся, потому что много лет был влюблен в женщину, которая об этом понятия не имела. Почему так? Сложно сказать. Во-первых, он считал, что она для него слишком красива. Как в той басне: она – тонкая легкая Стрекоза, а он – тяжелый приземистый Муравей. Стрекоза – не значит вертихвостка. Вот уже пятый год она работает в соседнем банке, а Муравей каждое утро приникает к стеклянной стене своей мастерской, чтобы посмотреть, как Стрекоза выпрыгивает из автобуса и на высоких каблучках, едва касаясь земли, летит через дорогу по направлению к банку. Он знает, что ее зовут Юлия – об этом гласит табличка на ее груди, еще он знает размер ее ноги и много всяких подробностей. Про размер ноги – это не потому, что она к нему заходила и что-то там чинила. Нет. Эта девушка скорее купит новую пару, чем будет чинить старье. Он догадывался, что те туфельки и сапожки, в которые обуты ее красивые ножки, ей не по карману, но тот, кто два раза в неделю паркует свой «Порш» у химчистки, поджидая Стрекозу, и захлопывает за ней дверцу, как ловушку, должно быть, не скупится на подарки. Она ни разу за пять лет не зашла в мастерскую к Вениамину, а он мечтал об этом каждый день. Поначалу, когда открыли отделение банка, он даже не сомневался, что Стрекоза прилетит со сбитыми подметками и разболтавшимися застежками. Так не бывает, чтобы ничего не ломалось и не требовало ремонта. Но время шло, и Вениамин понял, что на этом перекрестке их улицы не пересекутся. Через год он открыл счет в новом банке и приходил туда каждую неделю. Стоя в очереди, старался в упор не смотреть на кассира по имени Юлия. Когда подходил к ее окошечку, то терял дар речи. Она поднимала глаза, но, казалось, не видела его, дежурно улыбалась и дежурно желала хорошего дня. Он возвращался к себе в мастерскую и вынимал кованый сундучок. Там лежал его секрет.
Этот секрет он смастерил собственными руками по старым сапожным выкройкам, доставшимся от прадеда Бенциона. Два удивительных обстоятельства сложились в одно, и всякий раз, вынимая пару изящных туфелек-лодочек цвета темного шоколада, он вспоминал, как это было. В тот день улица с ночи покрылась глубоким мокрым снегом. На этот раз Стрекоза не взлетела, увязнув в снегу, и сменила траекторию. Она прошла так близко от Вениамина, который, как всегда, стоял за стеклом, что у него забилось сердце и ему захотелось убежать, но ноги приросли к полу. Прошла, не повернув головы, а на снегу остались четкие следы. Он выбежал на улицу и быстро, чтобы никто не заметил, снял мерку. Как самую большую драгоценность, держал потом в руках слепок ее ступни, сделанный по снежному следу. Так случилось, что вскоре в мастерской протек котел отопления и пришлось провести небольшие ремонтные работы. Сняли пол, открыли подвал, а там нашли сундучок, обмазанный воском и укутанный в брезент. Ребята решили, что нашли клад, вскрыли и огорчились, зато Вениамин был счастлив, как дитя. В сундуке оказались образцы кожи, фурнитура, гвоздики, выкройки, краски и нитки. Сапожный скарб. Сундучок явно принадлежал самому Бенциону, поскольку на образцах стояли год и месяц. Все отлично сохранилось самым невероятным образом. На дне сундука лежала коробка с письмами Бенциона к девушке Мане Ясулович, которая стала его женой и прапрабабушкой Вениамина. В одном из писем жених интересовался, нравится ли невесте тот фасон и цвет ботинок, которые она получила. Там же он оправдывался, что, к сожалению, тот цвет кожи, который она заказывала, а именно «кофе с молоком», он достать не смог, поэтому он решил, что «темный шоколад» – в самый раз для нашего климата.
В этот же вечер Вениамин задумал сшить туфельки по стрекозиному слепку, взяв кожу и гвоздики из сундучка. Он не знал, для чего он это делает и сможет ли подарить их ей, да, собственно, так далеко он и не загадывал. Взял мягкую кожу и острые гвоздики и каждым движением шила и ударом молоточка вбивал в эти туфельки слова любви. Эти слова были припечатаны позолоченными шляпками в подошвы и в каблучки, нанизаны на шнурочки и застежки. Когда работа была закончена, Вениамин сам удивился, до чего невесомыми казались эти туфельки. Так бы и лежали они в сундучке, дав следующим поколениям повод судачить о странностях деда Вениамина и о его таинственной страсти, но в это время и в этом месте случилось то, что многие приняли за погодное явление. В тот момент, когда Стрекоза выпрыгнула из автобуса, Вениамин увидел, как ярко блеснул солнечный луч и по земле пронеслась легкая тень крыла. Он хотел посмотреть в небо, но не смог оторвать от Стрекозы глаз. Как хороша она была сегодня! Капюшон слетел с золотистых волос, рассыпанных по плечам, пальто распахнулось, открыв новые сапоги цвета «кофе с молоком». Она прошла совсем немного, как вдруг нога подвернулась на отколовшемся каблуке. Ее взгляд мгновенно сфокусировался на вывеске сапожной мастерской. Она сменила направление и с трудом доковыляла до потрясенного Вениамина. Никого из посетителей не было. Только она стояла перед ним, как балерина, на одной ноге и протягивала изуродованный сапог.
– Вы можете это починить? Мне нужно сегодня к шести. Я тут работаю недалеко, в банке. Зайду в конце рабочего дня. У вас нет каких-нибудь тапочек? Простите, сейчас позвоню подруге…
Вениамин остановил ее:
– Подождите, примерьте вот это.
Темно-шоколадные туфельки стояли у ног Стрекозы. Он осторожно, как хрустальную, поднес туфельку к худенькой ступне. Борясь с дрожью в руках, надел, и она, как перчатка, мягко обхватила Юлину ножку. Сама не зная почему, Юля вдруг вздрогнула и посмотрела на Вениамина:
– Простите, я вас не сразу узнала. Вы наш клиент. Вы обычно приходите к нам по четвергам. А эти туфли мне как раз впору. Они такие красивые! Жаль, что еще зима. А они продаются? Нет? Как жаль! А где такие можно купить? Вы сделали сами? Невероятно! Разве человек может сам сделать туфли? Ой, извините, я такую ерунду несу! Вы не подумайте, что я из тех барышень, которые не знают, как повидло попадает в конфеты, это я только сверху блондинка…
Стрекоза смеялась заливисто и звонко. Она встала, прошлась, потом закружилась.
– Послушайте, вас как зовут? Вениамин, да, да… редкое имя, я на работе обратила внимание… Вениамин, это невероятно, но мне кажется, что я сейчас взлечу. Такая легкость в ногах! Я ведь больше всего на свете люблю танцевать. Вот и сегодня пойду в клуб.
Она вдруг погрустнела, а Вениамин поспешил ее успокоить:
– Я с радостью подарю вам эти туфли.
Стрекоза вежливо поблагодарила, ответив, что не может принять такой дорогой подарок, но если цена будет подходящая, она их купит. Вениамин опустил голову и буркнул под нос, что туфельки не продаются. Сказка заканчивалась. Юлия уходила, договорившись, что зайдет за сапогами около шести, а пока, если сапожник так настаивает, она с удовольствием наденет шоколадные туфельки. Вениамин видел, как она вприпрыжку перескочила скользкую мостовую и скрылась за дверями банка. Сломанный каблук лежал возле сапога. Вениамин понял, что ему до тошноты противно их чинить. Его мутит от мысли, что она в этих сапогах поедет в клуб, а потом скинет их с ног, перед тем как улечься в постель с водилой «Порша». Но что он мог сделать? Можно, конечно, скрепить таким образом, чтобы через часок-другой каблук опять отвалился. Но что она тогда подумает о нем? Халтурщик! Безрукий халтурщик! И уж точно больше никогда не зайдет.
В то время как Вениамин терзался дилеммой ревности и профессиональной чести, с Юлией начали происходить необъяснимые явления. Стоя и сидя по многу часов за банковской стойкой, она хорошо знала, что такое усталость, когда думаешь только о том, чтобы вытянуть ножки. Туфельки Вениамина отрывали ее от земли. Она не чувствовала тяжести, а самое важное – тяжесть ушла из души. Ведь Юленька никому не рассказывала, что у нее давно нет сил сбросить с себя груз вялотекущего романа. Когда-то она ждала и надеялась, что, посадив ее в свой «Порш», он скажет: «Поехали! Я теперь с тобой навсегда. Я сделал выбор, и этот выбор – ты!» Чем дольше длились их отношения, тем меньше этих самых отношений было. Уже никто не говорил о любви, разве что упрекая. На календаре был День всех влюбленных, а на душе – февраль, серая муть и ледяной дождь. Юлия еще раз глянула на свои ножки в шоколадных туфельках и готова была поклясться, что они греют не хуже сапог. Сквозняки от постоянно открывающейся и закрывающейся входной двери гуляли по ногам, но сегодня она их не чувствовала. А вот тепло – да. И еще она все время думала про Вениамина. Когда он надевал на нее туфельки, по телу прошла теплая волна удовольствия.
«Он не просто так сидел у моих ног и преданно смотрел снизу вверх, – подумала Юля. – Что же это напомнило? Точно – собаку! Большого, лохматого пса. Глаза как угли, волосы черные. Знойный мужик. Видно, что добрый и сильный. Нет, правда, так еще никто ко мне не прикасался! Чуткие пальцы, аж дрожь пробивает… Господи, совсем с ума сошла! Он же тут торчит уже лет пять со своей мастерской, а мне и в голову не приходило! Это, дорогая моя, от безысходности. Надо же – туфельки сам сделал, как для меня. А как размер узнал? Совпадение…»
В половине шестого Юлия отворила дверь сапожной мастерской. У стойки стояли две женщины и забирали заказы. Вениамин, увидев Юлю, споткнулся и остановился, забыв, зачем шел. Дамы уходили, а Вениамин так и стоял, окаменев. Юля улыбнулась и произнесла невероятные слова. Невероятные не только для Вениамина, но и для самой себя:
– Я передумала. Мне сапоги со сломанным каблуком не нужны. Не хочется снимать шоколадные туфли. Если можно, я в них останусь навсегда.
Вениамин не сразу, понял о чем речь, но когда до него дошло, то позвал Юлю замуж. А в этот вечер они танцевали вдвоем сначала в ресторане, потом в клубе до самого утра. Вениамин от счастья не чувствовал земли под ногами, а Юлия летала над этой землей в шоколадных туфельках, опьяненная любовью, легкостью и танцем. Произошло ли все это по чистой случайности или действительно не обошлось без вмешательства белого крыла или хотя бы его светлой тени, пронесшейся над самым обычным и скучным перекрестком, – кто знает?
Переправа
В маленьком сквере населенного пункта N, именуемого поселком городского типа, лежал на скамейке странного вида гражданин. Странность его заключалась в одежде, абсолютно не соответствовавшей месту и времени суток. Скверик был пыльный и грязный, примыкающий к пристани, от которой ежедневно отходил паром, перевозивший редких пассажиров на другой берег реки, а человек был одет в роскошный, местами запылившийся смокинг, на манжетах белоснежной рубашки жарко горели брильянтовые запонки, и лаковые туфли, казалось, сейчас стекут нефтяной лужицей под скамейку, обоссанную котами и алкоголиками. Чудовищное несоответствие портрета и пейзажа вызывало волнение, если не сказать – беспокойство. Возле него стояли два солидных кожаных чемодана и множество мелкого багажа – баулы, сумки, рюкзаки и коробки, а под голову господина вместо подушки был подложен кейс.
Можно было бы предположить, что господин – заезжая знаменитость, отставшая от труппы или оркестра. Еще таким образом мог выглядеть жених, сбежавший с собственной свадьбы, или покойник, приодетый по случаю своих похорон.
На лице спящего застыла гримаса отвращения. Наконец неудобная поза, в которой он долгое время находился, измучила его, и он пошевелился. Открыв глаза, человек тотчас же принял вертикальное положение. Почти сразу же засунул руку в карман и вынул мобильник. После недолгих и, видимо, неудачных попыток с кем-то связаться отшвырнул его в сторону. Слова, которые он заорал в пространство, тоже не очень-то вязались с его респектабельным видом:
– Сраные мудаки! Сраный город и сраная связь!
Человек посмотрел по сторонам и, не заметив никого, кроме испуганно вспорхнувшего воробья, затих. Но молчание длилось недолго.
– Сорок лет прошло, а ничего в этой дыре не изменилось! – с горечью констатировал незнакомец. – Даже эта скамейка.
Человек повернулся к спинке скамьи, выкрашенной ядовитой зеленью, и провел по ней ладонью.
– Тут должно быть вырезано. Где это? А, вот, нащупал: «Толя + Оля = Бля!» Моя работа. Сколько мне тогда было, 13 или больше? Кто вообще эта Оля? Та, что села за недостачу в продмаге, или та, что с Бутцем спуталась и напоролась на его перо? Господи, о чем я думаю!
Господин тоскливо оглянулся по сторонам и посмотрел на часы. Они тоже абсолютно не соответствовали месту действия. Солнечный луч, попав на циферблат, усилился, вобрав в себя бесстыдный блеск роскоши и, как мечом, ударил по скульптуре Пионера с барабаном, стоящей посреди клумбы. Пионер не дрогнул, а господин еще больше затосковал:
– Зачем было сюда ехать? Что за бред! Кто сказал, что поможет? Кто вообще знает, что поможет? Ну заехал, посмотрел. И что? Дом развалился, могилы заросли, народ выродился. Гиблое место. Пьянство беспробудное вокруг. Свекольные поля, элеватор – все самогоном пропахло. И тогда все ломалось – техника, люди, – и теперь тоже. Вот – мобильник не работает. У них плотину снесло! Господи! Разве только плотину? У них крышу снесло! Можно ведь хоть как-то наладить связь с другим берегом! Паром у них есть. Замечательно! Так перевезите, уроды. Нет, какая-то бодяга возле этого происходит!
Он встал со скамейки, прошелся туда-сюда, посмотрел на мертвый мобильник и с раздражением спрятал его в карман.
– И эти дебилы в офисе – тоже, как всегда. Ну нет связи, так что? Отрядили вертолет, и через пару часов тут. А Паша, подонок, партнер гребаный, только и ждет, что на мое место сядет. Глаза прячет, свои бабки докторам платит, крутых эскулапов нарыл. Не торопись, Паша, и вы, господа коновалы, хоть оно там в моей башке метастазирует, еще не ясно, какой эффект попутно возникает. Вот, например, раньше ни хрена не мог вспомнить, что там было вчера – куда, с кем, зачем… А теперь чувствую – мозги разрослись, вроде брокколи. И что интересно: ясно вижу на двадцать лет назад. Не просто вижу – чувствую со всеми делами: звуки, запахи. До того четкая картинка, что кажется, тот, кто рядом стоит, подсмотреть может и там оказаться.
Господин обернулся, чтобы проверить, не стоит ли кто за его спиной. Никого не было, только воробьев прибавилось на дорожках. Его взгляд застыл, и казалось, что он проваливается в сон, как вдруг, очнувшись, быстро заговорил:
– А неплохо бы в прошлое провалиться и все по-новому развести. Вот недавно, натурально, видение было: река темная, дождем набухла, пристань эту туманом затянуло, а по ней банку консервную ветер мотает. Она дребезжит, а края ее зубастые, волнистые – сразу видно, что ножом вскрывали.
Господин встал со скамейки и пнул ногой воображаемую банку, потом подставил носок другого ботинка.
– Он мне спасовал, я – ему. Гоняем мы с дружком банку, заводимся, отталкиваем друг друга. Дружок старше и сильнее, зовут его Севка Бутц. Не оттеснить мне его, не дотянуться ногой. Я злюсь, кусаюсь, как щенок. Он захватывает мою шею и отрывает от земли. Ноги болтаются, я ими сучу в воздухе, а дыхания уже ноль. Придушит вот-вот. Дотягиваюсь до кармана, где ножичек перочинный припрятан, и ударяю им куда попаду. Моя шея свободна, а нож, как жало, торчит в Севкином бедре. А дальше – только свист в ушах и бег…
Догнать меня тогда Севка не смог, зато потом по жизни отыгрался на всю катушку. Запугал, что в милицию сдаст вместе с ножом этим, и превратил меня, сосунка десятилетнего, в своего раба. Эх, если бы провалиться туда…
Возбуждение утихло, и человек опустился на скамейку. Он огляделся вокруг мутными, как со сна глазами. Откинулся на спинку скамьи.
– Стоп, еще раз… Почему я тут? Почему еще до сих пор тут? Почему из этого города только один путь – паромом через реку? Что там с поездами и автотранспортом? Не на острове же я? Почему молчит мобильник? Почему паромщик – старый маразматик – требует багажную квитанцию, которую мне должны выдать в кассе, но не выдают, поскольку у меня перевес багажа? Все это – безумный бред! А может, я сплю или под «морфушкой»? Нет, не сплю. Вижу воробья, кассу, скульптуру Пионера с барабаном. Охренеть – Пионер с барабаном! Oтовсюду их вынесли, а тут стоит. И еще столько же простоит, пока сам не развалится, как все тут.
Солнце взошло высоко, и редкие сети листвы над скамейкой пропускали все больше света. Поблизости никакой другой тени не наблюдалось.
– Жара! Почему на мне этот идиотский костюм? Неужели я прямо из театра рванул? Ни хрена не помню. Нет… Помню мальчика. Там – в опере этих итальяшек глюкозных – мальчик пел. Вылитый я в детстве. Может, тогда я и затребовал вертолет? А Паша, значит, все быстренько организовал… Что-то не так. Почему без охраны отправил? Он же знал, что тут нет связи, почему вертолет отпустил? Тут лету до столицы часа полтора, не больше. Хорошо, ладно, я согласен паромом. Ну так дайте на него сесть! Не пускают с моим багажом! Ну не смех? Паромщик-идиот не знает знаменитого земляка – пионера с голосом Робертино Лоретти и бандита по кличке Cолист, а теперь уважаемого бизнесмена – Анатолия Сухинина. Эх, ребята, да я вас всех с этой речкой, пристанью, городом и паромом купить могу, а вы мне: «Квитанцию давай!» Я паромщику говорю: «Ты глаза-то разуй! Не видишь, кто перед тобой? Ты сам должен был мне мои вещички поднести и погрузить, а я тебе за это щедрые чаевые заплатил бы». А он аж трясется: «Перевес, – кричит, – не пущу!»
Господин окинул длинную вереницу чемоданов, баулов, рюкзаков, сумок и портфелей, которая закрутилась кольцами, как змея, вокруг старой скамейки.
– Мне этот хлам, может, и самому ни к чему, но это я решаю. Понятия не имею, откуда столько набралось. Вроде с пустыми руками пришел… Старик – гнус еще тот. Что значит, у других пассажиров по одному чемодану, а у некоторых и того нет! Давай доплачу за перевес, как везде в приличных местах. Так он такую херню понес – держись! Заявил, что не доплыву. То есть другие на этом же пароме доплывут, а я пойду ко дну со всем своим багажом. Подонок! И допускают же таких к перевозкам людей!
Господин Сухинин встал на скамейку и, поднеся козырьком руку ко лбу, попытался где-то вдали рассмотреть очертания парома.
– Надо бы опять туда сходить. Утром пассажиров было немного – человек семь, все налегке. Местные они, чего им возить, но старик говорит, что выписана дюжина билетов. Поплывут, когда все соберутся. Мой билет тоже был выписан, но в последнюю очередь, как дополнительный. Не ожидали, что я появлюсь. Так я и сам не ожидал. Старик сказал, что могут и не взять. Пусть попробуют! Камня на камне не оставлю. Фигня какая-то с пассажирами – сидят тихо, никто слова не сказал. И девочка вдруг ниоткуда появилась. Странная такая девочка, лет шести. Подошла, за руку взяла. Чувствую, что тянет меня к парому и молчит. Я оглядываюсь по сторонам, спрашиваю, где ее мама с папой, а она – как воды в рот набрала. Потом вдруг улыбнулась, рот до ушей растянула и вынула из-за щеки монету. Положила в ладошку и мне протягивает. Паромщик увидел монетку, отобрал и понес девочку на паром. Я решил, что самое время перетащить багаж. Понес по трапу, но дальше опять херня – чемоданы, как свинцовые, чисто с места не сдвинуть. Так и стоял, как идиот. Тут паромщик вернулся и опять завел шарманку: откажись от всего, не хитри, а то застрянешь на полпути. Что значит на полпути? Посреди реки, что ли? Кто-то из нас больной?
Неправильно одетый гражданин задумчиво пошел в конец багажной очереди. Последним в пыли лежал фельдшерский баул, напоминавший распаренный и мятый баклажан. Гражданин, а теперь мы знаем, что зовут его Анатолий, щелкнул замочком и заглянул внутрь.
– Может, и правда – мне это все ни к чему…
Недолго роясь, он извлек из чемодана фонендоскоп, покрутил его в руках, надел на шею.
– Это все, что осталось от отца. Мы так и не встретились. Не помню, чтобы мама рассказывала о том, как его забрали. Боялась. Это теперь я вижу то, чего раньше видеть не мог. И вижу, и чувствую… Снег идет. Тихо в комнате. Она просторная, с видом на Москву-реку. Вечереет. Стол накрыт к ужину. Тикают ходики, мама сидит за швейной машинкой. В прихожей слышны шаги. Мама поднимает голову. В комнату входит человек с длинным унылым лицом, на котором висит длинный унылый нос, а под ним на шее уныло болтается фонендоскоп. Мама обнимает его и ласково спрашивает:
– Яша, съешь супу?
Он вытирает носовым платком лысоватую голову, лицо, глаза и нежно гладит круглый мамин живот, обтянутый цветастым ситцем. Папа целует маму и говорит, что не голоден. Мама с волнением и немым вопросом смотрит в его глаза. Он вздыхает и говорит, что вызван по пустячному делу, что фамилия и национальность никоим образом с этим делом не связаны и волноваться нечего. Я сижу внутри маминого живота и уже точно знаю, что долго не высижу, что мама преждевременно родит после известия о папином аресте и что папа больше никогда не вернется. Ему просто не повезет. Он умрет во время следствия. Других врачей выпустят, реабилитируют, а он не выдержит допросов. Маму с младенцем на руках выселят из ведомственной квартиры. Она переедет в этот гнилой городок к дальней родне и будет остаток жизни отрабатывать угол и крышу шитьем и перелицовкой. От папы, знаменитого доктора, останутся пара фотографий, орден, фонендоскоп, аптечка и я, Анатолий Сухинин, по отцу – Каган, взявший в момент оформления паспорта девичью фамилию матери. Вот и вся память об отце. Мать об этом говорить не хотела, расспросы пресекала. О чем было говорить – вокруг сплошь безотцовщина. Во всей нашей дворовой гоп-компании только у Петьки был отец, но полный инвалид. Как говорила Петькина мать, да и моя с этим соглашалась, лучше бы он помер целиком, а не наполовину. Отцы наши гнили кто в земле, кто на нарах, а мы грызлись, как голодные псы. Время было такое. По большому счету в этом бауле нет ничего личного, лишь генетическая память всего поколения. Что уж теперь? На кого обижаться? Кому предъявлять претензии? Вождям, толпе? Взывать к справедливости, переписывать историю? Ее сколько ни переписывай, правды не сыщешь, но и не спрячешь. Правда – она в том, что у народа вырабатывается коллективный генетический код. Нас по пустыням води не води – сорока годами не отделаешься. Я вот, например, не просто сын своего отца, я еще сын Трудового Народа, Сын Полка и Сын Зоны. Они воспитали нас. С них теперь и спрос.
Господин во фраке возбудился, встал со скамейки, нервно обежал ее. Потом, вглядываясь в багаж, стал отбрасывать какие-то ящички, сумки. Наконец, найдя то, что искал, успокоился. В его руках был непонятный предмет, напоминающий коробку от торта.
– Это мамина коробка для шитья. Есть тут одна вещица. Где она? А вот – подушечка для иголок. Я очень хорошо помню, как мне, семилетнему шалопаю, пришло в голову на все иголки, воткнутые в нее, нанизать мух. В результате подушечка была изгажена. Мама плакала. Наверное, это был единственный раз в жизни, когда я почувствовал перед ней свою вину. Впоследствии ничего подобного не случалось – я был всегда прав.
Анатолий открыл коробку. Он выуживал оттуда какие-то лоскутки, шнурочки, тесемки, ленты, кружева и наконец выудил то, что искал.
– Новую подушечку я решил сделать сам. Вот она – кривой ежик. Мама тогда обрадовалась и поцеловала в макушку, сказав что-то про большой подарок. Ей было за тридцать, когда я родился. Женщина войны, вытянувшая счастливый билетик: ее Яшенька вернулся с войны живой, невредимый, с руками и ногами. Ей можно было позавидовать – умный, добрый, аккуратный, любящий. Он купил ей швейную машинку «Зингер» и не жалел денег на отрезы шифона, на шляпки и перчатки, туфельки и сумочки. Мария была модница. Ей вслед заглядывались мужчины. Столичная жизнь длилась недолго. После смерти отца она привезла в этот провинциальный город меня и швейную машинку «Зингер». Вот тут, в ее шляпной коробке, должны лежать шляпка, шарфик и перчатки цвета чайной розы. Где же они?
Опять руки Анатолия погрузились в коробку и осторожно извлекли почти бесцветный отрезок газовой материи. Он рассыпался на глазах. Анатолий осторожно отложил его и опять запустил руку на дно коробки. Оттуда он вынул сверток. Развернул старую газету и вынул конверт со старой пластинкой.
– Робертино Лоретти, – усмехнулся Анатолий, – как же! Он стал для мамы путеводной звездой и разбитой надеждой. Милая мама, как ты хотела, чтобы твой сын был таким же «золотым мальчиком». Ты уверяла всех, что у Толика голос не хуже, ему только надо выучить ноты и слова. Но мне не хотелось петь, мне хотелось смаковать папиросу в подворотне и кидать ножичек в старый пень. Откуда мама знала, что у меня замечательный голос, – не знаю, но это оказалось правдой. Петь я не пытался, но мелодии запоминал легко. Про мои необыкновенные способности ей рассказала школьная учительница, и мама абсолютно не удивилась. Очень хорошо помню, что к 45-летию Октябрьской революции нас всех построили в коридоре школы и велели петь «Варяг». Я, как всегда, волынил и кривлялся, но вдруг песня вошла в меня, и, бессознательно поддавшись ей, я запел. Это было так, словно запечатанный в тебе звук поднялся из груди и ударил в нос, как газировка, – приятно, щекотно, радостно. Я услышал, как мой голос взлетел выше хора, потом подскочил к потолку и вырвался из форточки наружу. Все затихли. Учительница строго обвела взглядом учеников.
– Кто? – cпросила она. – Кто пел?
Я, конечно же, не признавался, мало ли… Но те, кто стоял ко мне поближе, толкали и шикали, чтобы я вышел. Наконец по рядам пролетело: «Это Толик Каган. Он вдруг как запоет!» Пришлось выйти из толпы.
Наша учительница Софья Алексеевна была обо мне всегда самого плохого мнения, но при этом добавляла, что мальчик, безусловно, способный и может добиться в жизни многого, если не сядет. Теперь ей предстояло открыть во мне самые удивительные способности, о которых никто, кроме мамы, не догадывался.
– Каган, расскажи, почему ты никогда прежде не открывал рот и не пел? – спросила строго Софья Алексеевна, посмотрев поверх очков. – Мы не первый раз собираемся на спевки к праздникам, и мне непонятно, что тебе мешало запеть раньше? У тебя же уникальный дискант. Тебе 10 лет, и пройдет немного времени, как голос станет ломаться. Нужно показать тебя специалистам в этой области. Я поговорю с твоей мамой. А сейчас попрошу всех замолчать, а Анатолий нам споет песню «Варяг».
Я стоял, проглотив язык. Слов песни не знал и боялся, что все это закончится опять очередным колом за невыученное домашнее задание. Софья Алексеевна, не дождавшись ни звука, поняла, в чем загвоздка и попросила спеть все, что я хочу. Петь не хотелось, но и кол получать тоже. Я вспомнил пластинку, которую часто слушала мама. На ней пел мальчик на непонятном языке, но пел красиво. Я набрал в легкие воздух и затянул «Санта Лючию», подражая манере этого певца. По намокшим глазам учительницы я понял, что могу получить первую в жизни пятерку. Но все закончилось еще невероятнее. Софья Алексеевна села на стул, схватилась за сердце и сунула валидол под язык. Она прошептала:
– Невероятно! Второй Робертино Лоретти!
Потом я много раз в детстве слышал: «Он ничем не хуже итальянца, у него даже диапазон шире и тембр богаче». Это неожиданное открытие повлекло за собой поездку в город, прослушивание у профессора консерватории, направление на учебу в специальный музыкальный интернат. Вся эта история мне смерть как не понравилась. Наш дворовый авторитет и мой хозяин Севка Бутц, сплюнув сквозь выбитые резцы, называл меня канарейкой и ржал, как подорванный, заставляя взять самую высокую ноту. Он презрительно осматривал сшитый мамой костюм, повязанный галстук, новые ботинки и квадратную черную папку для нот с тисненым портретом волосатого композитора. Где же она, папка эта?
Не сразу удалось господину во фраке отыскать среди вереницы багажа ободранную нотную папку. Вынув ее из-под авоськи с фотоальбомами, он сдул пыль и развязал тесемки.
– Вот. Нотная тетрадь, «Сольфеджио» и композитор Бетховен с перевязанным горлом. Про перевязанное горло это Бутц заметил. Я сказал, что это мода была такая – шарф завязывать, а он задвинул меня своим авторитетом: «Ты, пацан, не в теме – Бетховену горло перерезали, и он стал немым». Я попытался возразить, что не немым, а глухим, но Бутц заткнул, как всегда, с полуслова, и я затих. Перед моим отъездом Севка загнал меня в угол и пригрозил, что сделает так, что меня вернут под конвоем и посадят в тюрьму. Артистом не стану, а буду на зоне песни орать. Я испугался. Что взять с десятилетнего пацана? Ехать мне и самому не хотелось, а хотелось быть похожим на Севку – грозу всей местной шпаны. Греясь в лучах его бандитской славы, я не понимал тогда, какое трусливое и подлое ничтожество Бутц. Многое не понимал сначала по сопливости, а потом по глупости. Да разве я один? Вся страна прогибалась под властью ничтожества. Я тоже строем ходил, но потом стал видеть и слышать другое. Голос собственный, например. Так ясно его услышал, что испугался. Поначалу он был слабый, еле слышный, потом окреп. Я его водочкой, девками глушу, а он – ни в какую. Однажды ночью раскомандовался: «Проснись! Встань! На колени!» Я ему – с какого такого бодуна? И вдруг сам не знаю, как получилось, только стою на коленях перед открытым окном. А из окна женщина на меня смотрит, и глаза у нее материнские.
И тут понимаю – Матерь Божья! Она и есть. Пришла и ждет. Горло перехватило, не продохнуть, что делать – не знаю. Рыдать хочется, а глаза сухие. Боль в груди невероятная и немота. Страшно стало, а в башке голос свой слышу: «Прости меня, мамочка, прости!» А потом одно за другим слова из горла полезли, да не простые, а молитвы покаянной. У кого, за что просил прощения – не знаю, да неважно это было. Наконец слезы полились, и сразу полегчало. Они были действительно горячие, лились по небритым щекам, а я старался глаза протереть, чтобы рассмотреть получше женщину эту в окне, да так и не смог. Колотило так, что зуб на зуб не попадал и, как не по своей воле, хотелось биться головой об пол и орать, вымаливая прощение. Была ли это Матерь Божья или моя несчастная мама – не знаю. Когда пришел в себя, то в пустом окне увидел розовеющее на горизонте небо. Понял тогда: новый день моей жизни наступает.
Господин Сухинин держал пластинку в руках. Он даже попытался что-то пропеть, но помешали воробьи, при первых же звуках шумно вспорхнувшие в небо. Анатолий вздрогнул и с грустью поглядел им вслед.
– Фррр! Шуррр! Ишь, разлетались. Я тогда тоже вроде испуганного воробья был. Из музыкального интерната сбежал. По всей стране меня искали, пока я попрошайничал и автостопом до дома добирался. Когда вернулся, то увидел поседевшую и постаревшую мать, которой уже было наплевать на музыку – нашелся, и слава богу! Но не к ней я вернулся, а под Севкино крыло. Бедная мама, как она страдала, а после моей первой отсидки в детской колонии тяжело заболела. Мой голос, как положено, прошел ломку, но природа, видимо, не хотела сдаваться. Голос вернулся и даже спас меня от большого тюремного срока, но это уже другая история, не имеющая никакого отношения к воспоминаниям о моей бедной маме. Она умерла, когда я еще не вышел на свободу. Умерла, раздираемая горем от непонимания того, что сделала не так. Почему Севка Бутц стал для ее сына важнее всего на свете – важнее славы, честной жизни, важнее матери? Почему его власть была сильнее?
Со стороны пристани донеслись звуки сигналов точного времени. Репродуктор, висящий над кассой, прохрипев, сообщил, что наступил полдень. Сквозь его щель робко просочились первые ноты «Санта Лючии». Анатолий подошел к кассе и постучал в окошко. Никто не ответил. Музыка лилась сверху. Казалось, что ею сейчас захлебнется все вокруг: и сквер, и воробьи, и сам господин в смокинге. Он рванул галстук и задрал голову к репродуктору. Он стоял, как в душе, под струями музыки в исполнении легендарного мальчика из далекого прошлого по имени Робертино Лоретти. Его лицо разгладилось, помолодело, а в уголках закрытых глаз блеснули слезы. Когда затихла последняя нота, упав из горловины репродуктора, господин очнулся. Он бросил на землю пластинку и стукнул по ней каблуком. Дальше на осколках старой пластинки им было исполнено нечто вроде дикой шаманской пляски, после которой он обессиленно свалился на скамейку.
– К черту все! Больно. Ух, как больно! Тяжело! Да, тяжело. Может, этот малахольный паромщик прав? Зачем этот груз? К черту все выбросить!
Господин бизнесмен встал, слегка покачиваясь, и нагнулся над багажом. Произошла удивительная вещь: вереница вещей поредела. Там уже не было фельдшерского баула, коробки с рукоделием, музыкальной папки, а глаза его метались в поисках чего-то важного. Наконец это что-то отыскалось. Рыжий облезлый чемоданчик, с вмятиной на боку и с вырезанными буквами А.С.
– Дружочек мой, – присел над ним гражданин Сухинин, – признал хозяина? Давай, браток, открывайся. Сколько ж ты намотал со мной по тюрьмам и лагерям?
Рука, поблескивая дорогими часами, нежно гладила мятые бока чемоданного уродца.
– Первый срок был два года в колонии для несовершеннолетних, а второй – пятнадцать строгого режима, но нам с тобой семерочку скостили, а Севка Бутц загремел под вышак. Не удалось ему нас с тобой затянуть, а как крутился – как вошь на аркане. Все на меня повесил, падла, если бы не ласточка наша – кранты.
Анатолий вытянулся на скамейке, положив руки за голову и мечтательно уставившись в небо.
– Помнишь ее? Это было ее первое дело. Она – вроде первоклашки – дело вела под надзором главного следователя. Любовь Ивановна. Любочка, Любонька… Молодая, не красавица, но глаз не оторвать. Краснеет, бледнеет. Волосы светлые, со лба наверх зачесаны, коса тяжелая, на носу веснушки и взгляд твердый. Говорила хорошо и вопросы четкие задавала. И ведь в конце концов раскопала, чего никому до нее не удалось. Правду на свет выудила. Севку засадила, меня вызволила. А как я на свободу вышел, любовь у нас с ней случилась настоящая, с большой буквы Любовь, как она сама. Тут в чемоданчике много чего от нее осталось, только вот ее самой уже давно нет.
Он порылся немного в чемодане и, как фокусник, извлек из него алые кораллы.
– Вот, например, бусы эти. Мой подарок Любаше. Это сейчас они одна к одной на ниточку нанизаны, а было дело, когда пришлось их в конус газетного кулька ссыпать пригоршнями. Случилось это перед самым Новым годом. Заехала она прямо с работы ко мне. На работе был короткий день, а она его еще короче сделала, чтобы успеть со мною повидаться. К вечеру должна была вернуться домой к мужу. Ох, как ясно и сладко помню этот день. За окном тогда мороз стоял лютый, а от нас жар шел такой, что можно было на животах блины печь. Целовал я Любашу сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее – губы, щеки, лоб, шею. Случайно нитку потянул, а бусины как из ружья выстрелили. Рассыпались вокруг, как рябина по снегу, по телу ее белому, по простыне смятой. Огорчилась она, ведь только надел их на нее. Я бросился собирать, а она в горсть сгребла и в меня швырнула. Хохочет, голову закидывает, как девчонка. Когда она ушла, я каждую бусинку отыскал, в кулечек сложил, а потом на леску нанизывал. Ждал ее прихода, чтобы отдать. Не взяла. Сказала, что бусы дорогие, муж не поверит, что сама себе купила. У него каждая копейка на счету. За пять лет их семейной жизни ничего ей не дарил, а если она что покупала без его ведома, то скандалил безбожно. А бусы ей очень понравились, она их у меня дома надевала. Я все ждал, что она наконец решится и уйдет от мужа. Не успела. Забеременела, но была не уверена, чей ребенок. Когда родила и ребенок подрос, все стало на свои места, но ей уже никто не смог предъявить претензий.
Господин Сухинин выудил из чемодана мятый лист, сложенный вчетверо. Он осторожно развернул его, еле удерживая в руках от дрожи.
– Неужели это афиша? С ума сойти! Та самая! Выступление тюремного хора в сопровождении, под управлением… и т. д. и т. п. А, вот! Солист – заключенный Анатолий Сухинин. Это Любочка ее сохранила. Она тогда в первом ряду сидела. Выхожу на сцену, как увидел ее – горло сдавило от волнения, а потом такой кураж наступил, что соловьем запел, не иначе. Тогда, наверное, она меня и полюбила и решила сделать все, чтобы помочь. Поверила мне, помогла, а чем я ей отплатил? Вот тут пучок травы лежит, вот уж сколько лет, а запах остался и его ни с каким другим не спутаешь. Полынь.
Он наклонил голову и втянул носом запах травы, растертой в руках.
– Нашли Любоньку в полыни на обочине дороги, истекшую кровью от ножевых ранений. Она тогда поперек одного авторитета стала. А возвращалась она в ту ночь от меня, со свидания тайного. Спешила домой, говорила, что грешница – муж с малым дитем нянчится, а она с любовником кувыркается. Я тогда не пускал ее, за руки держал, кричал, что не любовник я ей, что сейчас пойду к мужу и отберу мне положенное: и ее, и моего ребенка. Она смеялась, потом злилась, потом вырвалась и убежала. Конечно, следствие и до меня дошло. Чуть опять не загремел, но тут авторитет, убивший Любу, «спалился». Сдали его. Меня отпустили, но жить не хотелось. Муж Любы до ее смерти ничего не знал, а как все раскрутилось, так решил меня наказать. Сам мужик болезненный, хилый, но злой как черт. С ребенком замутил. Экспертизу затребовал. Экспертиза его отцовство не подтвердила, тогда он удумал мальчишку в детдом сдать. Я потребовал сына себе, а мне не дают – две судимости, нет постоянного места работы, жилищные условия не позволяют. Короче, спихнул он ребенка Любиной маме. Я к той прихожу, а она на меня волком смотрит. Говорит, что я во всем виноват. Сидела бы Люба дома с мужем, по свиданкам не шлялась, и не напали бы на нее бандиты. Пытался я ей объяснить, насколько глупы ее доводы, но куда там – крик, слезы, шум. Так Лешка и остался жить с бабой Шурой, не зная, что у него на свете родной отец есть.
Анатолий обхватил голову руками и встал со скамейки. Он нервно ходил взад-вперед, глядя под ноги. Как зверь в клетке.
– Скоро моя жизнь повернулась с ног на голову. Уехал я в столицу и разбогател. Про сына Леху забыл, а когда после бабкиной смерти он меня разыскал, то я понял, что легче откупиться, дав денег, чем тащить его к себе. Моя жизнь в то время не являлась образцом поведения для пятнадцатилетнего подростка. А оказалось потом, что сын мой ничего не хотел: ни денег, ни подарков – только меня. Только и нужно было, что плечо отца. А я – что я? Да мудак последний, ради чего сына оттолкнул? Ради пьянок, блядей, говна всякого. Тут где-то в чемодане его пустышка, мне ее Любаша принесла. Сказала Лешке, что волк унес. Думала выбросить, а потом решила мне принести, потому что я и есть настоящий одинокий волк. Хоть и отец Лехин, но тот еще волчара… И любит она меня за это сильно. Где же эта пустышка?
Господин Сухинин влез с головой в чемодан и стал выбрасывать из него какие-то бумаги и тряпки. Со звоном вылетели из него железные ложка и кружка, теплые носки, вязаная шапка. Он искал и не находил того, что хотел. Он высыпал все содержимое чемодана на землю и, как старьевщик, внимательно осматривал каждую вещь, поднося ее к глазам. Так и не найдя желаемого, он в ярости стал пинать рыжий чемодан.
– Ты не сохранил единственную память о сыне! Старый дырявый урод, ты специально ее уничтожил. Я ненавижу тебя!
Под натиском ударов чемодан развалился на две створки, как раковина, побитая волной. Гражданин Сухинин, он же зэк по кличке Солист, отошел от разбитого чемодана, увидев неподалеку неказистый рюкзак с оторванной шлейкой.
– Идиот, вот же Лехин рюкзак! Мне же его санитары отдали в больнице. Как же я забыл? А забыл, потому что больше всего на свете хотел это забыть.
Поставив его рядом на скамейку, Анатолий Яковлевич взялся за язычок «молнии», но тут же передумал и оттолкнул его от себя. Рюкзак откатился на край скамейки.
Схватившись за голову, А.Я. Сухинин завыл:
– Никогда, слышишь, больше никогда ты не откроешь этот ящик Пандоры! Достаточно было одного раза. Ты и так помнишь все, что в нем есть. Оно высасывает тебя, выедает, приходит в ночных кошмарах. Ты пил и ширялся, чтобы забыть и забыться, но не помогало. Твой мальчик, твой единственный сын опять и опять падает с моста на полотно автострады, а ты опять и опять вздрагиваешь, увидев в почтовом ящике конверт с прыгающими корявыми буквами. Этот конверт там, в рюкзаке. Письмо от твоего сына. Предсмертное письмо. Оно пришло по почте через два дня после его похорон. Ты помнишь наизусть его содержание, и, закрывая глаза, ты видишь, как поползли строчки вниз по правому краю, как расплылись в некоторых местах буквы. Ты почти ослеп от слез и с трудом различаешь текст, но ты читаешь опять и опять и не можешь остановиться:
« Здравствуй, папа! Я знаю, что ты хотел меня забрать, когда я был маленьким, но тебе не дали. Баба Шура сказала, что не хотела отдавать меня уголовнику. Я лично не вижу ничего страшного в том, что ты сидел в тюрьме. Я тоже хотел сесть. Тебе я на фиг не нужен, никому не нужен. Ты не хотел со мной жить, но я не обижаюсь. За деньги, которые ты присылал, спасибо. Мне на все хватало – и на дурь, и на кокс тоже. Стали меня насильно лечить, а доктор сказал, что не в наркоте дело, что депрессуха у меня и надо электричеством по голове шандарахнуть. Стало еще хуже. Я ничего не помню, но говорили, что я орал на всех, бросался и требовал на голову кожу вернуть. Меня связывали и делали уколы. Из больницы я вышел неделю назад. Чувствую себя хорошо, только жить не хочу и не буду. Я чего хотел сказать: ты не подумай, я тебя в своей смерти не виню. Это все баба Шура виновата. Ее и виню, но она уже и так мертвая. Если бы ты меня тогда у нее отобрал, то мы бы жили с тобой классно. Ну, прощай. Пусть напишут на могиле – Алексей Анатольевич Сухинин. Хорошо? А ты – супер! Я тебя в телике видел. Крепко целую и обнимаю, твой сын Алексей».
Анатолий Яковлевич Сухинин сидел, бубня под нос что-то вроде считалки:
- Две книжки, мячик и бейсболка,
- вьетнамки, треники, футболка,
- фломастер, скрепки, сигареты,
- печенье, мятые конфеты.
- Конверты, марки, зажигалка,
- свисток, фонарик, открывалка,
- два фото – Любы и мое,
- носки и нижнее белье.
- Не нужно это никому —
- ни мне, ни Любе, ни ему.
– Отпусти меня, мальчик, прошу тебя. Все, как ты просил, я сделал. На памятнике написано – Алексей Анатольевич Сухинин (1990–2005) а под этим: «Любимому сыну – скорбящий отец», а памятник такой, что люди издалека приезжают на него посмотреть. Я лицей большой построил в память о тебе. Лешка, будь другом, отпусти.
Репродуктор над кассой прохрипел объявление о том, что отплытие парома задерживается на два часа по техническим причинам. Господин на скамейке никак не прореагировал. Он сполз на землю и, казалось, потерял сознание. Репродуктор продолжал хрипло вещать о технических причинах задержки парома, а господин валялся в пыли, не обращая внимания на стайку воробьев, которая, осмелев, подлетела к нему совсем близко. Самый смелый воробей вспорхнул и уселся ему на грудь, стараясь клюнуть брильянтовую заколку, болтающуюся на развязанном галстуке. Анатолий Сухинин очнулся и вслушался в текст, доносящийся из репродуктора.
– Какие еще технические причины? Не хватало тут подохнуть, на переправе этой.
Заиграла веселая румба, и Анатолий вздрогнул. Он стукнул себя по карману. Проснулся его мобильный. Быстро вынув телефон, простонал:
– Черт! Номер не высветился. Кто-то пытался дозвониться, может, Павел? А вдруг это была Она? Нет, после того, что я ей наговорил… Так, надо опять попробовать дозвониться хоть кому-нибудь…
После долгих отчаянных попыток набрать разные номера Анатолий Яковлевич безнадежно махнул рукой, но не спрятал телефон в карман, а продолжал гипнотизировать его взглядом:
– Ну, давай звони, зараза! Ведь так не бывает! Везде ловил, в любой дыре, а тут нет.
Анатолий поводил пальцем по экрану. Телефон был мертв.
– А ведь действительно Она могла на этот раз всерьез обидеться. Господи, что за бред! Не обижается она на меня. Уже давно не обижается умница моя, спасительница. Где же это, а, вот…
Анатолий открыл кейс, который все это время служил подушкой, и вынул из него маленькую рамку. Рамка была электронная. В ее памяти хранились дорогие его сердцу картинки. Он сдвинул рычажок и уставился на маленький экран. Его лицо осветилось и снаружи, и изнутри. Толик улыбнулся:
– Это наша первая с Ниной вылазка в Париж. Как она этого хотела! Боялась, что ее дочь пронюхает и устроит истерику. До чего злючая девка. Здоровая тетка – в этом году школу закончила, а мозги как у первоклассницы. Впилась в мать, кровососка. Ниночка рядом с нею – как воробышек, а дочь вся в мужа-бугая, царство ему небесное. Боксером был в тяжелом весе, потом в охранники пошел. Не повезло парню, погиб, как говорится, на рабочем месте. А мне повезло: девочка моя в тридцать пять овдовела, а в сорок меня встретила. В тот день гололед был чудовищный, а она как с неба свалилась под колеса моего «мерса». Водитель – Сашка, дай бог ему здоровья, в сторону машину увел. Побились страшно. А она лежала на дороге бледная, без сознания, с ногой странно вывернутой, будто кукла сломанная. Лицо ее тогда меня поразило – так ангелов рисуют, точно оно. Лоб чистый, высокий, нос тонкий, а губы детские, припухлые. Пока глаза были прикрыты, так я еще ничего, а как в чувство привели и она их открыла – так я аж зажмурился. Океан бирюзовый – вот какие глазищи! С ума сойти! Я потом, после того как в больницу привезли, у Сашки своего спрашиваю: «Это мне показалось или она действительно суперкласс?» А он мне: «Может, и была когда-то, но слишком уж того – старовата». Я еще раз вгляделся – все замечательно, и даже морщинки тоненькие, и тени у губ. Все только усиливает ее красоту. Вернее, даже не красоту, а что-то нездешнее, потустороннее. Прозрачность какая-то, что ли, чистота. Имя свое назвала – Нина, потом поправилась – Нина Александровна, чтобы возрасту своему соответствовать, который только в голове ее и есть. Нина, Ниночка – тоненькая ниточка. Оказалось, что она врач-педиатр. Не для меня вроде доктор, а лечит все мои болячки, и телесные, и душевные. Никогда у меня еще такой не было.
Анатолий отложил в сторону рамку с фотографиями. Он встал со скамейки и, возбужденно обежав ее, отжавшись руками о спинку, легко перепрыгнул.
– Я влюбился! Не думал, что это вернется. Казалось, что вместе с Любой утрачена безвозвратно эта особенность организма. И вдруг – вот оно! Все обострилось: зрение, обоняние, осязание, что там еще есть – не знаю, но как будто кожу содрали, из панциря вынули, ни вздохнуть, ни выдохнуть. Трясет и к телефону ведет, как под кайфом. По рукам бьешь, а хочется слышать ее голос, хоть сдохни. А когда слышишь – эрекция вдруг сумасшедшая. Она там деток простукивает, прослушивает, телефон отключает, а ты представляешь ее в постели с накачанным самцом. Бред, а хорошо! Все хорошо – и ревность, и ожидание, и обладание, и «пролеты». Я часто сравнивал это состояние с джекпотом и мгновенным проигрышем его же.
Самое удивительное, что никто вокруг не находил ее красивой. Собственно, я только раз решился представить Нину своим коллегам. Паша скривился и прямо сказал, что так и не понял, на кой ради нее я бросил всех моих прежних девочек. Он считал, что среди них были и большие красавицы, и большие умницы, а главное – их средний возраст ненамного превышал половинку возраста новой избранницы. Объяснять ничего не хотелось, мы с Ниной просто спрятались от всех. Кое-кто считал, что эта странная история с немолодой врачихой – следствие нервного перенапряжения из-за финансового кризиса. Всякое говорили, например, что врачиха закармливает меня какими-то таблетками, дабы поднять потенцию. Шушукались, что я стал полным импотентом и девчонок уже не тяну. Авторство этих мулек было очевидным: не могли мои киски смириться с такой потерей. Называя нас «сухофруктами», горевали, что навар становился пожиже. Дай бог им здоровья – юным подружкам, готовым ради лишней пары сережек или колес (кому как повезет) мириться с тем, что старостью пахнет наш пот, сыплются волосы, желтеют ногти. Они терпят и моются усердно после каждого соития. Они ждут и надеются.
Анатолий Яковлевич растянулся на скамейке лицом к небу. Солнце медленно катилось на запад, растекаясь по земле медовым предзакатным светом. Он прикрыл глаза и, казалось, заснул, как вдруг, сложив губы трубочкой, просвистел невнятную мелодию.
– Черт, забыл эту композицию. Ей она нравилась. Это был джазовый фестиваль в Эйлате – наш последний побег. Как я мог забыть мелодию! Очень известная композиция этого, ну как его… Как же так! Я же напевал это круглыми сутками… И под эту музыку мы круглыми сутками занимались любовью. Почему я должен был именно это забыть?! Самое плохое, что это даже не забывается, а стирается. Уже проверено. Хочу вспомнить то, что хорошо знаю, что должно быть на том самом месте, где было всегда, но оно пропадает бесследно. Остается черная дыра – пустота. Чем ближе по времени событие, тем больше вероятность, что я его забуду. Это началось как раз после той нашей поездки в Израиль. Сначала было ощущение грязи в мозгах, потом начались эти провалы. Ниночка тогда настояла на обследовании. Когда результаты получили, попыталась скрыть. Я по глазам ее опухшим догадался. Мой дорогой детский доктор пыталась вселить в меня надежду – медицина, мол, сейчас многое может, что этот диагноз не приговор, будем бороться. Знаю, что не в медицине дело. С диагнозом ты или без, никому не дано знать, когда и сколько осталось. Поэтому каждый день принимай как отсрочку. И проживи его, и засни, и проснись с радостью. А я изговнял все. Прогнал ее, чтобы не видела, как слюни пускаю, как падаю и блюю. Не уходила, как с ребенком капризным разговаривала. Все терпела – мат-перемат, грязные провокации. Улыбнется и голову мою лысую обцеловывает. Старый козел. Она ушла от меня, и я теперь долго тут не задержусь. Не хочу. Зачем?
Анатолий Яковлевич как-то на глазах постарел. Он сел, тяжело откинувшись на спинку скамейки. Его глаза смотрели в пустоту без выражения, а губы, сложенные трубочкой, слегка подрагивали.
– Давит эта мерзость на мозги, ох как давит. И все быстрее выпадают части целого. Я вот уже не помню, как тут оказался. Зато хорошо помню слова старика-паромщика про багаж и квитанцию. А о каком багаже он говорил?
Господин Сухинин огляделся по сторонам. Ни вокруг скамейки, ни на ней самой ничего не было. Куда делись чемоданы, баулы, рюкзаки и коробки, было неясно. Даже кейс, служивший подушкой, непонятным образом исчез. Теперь господин Сухинин был совсем налегке. Он снял галстук, скинул пиджак, расшнуровал туфли. Похоже было, что он собирается остаться без одежды, как вдруг со стороны причала раздался гудок и громкоговоритель хрипло загундосил:
«Сухинина Анатолия Яковлевича, родившегося 1 февраля 1953 года в городе N-ске, просят пройти на посадку. Необходимо иметь при себе документы. Быть одетым в парадный костюм. Паром отходит 27 июля 2009 года в 19.25. У вас есть пять минут для прощания с провожающими. Можно воспользоваться телефоном или оставить записку».
– Телефоном? Бляди! Издеваетесь, что ли? Записку… Какую записку? Почему я должен быть в парадном костюме? Кто ты такой, дед? Слышишь меня, там, на переправе, ты совсем что ли съехал, а, старичок? Я передумал ехать, понял?
Репродуктор кашлянул и невозмутимо продолжил:
«Сухинин Анатолий Яковлевич! Срочно пройдите на посадку. Паром отправляется через десять минут. Вам выписан билет вне очереди по вашему требованию».
– Какой билет, куда? Я никуда не еду, слышите!
Неожиданно зазвонил телефон. Анатолий Яковлевич дрожащими руками поднес его к уху. Преодолев спазм, он наконец произнес:
– Ниночка, чудо мое, ты дозвонилась! А я тут… должен ехать, меня зовут. Как ты? Где ты? Люблю тебя, вернись. Да-да, буду ждать. Сколько надо, столько буду ждать… Скажу им, что остаюсь. Ты же скоро, да? Да не волнуйся, никуда не поеду, тут паромщик малахольный какой-то. Связи ни с кем не было – ты одна дозвонилась. Умница моя, спасительница. Как хорошо, что ты позвонила! Все будет как тогда, как было… Они уже отплывают. Да-да, без меня… Что-то кричат, подожди…. Понял. Сказали, что мне на следующий паром, но когда – неизвестно. Как хорошо, что ты позвонила…
Хорошо одетый господин сидел на скамейке в сквере города N, и лицо его светилось от счастья. Он не видел, как за его спиной по реке плывет новый паром с паромщиком, похожим как две капли воды на того, прежнего. Паром медленно причалил, и никто в городе N не знал, по чью душу он прибыл на этот раз.
Не сказки
Мадам Дубирштейн
Никто из нынешних жильцов дома номер 5 по улице Тенистой не знал имени одинокой старухи, занимавшей семнадцатиметровую комнату в коммунальной квартире Каблуковых. К тому времени это была уже последняя нерасселенная квартира в приличном, хоть и старом доме, стоящем в окружении ведомственных построек. Район считался престижным. Из окон верхних этажей можно было увидеть море, которое отделяли от неба стоящие на рейде корабли.
Мало кто из соседей помнил ее заковыристую еврейскую фамилию – Дубирштейн. Кто-то утверждал, что старуха поселилась здесь еще до войны, а ее муж был тем самым архитектором, который спроектировал этот дом. Еще ходили слухи, что она была когда-то богатой наследницей и жила в городе Аккермане в особняке со львами. Может быть, поэтому ее, вечно грязную и дурно пахнущую, называли во дворе Мадам.
На самом деле, не случись известных социальных потрясений в истории России, маленькая Эстер, так ее назвал отец, большой знаток библейских текстов и банковского дела, действительно стала бы обладательницей приличного состояния, поскольку была единственным ребенком в семье. Отец тяжело переживал вдовство, долго не мог забыть молодую жену, умершую вследствие послеродовой горячки, и очень настороженно относился к претенденткам на роль мачехи Эстер. В результате он так и не успел жениться до того, как красный комиссар, приставив маузер к его голове, вышиб вместе с мозгами всю мнительность и осторожность еврейского коммерсанта. Девушка осталась сиротой. Особняк со львами был отдан через пару десятков лет пионерам, а Эстер лишилась возможности прожить легко и удобно свою долгую жизнь.
Теперь под конец этой не удавшейся с самого начала жизни Мадам Дубирштейн хотела как можно скорее порадовать соседей, не очень счастливую семью Каблуковых, своей долгожданной смертью. Но все как-то не получалось. Смерть добровольно не приходила, а инициативу по ее приближению старуха полностью доверила богу и соседям.
Жильцы сочувствовали Каблуковым и с пониманием относились к их неприкрытому желанию любым способом избавиться от старухи.
В самом деле, семья из четырех человек ютилась на двадцати квадратных метрах, а рядом пропадала большая светлая комната с балконом. Людка с больным мужем и двумя детьми измучилась в тесноте и неудобстве соседства с полоумной старухой. Правда, на кухню Мадам давно не выходила, грела чайник у себя в комнате на электрической плите, а что ела и ела ли вообще – это Людку не волновало. Волновало другое: что старуха когда-нибудь их спалит, а если не спалит, то доведет до психушки. В туалет после Мадам зайти было невозможно, воду она не спускала, то есть она пробовала, но тугая цепочка слива ей не поддавалась, а потянуть ее, как требовалось, сил у нее уже не было.
Ясно было, что терпению старших Каблуковых мог наступить конец, и если бы не нашелся бескровный способ разделаться со старухой, то Людка готова была пойти на что угодно.
Часто семейство отходило ко сну со сладкой мечтой о том, что утром старуха не выйдет из своей комнаты, а уже к вечеру, отвезя ее в морг, можно будет прибраться и захватить комнату. То, что их оттуда не попрут, было ясно как день. Во-первых, их много, во-вторых, Славик – инвалид, а у Мадам никакой родни вот уже тридцать лет не наблюдалось. Но каждое утро со щенячьим писком отворялась дверь, и шаркающие шажки затихали в закутке туалета. Людка лежала в постели с открытыми глазами, прислушиваясь только для того, чтобы еще раз удостовериться: «Опять воду не спустила, курва старая» – и в сотый раз пообещать себе упечь ее в богадельню, а если нет, то пусть ее бог простит…
Утром Люда кормила мужа, подтирая вытекающую кашу из его окривевшего рта.
– Что-то наша Мадам совсем плоха стала, – прошамкал Славик, – еле ходит…
После правостороннего инсульта он разговаривал и передвигался с трудом. Работа грузчика в порту – золотое дно – кончилась сразу и бесповоротно.
Людка, бедрастая, нечесаная баба, огрызнулась, глянув неприязненно на мужа:
– Она еще всех нас переживет. Скорее я тут дуба дам с вами со всеми.
Сквозняком шарахнуло дверь, и Людка выскочила из кухни.
– Ты посмотри, что делается-то! – истошно заорала она. – Дверь нараспашку, приходи, бери. Шалава старая, куда тебя черти носят!
Чтоб ты сдохла, – крикнула она в гулкое пространство подъезда, и эхо заметалось среди лестничных пролетов.
Солнце путалось в рваных сетях сухих акаций, билось об окна и падало растекшейся бронзой на землю. Старуха стояла в тени парадного, боясь переступить границу прохлады и оказаться в тягучей жаре летнего дня. Одета она была независимо от сезона в драный габардиновый плащ и шляпу, напоминавшую летнюю панаму, неопределенного грязно-серого цвета. Она переминалась с ноги на ногу и оглядывала слезящимися от солнца, полуслепыми глазами мир, в который предстояло выйти и прожить еще один день никому не нужной жизни.
Прошмыгнул мальчик-велосипедист, сплюнув ей под ноги. Она покачала головой и, обогнув плевок, вышла на солнце.
Людка захлопнула входную дверь и вернулась на кухню. Там она застала всю семью в сборе. Тринадцатилетний Валерка пальцами вылавливал черешню из компота, а семилетняя Ириша хмуро сидела, уставившись в тарелку с едой.
– Все, больше не могу, – заявила Людка с порога и плюхнулась на табурет. – Надо что-то делать. Соберем подписи, я позвоню куда надо… взятку дам, пусть забирают ее куда-нибудь. Ну кто я ей такая, чтобы лужи ее вонючие подтирать. Своего дерьма достаточно…
– Ну что ты опять с утра завелась, – вздохнул Славик, – ну сходи опять в архив, может, найдется родня какая…
– Ну что ты мелешь, – набросилась она на мужа, – зачем нам ее родня. Старуху не заберут, а вот комнату оттяпают точно. Тут все по-умному сделать надо.
– А давайте я ее пугну ночью, вроде как привидение, она со страху и помрет, – встрял Валерка.
– Сиди, жуй да помалкивай, – прикрикнула на него Людка.
Валерка выловил из компота последнюю черешню и ловким щелчком отправил косточку в Иришкин лоб. Лицо ее ожило и скривилось в плаксивой гримасе. Цыкнув на сына, Людка набросилась на дочь:
– Сколько можно сидеть, жри давай. Кожа да кости.
– Не хочу кашу, – заныла Ириша и попыталась выскользнуть из-за стола.
Людка дернула ее за руку и усадила на стул.
– Будешь сидеть, пока все не съешь.
Ириша брызнула слезами в тарелку. На гладкой поверхности каши они оставили кратеры и воронки. Иришка с интересом стала разглядывать причудливый ландшафт. Людка с раздражением отвернулась от дочери и увидела, что сын уже стоит на пороге, готовясь вылететь из квартиры.
– Чтоб, как стемнеет, был дома, – бросила мать, но, похоже, Валерка это выражение усвоил уже давно и не считал должным на него реагировать.
Мадам Дубирштейн, держась за стену дома, медленно продвигалась к цели своих ежедневных прогулок. Ей нужно было пройти метров тридцать до следующего подъезда. На это уходило не менее получаса. Сегодня особенно тяжело давался этот путь. Горячее солнце жарило немилосердно, и от его яркости старуха слепла. Помогала шершавость стены, которая должна была неизбежно привести к Дусиной двери. Если Дуся не пошла в магазин, то нальет супу, а если ушла, то можно подождать, ей не к спеху.
Дуси дома не оказалось, и старуха пристроилась в уголке подъезда, облокотившись о прохладную и пыльную батарею центрального отопления. Беспризорная кошка, потревоженная бесцеремонным вторжением на ее территорию, спрыгнула с батареи на пол, недовольно покосившись на Мадам.
– Ну, извини, – прошептала старуха, – я только Дусю дождусь.
Ждать пришлось недолго. Запыхавшаяся и потная Евдокия, груженная до зубов кошелками со снедью, вернулась домой. Она, как всегда, пригласила Мадам Дубирштейн войти и вскоре поставила перед гостьей тарелку куриного бульона с клецками. Старуха, похлебав ароматной наваристой жидкости, от клецок отказалась, извинившись перед хозяйкой. Она почувствовала, что прожевать их не хватит сил, как не хватит сил сейчас встать и уйти. Евдокия не гонит, но ведь и так понятно, что дел у той по горло. Надо наготовить на семью из пяти человек, постирать, убрать, да мало ли что. Еще она знает, что, когда уйдет, Евдокия тут же откроет окно. Последнее время все чаще не удается дойти до туалета вовремя, а каково ее соседям терпеть такое. Старуха сокрушенно покачала головой. Она отвлеклась от своих мыслей и посмотрела на суетящуюся у плиты Евдокию. Ее спина, обтянутая розовой линялой майкой, напоминала перевязанный во многих местах батон колбасы. Пухлые руки с крылышками отвисшего жира летали над кастрюлями, казалось, растворяясь в пару и жару кулинарного действа.
Мадам Дубирштейн хотелось сказать что-то хорошее этой мягкой, доброй женщине, которая зачем-то жалеет ее, кормит и даже разговаривает. Она собрала все силы и, тяжело встав со стула, произнесла витиеватую благодарность. Евдокия развернулась и в недоумении уставилась на старуху.
– Что это вы со мной не по-нашему говорите? Это что за язык чудной? Я и не знала, что вы иностранным владеете, надо же, и помнит еще, – удивилась Евдокия.
Мадам сконфуженно улыбнулась:
– Простите, вдруг на идиш сказала, сама не понимаю, почему. Но я хочу вам сказать, если вы так готовите курицу, то вы должны понимать на идиш.
– Ну вы и скажете, и чем это курица такая замечательная? – довольно отреагировала Дуся. – Вот фаршированную рыбу я действительно умею делать по-вашему. У меня с ней вообще одна крупная неприятность случилась. Да вы садитесь, куда спешить, чаю будете?
Старуха с облегчением опустилась на стул и приготовилась слушать.
Евдокия начала издалека, долго жалуясь на свою непутевую дочку, очень неудачно вышедшую замуж за алкоголика. Оказалось, что до этого к ней сватался сын большого начальника, и вот тогда как раз и случилось то, что Евдокия по сей день считала причиной расстроившейся помолвки. А дело было так. Отец жениха стал большим начальником после того, как его предшественник проморгал зятя-еврея. Тот полетел с поста вслед за дочерью, которая, плюнув на все, улетела с мужем в Израиль. Забравшись на вершину начальственной пирамиды их ведомства, будущий свекор очень зорко охранял национальную чистоту семьи. Придя в гости на смотрины невесты, был вроде бы всем доволен, как вдруг на столе появилась фаршированная щука и полагающийся к ней хрен. Евдокия гордо заявила, что это ее фирменное блюдо, а секрет приготовления именно такой рыбы передается женщинами их семьи из поколения в поколение. Это как бы их фамильный рецепт. А дело просто в количестве жареного и сырого лука.
– И представьте себе, этот идиот папа спрашивает: «Еще раз повторите, как ваша фамилия?» Я ему и отвечаю: «Квитницкая, что означает в переводе с украинского «цветочная». И знаете, что он мне сказал? «Мне не нравится окончание вашей фамилии». Как я пожалела, что мой Костик, царство ему небесное, не дожил до этого дня. О, как бы он намылил морду этому жлобу. Оксанка после этого надулась и сына его тоже видеть не захотела. Ну что вы на это скажете, Мадам Дубирштейн?
– Я скажу, что он поц, а вы ничего не потеряли.
Дуся усмехнулась и присела напротив старухи.
– Ну вы сегодня меня удивляете. Я раньше от вас таких слов никогда не слыхала. Вы про людей только хорошее всегда говорите, даже о соседях ваших, уж на что поганые, а вы вроде как жалеете их.
Мадам Дубирштейн обмякла и качнулась. Дусе показалось, что та упадет со стула, но старуха вдруг затряслась от смеха и очень ясно и громко выговорила:
– Хамы. Несчастные люди. Дусенька, мне их действительно жаль. Они так мало видели и знают и, самое печальное, так мало хотят…
– Мало! – возмутилась Дуся, отчего сразу покраснела и покрылась испариной. – Да они спят и видят, как вас на тот свет спровадить и комнату занять!
– Их можно за это простить. Я – не самое приятное соседство. Знаете, я никак не могу справиться с организмом. Он не перестает работать. Как ни приказываю, не слушается. Вот зачем-то супу поела, а ведь потом опять не добегу.
– Давайте, я вас до уборной доведу, – предложила Дуся, – на всякий случай.
– Нет, что вы. Мало того, что я у вас ем.
Старушка с трудом встала и, шатаясь, направилась к двери. Под столом что-то чернело. Дуся подозрительно всмотрелась в очертания предмета. Не то куча, не то мешочек какой-то. Она нагнулась и подняла затертый ридикюль, на котором, несмотря на проплешины осыпавшегося бисера, читались инициалы Э. Д.
Она окликнула гостью и протянула ей находку. Старуха удивилась:
– Как же он выпал? Я ни разу в жизни его не теряла. Вышила после свадьбы. Он всегда со мной. Там все, что у меня есть. Хотите покажу? А то вдруг потеряю совсем.
Дуся не горела желанием рассматривать старухины реликвии. Время подпирало, но для приличия она согласилась.
– Буква Э – это меня так называли в детстве, Эстер. Знаете, кто такая Эстер? Нет? Ну и не надо. Хитрая она была, смелая, а я – дура трусливая, в Эру переименовалась. Так дурацкой Эрой и помру.
Старуха высыпала на стол содержимое мешочка. Звякнул тяжелый черный ключ, к которому тряпочкой был привязан плоский английский ключик. Выкатилось грязное колечко непонятного метала. Трясущейся рукой она извлекла несколько порыжевших от времени фотографий и тощую стопочку денег, перетянутых аптечной резинкой.
– Я давно хотела вас попросить, но как-то не решалась. Не хотелось доставлять лишние хлопоты, но вот пенсию платят, мне она ни к чему. Кое-что собралось. Дуся, не откажите. Возьмите эти деньги. Не думайте, это не на похороны. Это для жизни. Купите внукам что-нибудь хорошее. А как меня похоронят, мне все равно. Муж и сын в печах лагерных сгорели. Живьем горели, а после смерти оно даже приятнее, чем гнить где-то.
– Да бог с вами, – возмутилась Дуся, – зачем мне ваши деньги? А похоронить вас не большие траты, лучше живите сто лет.
– Так я уже вроде около этого. Тяжело.