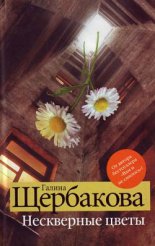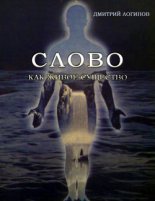К чему снились яблоки Марине Жукова Алёна
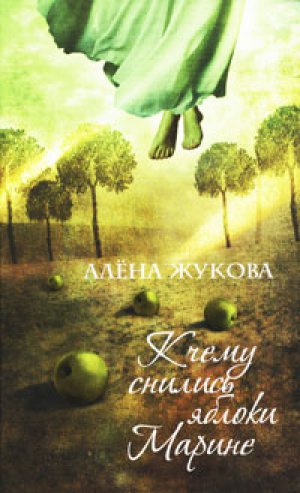
Дуся торопливо стала запихивать назад в ридикюль сомнительные ценности. Надо было выпроваживать старуху.
Путь назад к своему подъезду Мадам Дубирштейн проделала гораздо быстрее.
Даже смогла подняться на второй этаж, ни разу не остановившись более чем на несколько минут. Вошла в квартиру. Дверь в соседскую комнату была приоткрыта. Оттуда вытекал красноватый лучик света. Он сполз с багрового штапеля сборчатых штор и метнулся в коридор из духоты каблуковской комнаты. Было слышно, как храпит и кашляет Славик, как капает из крана вода на кухне, как тикают часы. Людки и детей не было дома. Мадам Дубирштейн с опаской прошла на кухню. У крана она остановилась и протянула под капельки сухую ладошку. Они приятно щекотали руку, просачиваясь сквозь плохо сомкнутые пальцы. Собрав с чайную ложку холодной воды, она плеснула в лицо и блаженно рассмеялась. Сдавленный, скрипучий звук собственного смеха удивил ее. В ушах звенел переливчатый, легкий смех молодой Эстер, той, которая, подставив лицо весеннему ливню, кружилась в диком и пьяном танце. Это был май 45-го. Она еще не знала о судьбах мужа и сына. Она была пьяна первый и единственный раз в жизни. Ее смех, будто рвущаяся в небо птица, бился в горле и, срываясь с губ, улетал, чтобы больше уже не вернуться никогда.
Старуха попробовала открутить кран, но сил не хватило. В глубине раковины расползлась паутина мелких трещинок вокруг давно отколовшейся эмали. Она провела рукой по выщербленному дну и улыбнулась. Тогда, много лет назад, чугунная гусятница выскользнула из мокрых рук и разбила молочную белизну новой мойки.
Шура, тогдашняя соседка по коммуне, распереживалась из-за своей нерасторопности. У нее подскочило давление, и пришлось вызывать врача. Они с Шурой жили душа в душу. Одинокие немолодые женщины. У Шуры, правда, никто не погиб, просто замуж так и не вышла. Многие считали, что они сестры. Так оно и было, наверное. Когда Шурочка умирала от рака груди, то врач не удивлялся стойкости Эстер, которая сутками не спала, не отходя от постели больной. Сестра, вот и должна. Он только ругал, что проглядела начинающийся разрушительный процесс в организме близкого человека. Рак не был вовремя прооперирован, пошел в легкие, вот и результат. Шура мучилась страшно, даже морфий не помогал. В бреду все время звала Эстер, просила лечь рядом, обнять. До болезни она очень любила поиграть, как маленькая девочка, в доктора или парикмахера. Усаживала Эстер перед зеркалом и начинала причесывать ее тогда еще густые и черные волосы. Потом она строго спрашивала соседку, когда та последний раз сдавала кровь и мочу на анализ и собирается ли наконец провериться у гинеколога. Эстер подыгрывала и жаловалась на тошноту по утрам, на головокружения. Шура вскрикивала и ворчливо заявляла: «Вы, женщина, что себе думаете? Вы же беременны! И не стыдно вам! И где вы только это находите?» После этого они веселились, зная точно, что давно не ищут и не ждут тех, от кого случаются подобные неприятности. А ведь тогда им было около пятидесяти, но, если честно, та и другая подзабыли, что вообще существует такой аспект женской жизни, как близость с мужчиной. У каждой из них были на то свои причины, но никто по этому поводу не страдал. Иногда игра в доктора заканчивалась неприятностями вроде Шуриных обид, когда Эстер отказывалась показать специалисту грудь или низ живота. Эстер ссылалась на застенчивость и необразованность пациента, а Шуркины странности объясняла себе искалеченной судьбой. Шура хлебнула лагерной жизни с тридцать седьмого по пятьдесят пятый. Хорошо, что не загнулась. А странности, у кого их нет? Умирая, Шура прижалась к Эстер всем телом, уткнувшись носом куда-то под грудь. Когда Эстер поняла, что это наконец случилось, она осторожно, как спящего младенца, отняла подругу от груди и увидела такое, что абсолютно и навсегда примирило ее со смертью. На Шурином лице застыло блаженство. Это было похоже на то, что произошло с Мишиным лицом после их первой брачной ночи. Поразительное совпадение она истолковала по-своему. Лучше всего подходило слово Облегчение, но она ошибалась. Это была Любовь.
Каблуковы были какой-то там Шуриной родней. После ее смерти они бросили хозяйство в райцентре и переселились в комнату в коммунальной квартире, но зато в городе, а главное, с хорошей перспективой на будущее, о чем свидетельствовал преклонный возраст соседки и ее абсолютное сиротство.
Поначалу все складывалось не так плохо. Эстер особенно радовало появление детей в доме. Но постепенно крутые бедра и локти новой соседки потеснили старушку. Ванная не освобождалась от замоченного белья, в коридоре и кухне растянулись веревки, отвисающие под тяжестью влажных, плохо выстиранных, сперва детских, а потом Славкиных пеленок, распространяющих острый аммиачный дух. Эстер не роптала и даже старалась как-то помочь Людмиле с детьми. Но та запретила им заходить к старухе в комнату.
– Вы меня, конечно, извиняйте, – сказала она соседке, – я брезгливая очень. Вот, к примеру, если волос где увижу или ноготь валяется, так меня уж всю прямо выворачивает. Откуда я знаю, что вы детей за лицо трогать не будете?
Старуха не обиделась, но очень огорчилась. Ей захотелось пореже бывать дома. Пока носили ноги, ей удавалось исчезать с утра и возвращаться ночью. Время шло, силы убывали, а соседи мучились. Мучилась и Мадам Дубирштейн.
Но теперь ей показалось, что она знает, как поступить. Бросив под кухонный стол свой ридикюль и немного подправив ногой, так, чтобы было виднее, она ушла в свою комнату. Прикрыла дверь, улеглась в кровать и представила, как все произойдет. Людка найдет кошелек, в нем ключ и деньги. Жаль, что Дуся отказалась. Вряд ли эти деньги Люда потратит на похороны. Но главное не деньги, а ключ. Ведь чего Людка опасалась больше всего, так это вызвать подозрение, если причина смерти не будет выглядеть абсолютно натурально. А теперь будет все так просто. Людка повернет ключ в замочной скважине, и все. Откроют уже потом и скажут, что соседка всегда на ночь запиралась, а чего не выходила пару дней, так это не их дело, а может, и выходила, так они не заметили. «А иначе, если меня не запереть, – подумала она, уже почти засыпая, – то опять утром встану и пойду, попью, поем, обделаюсь, и опять все сначала».
Людка нашла старушкину приманку тем же вечером и все сделала правильно, как и ожидалось. Она заперла дверь, убедившись, что старуха спит. Поразмыслив немного, она приняла решение никому в семье не говорить о случившемся и просто уехать всей семьей на день-два к родне. Всего-то час электричкой. Люда была не очень уверена в том, что в момент, когда старуха начнет дергать дверь, не дернется сама Людка. Ведь она не зверь какой-то, но не может она больше так, не может…
Каблуковы вернулись через четыре дня. Как Люда ни торопила их с возвращением, ничего не получалось. Славик не вставал из-за стола и пропускал стопку за стопкой с хозяином дачи, как будто не было инсульта. Дети не выходили из теплой лиманской воды, а сестра просила помочь с «закрутками» – вишня горела на солнце, надо было срочно распихивать ее по банкам.
Пока тряслись в электричке, на душе у Людмилы кошки скребли, а когда подходили к дому, она ожидала всего, что угодно. Теперь объяснить, как старушка могла запереть себя снаружи, будет невозможно. Скорее всего, уже и Дуська спохватилась, старуха к ней чуть ли не каждый день шастала, небось уже приходила и заподозрила что-то неладное.
На подходе к дому она высматривала «Скорую» или милицию, но все было спокойно. Она на негнущихся ногах вошла в квартиру. Дети скривили носы от отвратительного запаха, а Славик тут же обнаружил его источник – перед отъездом он забыл вынести кулек с рыбьей требухой, вот он и завонялся в жаре такой.
Люда подошла к старухиной двери, прислушалась. За дверью была гробовая тишина. Она толкнула дверь, и дверь поддалась. У Люды зашевелились волосы на голове.
Старуха лежала на кровати, вытянувшись в струночку. Она казалась стройной, длинной и молодой. Люда повернула выключатель, и тусклый свет по-другому осветил происходящее. На кровати лежала мертвая старая женщина. Ее голова была высоко закинута, подбородок надменно выступал, а горбатый нос, казалось, хотел клюнуть свисающую с потолка, обсиженную мухами, грязную лампочку.
Люда с опаской подошла ближе и взглянула в лицо усопшей.
– Господи, – перекрестилась Людка, – с чего же она так лыбится, будто хорошо ей, сил нету? Ну, дай ей бог счастья на том свете.
Она вышла из комнаты и торжественно объявила домашним о смерти соседки. Дети радостно завопили, Славик так разволновался, что схватился за сердце. Люда строго пресекла ликование и объявила, что надо все организовать по-человечески. Денег на похороны не жалеть, пригласить весь двор, а главное, сделать все быстро, поскольку по еврейским обычаям три дня не ждут.
Доктор засвидетельствовал смерть без лишних вопросов, и никакой экспертизы, чего всегда боялась Люда, не потребовалось. Единственное, что он сказал, похоже, смерть наступила совсем недавно, буквально пару часов назад. Постель под спиной покойницы еще была теплой. Скорее всего, во сне остановилось сердце.
Похороны получились очень приличными. Мадам Дубирштейн лежала в гробу вся в белом. Соседи шутили, что такой чистенькой ее не видели давно. Было много цветов и венков. Многие дивились Людкиной щедрости, только Дуся ничего не сказала, просто тихо всплакнула, одна среди всех.
Людка объяснила ту странность, что случилась с дверью, обычной житейской ситуацией, когда из-за невнимательности и волнения просто не провернула ключ до конца. Бог отвел, как бы теперь и не виновата вовсе. Теперь настало время вынести весь старухин хлам, сделать небольшой ремонт и можно вздохнуть спокойно.
На субботник по очистке жилплощади была организована вся семья. Дети сваливали в мешки старухины вещи, которых оказалось немало. Люда подивилась тому, с каким безразличием старуха относилась к довольно дорогим вещам. Вот, например, лисья горжетка, шуба панификсовая, все сгнило, рассыпалось. Мехам воздух нужен был, уход, а эта дура старая их в целлофан упаковала.
Иришка нашла альбом с фотографиями. Снимков было немного, но на одном из них стояла, облокотившись о колонну, смуглая черноволосая женщина с удивительными глазами вроде больших маслин, которые приносил папа с работы, когда он разгружал греческие суда. Фотография была не такая, как сейчас делают, а жесткая и толстая, вроде картона. Внизу и на обороте красивыми буквами значилось «А. Вознесенский и К. Князев. Фотография и Литография в Симферополе. Высочайшие награды Государя Императора, Его Высочества Эмира Бухарского и Королевы Сербской».
Иришка продемонстрировала матери свою находку. Та всмотрелась и узнала:
– Ты глянь, так это ж Мадам, точно. А ничего себе была. Навроде актрисы какой. А расфуфырена-то как, шляпа, перчатки. Какой же это год-то? Гляди, это прямо перед революцией. Надо же, точно барыня.
– А я буду такой, – спросила Иришка и уточнила, – когда вырасту?
Валерка залез под кровать и выудил оттуда тапок, старый календарь и связку ключей. Людка прикрикнула на него, чтобы перестал пыль пузом собирать. Нечего там лазить, все выкинем, и баста. Ее хозяйский глаз остановился на связке ключей. Среди нескольких ржавых и, видимо, давно бесполезных был один, который она не могла не узнать. Точно такой она спрятала у себя в комнате за плинтусом. Ей опять стало не по себе. Так что же это получается, старуха сама дверь и открыла, а может, все же дверь не была заперта?
Для верности Людка попробовала открыть и закрыть дверь найденным ключом, и ей это удалось. Но еще она заметила, что на связке нет маленького английского ключа от входной двери в квартиру, а на той был. И это ее успокоило. Значит, старуха, хоть и не могла из дому выйти, с голоду бы не померла – вона сколько еды в Людкиных ящичках: и тебе макароны, и картошка, и масла топленого банка, а в кладовочке – чай, сахар. Так что никто вас, дорогая, голодом не морил. Оно, конечно, сильно вы щепетильная были, могли чужого не взять, но, если бы припекло, как миленькая наелись, напились…
Мадам Дубирштейн уже не могла на это ответить, да и вряд ли бы стала. За долгую жизнь она ни разу не нарушила две заповеди – не лезть в чужую душу и чужой шкафчик. В общем, можно было с ней жить, но Люда считала по-другому.
Вскоре тяжелое соседство забылось. Комната была отмыта и перекрашена, и жизнь потекла своим чередом.
К чему снились яблоки Марине
Резко вынырнула из сна. Что это было? Остался ритм скачки и глухие удары пяток о твердую сухую землю. Мышцы болели, сердце бешено колотилось, вдруг оно сорвалось и ухнуло вниз. Вспомнила – большое яблоко тяжело упало с ветки в траву. А что же дальше было? Бежала, неслась с табуном лошадей. Или от них убегала? Вроде ничего страшного, а тоскливо как-то. Надо будет у Ленки спросить, к чему лошади и яблоки.
Дождь, что ли, опять? Темно. Утро, ведь семь уже. Дерево за окном судорожно бьется, листьев почти не осталось. Еще можно часок поспать. Первая пара в девять тридцать, успею. Все, теперь не засну – о нем подумала. Андрей, что же это происходит! Еще глаза не открыла, как включается картинка с твоим изображением, и так до самого вечера, а бывает, что даже во сне не отключается, тогда наутро совсем дурная хожу. Но сегодня не было тебя, только лошади и яблоки. Это, наверное, после фильма. Ты про это кино вчера весь вечер говорил, называл фамилию режиссера, а я не видела, не слышала, но надо запомнить – Андрей Тарковский. Тезка то есть моего Андрюшеньки.
Сегодня опять пойдем к морю гулять. В прошлый раз возле яхт-клуба нашли безлюдное местечко, только на куртку присели, как дружинник тут как тут. Интересно, что же такое Андрей сказал парню, отчего тот смутился и ушел безо всяких разбирательств? Целовались как умалишенные. Губы до сих пор болят. Обещал книгу принести перефотографированную из какого-то зарубежного издания, но писатель русский. Фамилию называл. Как же могла забыть? Позор! Рядом с ним – дурочка необразованная. Интересно, а он тоже это понимает? Конечно, надо больше читать, только все равно он читает другое – журналы, названия которых никогда не слышала, стихи, которые звучат совсем не так, как те, что в учебнике. Ведь она, между прочим, с отличием десятый кончила, даже до медали чуть не дотянула, теперь вот на филфак пошла, а он, хоть и физик-теоретик, а знает литературу в сто раз лучше. Часто, правда, они спорят. Недавно вот разревелась от обиды за Максима Горького. Он испугался, прижал к себе и зашептал горячо на ухо, что готов признать его великим писателем, только чтобы не видеть ее горьких слез. Как же вспомнить, о ком он вчера говорил? Название книги такое короткое, вроде «Они». Нет, кажется, «Мы», а вот фамилия писателя начисто вылетела. Он всегда говорит: «Прочла и тут же забудь, эти книги у нас не продаются, и за них можно в тюрьму сесть». Конечно, поверить в то, что у нас за книги сажают, невозможно, но ему пообещала молчать. А сколько он стихов помнит, и странных таких! Не всегда понятно, о чем они, но когда вслух читает – очень красиво. Почему мы этих поэтов не проходим, может, из-за их непонятности? Хорошо, когда в стихах про природу и любовь все ясно, как у Пушкина. Похвасталась, что может «Евгения Онегина» почти всего наизусть прочесть, так он погладил по головке, как маленькую, и сказал, что это обнадеживает. А что, собственно, имел в виду, что она со временем поумнеет, что ли?
Потянулась и перевернулась на живот, потом опять свернулась калачиком и сложила лодочкой руки в паху. Там было горячо и влажно. Мысли потекли сверху вниз, наполнив жидкостью полость, которая со вчера уже не хотела оставаться незаполненной и теперь сладко болела и пульсировала под руками. Сегодня все произойдет. Родители наконец уехали, а бабушка осталась. Но она подольет ей в чай мамино снотворное. Ничего плохого не будет. Андрей обязательно станет ее мужем, почему нет? Поймет, что он у нее первый. Ей уже скоро восемнадцать. Он, конечно, старше и опытнее. Про девушек своих не рассказывает, но наверняка было их немало, он же красавец и умница, а с ней так осторожен, никогда не настаивает, а ведь мучается, я вижу. В первый же день глаза отвел, когда она в своих брючках-дудочках перед ним вертелась. Потом долго встречались без поцелуев, а коснувшись губами, до дрожи задохнулся. А вдруг он испугается? Про план с бабушкой она, конечно, не расскажет. Лучше всего вообще не говорить, что бабушка дома. Когда снотворное подействует, надо запереть дверь в ее комнату и сказать, что бабушка ушла ночевать к подруге. А вдруг проснется? Надо побольше дать, чтоб наверняка. Ох, ей бы самой сейчас снотворное не помешало или валерьянка какая-нибудь, колотит всю. Оказаться бы с ним рядом, чтобы руками своими жилистыми обхватил и сжал сильно! Дрожать бы перестала, успокоилась, заснула на его плече, а потом бы проснулась…
Проснулась быстро, судорожно, как от испуга. Он рядом. Тихо. Дети еще спят. Во сне бабушка яблоки рассыпала. Они стучали, подпрыгивая и раскатываясь по полу в разные стороны. Бабушка нагнулась, чтобы собрать, и упала.
Совсем недавно бабушку похоронили. Сердце у нее пошаливало, может, после того снотворного? Вряд ли, давно это было. Просто годы взяли свое. Опять вспомнила ту ночь с Андреем, с тем аспирантом-физиком. Страшно было, больно, но так хорошо, как никогда больше в жизни. Любовью были наполнены тела, слова, дыхание. Простыни тоже были пропитаны любовью. Их можно было выжимать, из них сочилась любовь. Оказалась эта ночь первой и последней. Андрея взяли, и он получил срок за распространение самиздата. Стукнул его научный руководитель, жена которого накатала телегу в партком, застав мужа с аспиранткой-любовницей в постели. В доносе фигурировала книжка «Архипелаг ГУЛАГ», которую она нашла под кроватью после прихода аспиранточки. Руководителя сразу на ковер, а он – поди и скажи, что книжечку эту дал им почитать младший научный сотрудник Андрей Бирман. У Андрея обыск – и на всю катушку. Теперь, говорят, реабилитировали, через восемь лет. А может, он уже вернулся, поэтому опять во сне яблоки и бабушка?
Рядом на тумбочке журнал «Знамя», а в нем все то, что Андрюшка тогда фотографировал, перепечатывал. За что так несправедливо с ним и с нею судьба обошлась? А может, оно и к лучшему. Борис – муж хороший и человек деловой. Скоро уедут они далеко. Будут жить в Канаде. Детей вырастят в нормальной стране. Что же так неспокойно на сердце сегодня? Если бы они вдруг с Андреем встретились, неужели бы все началось сначала? Наверное, нет. Все проходит… Или не все?
Бешеная была после него, все не то и не так. Борька самый терпеливый оказался. Хоть и не доктор, а точно, любил, как лечил, настойчиво и упорно, по капле в день. Сутками не отходил и никого не подпускал, и так до самого излечения, пока в ней не забилась новая жизнь и не шарахнуло по ушам свадебным маршем.
Она потянулась, перевернулась на спину, а потом опять скрутилась клубочком. Хорошо ей, уютно. У Бори даже во сне брови сдвинуты. Тяжело идет их новое дело, постоянно нервничает. Везде бандиты и бюрократы, всем плати. А все для нас. Ничего ему не надо, только процесс игры и поиска. Правда, становится все азартнее и прижимистее. Саньке велосипед какой-то навороченный не купил, тот расстроился, сказал, что папа жмот. У мальчишек должен быть перед глазами положительный образ отца, а Боря все реже дома бывает. Она, конечно, старается правильно их воспитывать, но без него тяжело. Ничего, вот уедем, новая жизнь начнется.
Надо постараться опять заснуть. Дождь, что ли, на улице? В окне небо темное, тяжелое. Соседнюю многоэтажку туманом размыло, сквозь который несколько желтых пятен светится. Господи, это в такую рань кто-то уже встал, наверное, завтракает, на работу собирается. А ей уже никуда не надо спешить. Хорошо, только внутренний будильник всегда на семь.
Последнее время просто с ума сходила на работе. Что ни день – потрясения, то газету закрывают, то перепродают, а после дефолта вообще кисло стало. Хорошо, Борька их деньги вовремя из страны увел на будущее место жительства. Через неделю она уже будет просыпаться в другом доме, под другим небом. Как оно там будет? Закрыла глаза и постаралась представить их дом за океаном, который еще не видела, но Боря плохого не купит. Фотографии впечатляли, особенно большие елки вокруг и трогательная березка на бекярде, по-нашему, заднем дворике. Еще он говорил, что где-то поблизости парк, в котором целая аллея яблонь, но яблоки никто не срывает, они падают в траву, и только иногда под деревьями можно увидеть одинокую фигуру пожилой женщины, собирающей паданки. Наверняка из наших, утверждает Боря. Какая-нибудь воронежская старушка не может перенести, что добро пропадает, вот и собирает на вареньице для внучат. Они, конечно, жрать не будут, как и все, что им приготовит бабуля, поскольку дети в той стране очень быстро привыкают к местному фастфуду, и Боря уже сейчас предупреждает, чтобы я с первого дня взяла этот процесс под контроль. Возьму, куда денусь, то есть из кухни буквально не выйду. Ну и ладно, пора осваивать профессию домохозяйки. К черту газету, планерки, скандалы, расследования. И небезопасно становится. Жизнь дороже. Страшно в подъезд собственного дома зайти. Время пришло всерьез детьми заняться. Ради них и едем. А может, там еще девочку родить и назвать ее как-нибудь странно-иностранно, вроде Ребекки. Нет, ужас, какой, почти как Дебора! Лучше уж Джесика или Мэгги. Ладно, там разберемся…
Веселая, кудрявая девчонка побежала по яблочной аллее, прыгнула под дерево, упала в траву, и вдруг громадные, тяжелые яблоки посыпались на голову маленькой дочки.
– Даша-а-а!.. Родная-я!.. Осторожно!.. А-а-а!….
Она с криком подскочила в кровати и поняла, что это сон. Дашка сопела рядом. Опять приползла ночью из своей комнаты к маме под одеяло. Хорошо, что не испугала ее и не разбудила криком своим. Мальчишки, надеюсь, тоже не слышали, их спальни этажом выше. Внутри дома тишина, а снаружи дождик журчит по водостоку, барабанит по крыше. На елке за окном белка прячется, скоро вылезет и на окно прыгнет за орешком. Дарья ее подкармливает и зовет Кирой. Английское squirrel ей удается плохо, как и маме, и поэтому по обоюдному соглашению белка превратилась в Киру. У дочки непонятно откуда появилось грассирующее Р, и она, как камешек, перекатывает его во рту. Давно перестала этот камешек катать на папином имени. Боря приезжает теперь три, может, четыре раза в год, Даша успевает забыть его капитально, и не только она. Собственные тело и душа тоже уже не откликаются на короткие появления мужа. Когда на курортах соединяются, Борис с трудом входит в роль семьянина. И если заботливого папу еще удается сыграть, то истосковавшегося мужа все реже и реже. А ей все тяжелее изображать верную жену. Последний год вообще многое перевернул. И, что самое ужасное, ни он, ни она не задают друг другу вопросов. Каждый допускает наличие третьего, совсем не лишнего, в их сложившейся ситуации. Вчера Боря позвонил в тот момент, когда не могла не то что говорить, но и дышать. С трудом совладала с голосом, который срывался на стон, когда в развороченной постели ее тело, как глину, разминал новый любовник.
Боря попросил телефон знакомого брокера. Перезвонила через несколько часов, дома его уже не застала, мобильный молчал. Может, он был занят тем же, что и она. Только вот нет у нее права на отключенный мобильник – на ней дети, мало ли что.
Лежа на спине, потянулась и осторожно, чтобы не потревожить дочь, повернулась на живот. Побаливали поясница и бедра. Хорошо бы проверить, не осталось ли синяков. Силен мужик, измотал, но с удовольствием и самоотдачей, отчего в висках стучало и в глазах темнело. Так было только в молодости с тем физиком Андреем. Интересно, как он, где, с кем, вспоминает ли? А ведь удивительно, если к ней уж кто в постель сваливается, так крепко Андрюшу напоминает. И этот похож, правда, по-русски ни слова. Да и не нужны теперь ей слова, ни русские, ни английские. Все просто и понятно, по крайней мере честно. Хорошо бы с таким махнуть на Карибы или в Мексику. От аборигенов его будет не отличить, когда покроется свежим загаром. Андрюшу тоже всегда принимали то за грека, то за араба, а был он просто красивый еврейский мальчик с грустными глазами и терракотовым телом, сухим и горячим. А с Тонни она познакомилась в Кингстоне на риэлэстейт-семинаре по продаже «грязных» домов. Он очень много вопросов задавал докладчику по домам-плантациям. Особенно его поразил тот факт, что те дома, которые используются хозяевами под выращивание марихуаны, имеют повышенную температуру. Ночью, когда вертолеты специальными приборами с инфракрасным излучением замеряют температуру, эти дома сразу светятся. Тогда она подумала – наверняка покуривает, но ошиблась. Как выяснилось, ни вредных привычек, ни слабостей. Диета, вода, спортзал, массаж, маникюр и загар. В профессии уже лет семь. Успешен, деньги есть, семьи нет – идеальный вариант любовника и не только, но как-то скучно. Вчера он пытался выяснить, что не так в моей семейной жизни. Смешные вопросы задавал, еще смешнее выводы делал. В общем, все свелось к утверждению, что поскольку я изменяю мужу, то, значит, у меня есть планы с ним развестись, а иначе быть не может, ведь я достойная женщина. Я даже постеснялась переубеждать. Он вряд ли бы понял, если бы стала рассказывать, как люблю Борю, как скучаю, как разлуки и такие вот Тонни и Тани разрушают нас или помогают, не знаю, не знаю… А может, Борька все же успокоится? Но непохоже. Игра идет по-крупному. Полез в болото политики, теперь еще опаснее туда переезжать. Раньше боялись, что через детей к кошельку доберутся, теперь уже ставка – безопасность и жизнь. Вот так и проживает она заложницей в чужой игре. А ведь это все с того физика началось и в ее жизни, и в стране. Они раскачивали систему, боролись за свободу, а она платила одиночеством. Если бы не дети, то к чему все это? В последний приезд муж расчувствовался и стал восхищаться тем, как она их воспитала, как сумела удержать любовь к нему, как он благодарен за все и обещает устроить так, чтобы они ничего не боялись, переехав назад в Россию. Самое интересное, что он уже плохо понимает, чего на самом деле хотят его дети. Тот праздник, который на них обрушивается на родине, они расценивают как отдых, каникулы, а жизнь и будущее они теперь видят с другой точки зрения, именуемой западным менталитетом. Они замечают и понимают то, что Боре в голову не приходит. Не прощают они той папиной жизни – езды без правил, бизнеса вне закона, милосердия ради собственной выгоды. И планы отца по воссоединению семьи воспринимают только с оговоркой, что за ними останется свобода выбора. Они не станут заложниками, как она, как те, кто живет там. Они действительно по-настоящему свободны.
А ей остается только одна свобода – безнаказанно пускать в постель незнакомых мужчин, когда не может совладать с гормональными бурями, накрывающими посильнее, чем в молодости. Семейный доктор утверждает, что это нормально для переходного периода, имея в виду тот плавный переход из детородной в другую, уже не такую тревожную и проблематичную фазу сексуальной жизни. Тонни сейчас вроде витаминчика, помогает держать в форме тело и мозги. Детям нужна мама со здоровой психикой.
Она прикрыла одеялом дочку, погладила по вспотевшей во сне головке. Смешно, но ее верхняя губка вырезана по итальяшкиной выкройке. Уже несколько раз Дарью принимали за его дочь. Тонни был этим польщен и действительно находит в Дарье какое-то сходство с калабрийскими женщинами их рода. Она видела его сестру – простоватая, низкорослая, но лицо и улыбка Мадонны. Недавно провели у озера целый день. Шумное итальянское семейство понравилось Дашке, особенно младший отпрыск семьи ДеCико. Можно было биться об заклад, что эти два карапуза влюбились друг в друга. Марчи протянул Даше свое яблоко, она ему свое, и они ели, поочередно откусывая от двух плодов. Когда кончился пикник и все пошли к машинам, поднялся рев, полились слезы. Дети не хотели расставаться. Вечером перед сном пришлось пообещать Дашке, что они скоро опять пойдут в гости к Марчи и, конечно же, мама согласна, что Марчи будет Дашкиным бойфрендом.
– Что же это нас, подруга, на итальянцев потянуло? – прошептала, улыбнувшись дочке. – Не пора ли намекнуть папе о римских каникулах, похоже, мы уже созрели.
Закрыла глаза и попыталась представить Рим. Две пары ног побежали по ступенькам бесконечной лестницы. Потом чьи-то сильные, жилистые руки подхватили и поволокли с головокружительной быстротой вниз, к морю, разлившемуся и блестевшему, как масло, у подножия горы. «Почему море? – подумалось ей. – Почему гора?… Где сад, дождь, яблоки, где Андрей? Почему так тихо, где Даша?»
Проснулась опять, уже третий раз за ночь. Что-то разладилось в голове. В момент пробуждения кажется, что и не спала вовсе. Опять за окном моросит, жалобно поскуливает ветер в проводах и в душе. Стоп, во сне опять Дашу искала. Надо снова попробовать дозвониться в ее мичиганскую общагу. Сессия ведь уже закончилась, могла бы и позвонить. Паршивка, звонит только по праздникам и по необходимости, а просто так, как же, дождешься. Наверняка опять любовный кризис. Это ничего, это хорошо, несмертельно, а для творчества – самый раз. Последняя серия фотографий была просто удивительной. Итальянец, конечно, модель хорошая, выразительная, но что с этой моделью по жизни делать будешь? Разве что в постельных целях. Так ведь капризничает и мучает. Но Дарья, слава богу, не в маму. Никаких жертв, терпения, зависимости, но и привязанности тоже. Запросто может исчезнуть надолго, забыть позвонить, поздравить. Может находиться в часе лету от Москвы, но не долететь, а вместо этого оказаться в Австралии. Мальчишки – они другие. Установили очередность и давай по кругу звонить, уже даже некое расписание прочитывается. В выходные отзваниваются по старшинству – сначала Санька из Сант-Хозе, потом Лешка из Торонто, потом их жены, потом внуки. Обещали собраться на пятилетие со дня смерти отца, то есть в этом ноябре. Младшие еще не видели Москвы, интересно, понравится ли? После гибели Бори в автокатастрофе никто не хотел верить, что это Судьба заказала его пьяному дальнобойщику, а не спецслужбы или какие-то бандиты. Она сама долгое время была уверена, что Бориса убрали политические противники, но следствие доказало трагическую случайность, в которую поверили все, кроме ее детей. Они уговаривали уехать из России, но она отказалась. Никому не говорила, что есть еще одна причина, кроме Бориной могилы. Она пыталась разыскать Андрея, не для чего-то, просто снится он ей часто. Уже два года как ищет, но безрезультатно. Одна тетка в архиве сказала, что не там ищет, что все умные евреи уже давно уехали, скорее всего Андрей тоже. Она чувствует, что они обязательно встретятся, что мир тесен. И чем дальше, тем больше сужается, так ей, по крайней мере, кажется. Возможно, это теперь касается ее собственного узенького мира, состоящего из четырех стен, книг, телевизора, телефона. Все труднее передвигаться. Сердце ухает филином в груди, давление, одышка. Надо гнать плохие мысли, перестать мусолить в голове свои и чужие беды. Потому и не спится мрачной бабке, что ничего светлого вспоминать не хочет. Нудно ноет душа, поскуливает ветер за окнами. Хорошо бы крючочком памяти поймать петельку и вывязать красивый, хороший сон. Скорее бы снотворное подействовало.
Закрыла глаза, попыталась поглубже вздохнуть, хотела повернуться на бок, но замерла. Тупая игла вонзилась в подреберье. Рукой нашарила простыню, скомкала в кулак. Вдруг разжала пальцы, выдохнула и увидела, как…
Ветер поднял нагретую солнцем пыль. Она взлетела над проселочной дорогой и закрутилась в смерчик, веселенький, как юла. Разрастаясь, он втянул в себя легкий сор, золотистых мух и маленьких птиц, расшвырял ворох листвы и принялся за яблоки. Он терзал деревья, раскачивал, тормошил. Яблоки падали, глухо ударяясь о землю. Андрей собирал их в подол рубахи, но не удержал, выронил. Они посыпались, катясь и подпрыгивая на ухабах дороги, извилистой и длинной, идущей под откос в никуда…
Гололед
Все началось с вранья – несерьезного, глупого. Просто Таньке очень захотелось вечером слинять из дому. Еще утром в классе они с Майей договорились устроить маленький праздник по поводу Дня Советской Армии. Накануне уехали Майкины родители, и в доме, если не считать шнауцера Геры, оставались только две старухи – бабушка Лиза и ее сестра Софья Марковна. Одна была почти совсем глухая, другая – в такой же степени слепая. Обычно бабушки засыпали не позже девяти и, если удавалось не шуметь, то родители оставались в неведении, кто и зачем приходил, и можно было делать все что угодно. Пока, правда, дальше распития легкого винца и курения на балконе дело не шло. Ну, целовалась Майка с Виталиком, но несерьезно, чуть-чуть, не взасос. Тане нравился Роман, но он только разговаривал, танцевать не хотел и уходил первым.
Уже почти два года Роман и Виталик сидели за одной партой, а Таня и Майя сразу за ними. Шли последние минуты последнего урока, и девчонки томились ожиданием. Майка прищурила глаз и, склонив голову набок, отметила, что у Витальки за последние пару месяцев значительно расширился плечевой пояс в связи с увлечением культуризмом, а вот у Ромки как была куриная шея, так и осталась. Это испортило Танькино настроение. Она отвернулась к окну и, поправив сползшие очки, съязвила насчет того, что на этой шее, по крайней мере, сидит светлая голова медалиста, а не футбольный мяч серой посредственности.
Майка перебросила мальчикам записочку с приглашением, через пару минут последовал ответный бросок, и свернутая трубочкой бумажка блохой запрыгала по парте. Виталик ответил, что всегда готов, а Ромка написал, что у него сегодня шахматы до восьми тридцати. Встречу назначили на девять, а между собой подружки договорились, что Таня придет в семь, иначе родители не отпустят.
Майя жила в двух кварталах от Тани, пешком – минут пятнадцать, но район был не из лучших. Соседство стекольного завода и гастронома с винно-водочным отделом превратило обшарпанные парадные хрущовок в общественные уборные, а ночной покой то и дело нарушался дурными криками загулявших работяг.
Таня соврала родителям, что идет к Майке готовиться к контрольной по математике и что Майин папа проводит. Так обычно и было. Дядя Жора выгуливал собаку и провожал Таню до самой двери. Мать строго обозначила время возвращения – не позже одиннадцати. Таньку оно устроило, два часа им хватит с головой.
Уже после пяти небо набухло и навалилось тяжестью собирающейся снежной бури. Но после недолгой белой прелюдии пух и перья сменились острыми шипами ледяного дождя. Он сыпал бисером, налипая хрустящей коркой на дороги и дома. Деревья упаковывались в стеклянные футляры. Ветви звенели под порывами ветра и скреблись в окна, как бездомные кошки. Такая погода, как правило, заканчивалась разными бедами, вроде оборванных проводов, разбитых машин и переполненных отделений «Скорой помощи».
Конечно, никакой гололед не мог остановить возбужденную Таньку. Накрутившись у зеркала, она запихнула в портфель узенькую короткую юбочку и тонкий свитерок с большим вырезом. Тихо, чтобы мама не заметила, выскользнула на улицу в новых сапогах на высоченном каблуке. Сапоги ей были куплены перед Новым годом, но мать их припрятала до весны. Сказала, что сейчас нечего таскать, еще ноги сломаешь, а вот как снег сойдет – пожалуйста.
Танька скользила по ледяной крошке, быстро перебирая тонкими длинными ногами. Ей удавалось удерживать равновесие, может быть, потому, что внутри уже начинал раскручиваться моторчик веселья, набиравшего обороты по мере приближения к Майкиному дому. Ей казалось, что именно сегодня Роман захочет целоваться. Он подошел к ней после уроков и как-то по-особенному, уставившись в пол, пробурчал, что обязательно придет, если она не передумала. Его взъерошенный чуб ощетинился и торчал иголками в разные стороны. Он стал похож на испуганного ежа, и ей захотелось его погладить. Она, конечно, этого не сделала, но сказала с выражением, как в стихах или в кино, что будет очень его ждать.
Таньке уже было почти шестнадцать, а вот целоваться в губы она еще ни разу не пробовала. Об этом, правда, знала только Майка, такое стыдно было говорить кому попало. В их классе некоторые попробовали все и по многу раз, а про Любку Бычкову рассказывали такое, что просто тошнило, даже смотреть было противно, как она обсасывает леденец на палочке.
Впереди, в опускающемся тумане, расплывались желтыми пятнами окна Майкиного дома. Возле него давно прорвало трубу, и асфальт блестел, как лакированный, под толстым слоем льда, отполированного задами и спинами падающих прохожих.
Танька разбежалась и проехала. Чуть не сломала каблук, совсем забыла, что сапоги другие. Прохожих на улицах было немного, все попрятались. А красота вокруг разрасталась, сверкала и позвякивала прозрачной хрупкостью льдинок, покрывших грубый и скучный пейзаж заводского района. Танька задрала голову и потянула ветку с большой сосулькой. Ледяные колючки, слетевшие с потревоженных ветвей, обожгли лицо и руки. Стекла очков потеряли прозрачность. Она зажмурилась и отодрала большущую, похожую на оплывшую свечу, сосульку. Как в детстве, провела горячим языком по бугристой поверхности, потом вдруг остановилась и, вспомнив Бычкову, засунула ее почти целиком в рот. Сработал рвотный инстинкт. Сплюнув талую воду, скривилась и отшвырнула ее подальше.
Майка уже была при полном параде. Ее по-женски развитая грудь распирала тугой гипюровый батник, отчего бусинки черных пуговиц постоянно выскальзывали из петель и грудь выпрыгивала наружу.
Танька бросилась в комнату, вытаскивая из портфеля вещички и косметику. Конечно, рядом с роскошью Майкиных форм подростковая угловатость Таньки производила жалкое впечатление, зато ноги в новых сапогах были то, что надо. Как с журнальной картинки – почти безо всяких ненужных бутылочнообразных форм до самого того перехода, до складочки с небольшими ягодичными выпуклостями, которые в ее случае правильнее было назвать яблочными по причине их особой плотности и округлости.
Майя критически осмотрела подругу. Поплевав в подсыхающую тушь, протянула ее Таньке.
– Можешь не жалеть, все равно кончается. Ты посильнее намажь, а то глаза маленькими кажутся в очках. Может, снимешь?
Танька утвердительно кивнула:
– Когда придут, сниму.
Майка стояла у зеркала и пыталась изогнуть липкую от лака челку в нужном направлении. За дверью поскуливал Гера, он скреб и барабанил лапами изо всех сил, возмущаясь равнодушием девчонок. Зато бабушка Лиза, даже не подумав постучаться, распахнула дверь.
– Что это вы, барышни, собаку мучаете? И чего это вдруг разоделись? Никуда не пущу, родители приедут, тогда можете идти на все четыре стороны.
– А мы никуда и не собираемся, бабулечка. Мы к контрольной готовимся, сейчас только кое-что примерим и сразу сядем учиться, – глазом не моргнув, соврала Майка.
Баба Лиза не уходила и подозрительно рассматривала девчонок.
– Знаете, что по радио сказали, – не унималась она, – ночью начнется полное обледенение, могут отключить свет и воду. Сейчас уже транспорт почти не ходит.
Девочки переглянулись. Это означало, что ребята, скорее всего, не доедут. Ромкина шахматная школа в центре города, а Виталька месяц назад переехал в новый дом в получасе езды на автобусе.
Лицо бабушки Лизы раздвоилось, и вторая половина заговорила голосом Софьи Марковны:
– Девочки, пошли чай пить с вареньицем, я коржиков напекла.
Обе бабушки приветливо улыбнулись, отчего стали еще более похожими. Они были близнецами, но старели по-разному. Лиза быстрее облысела, а у Софьи почти не осталось зубов, но когда они оказывались рядом, их можно было перепутать.
Девочки нехотя поплелись на кухню. Шестое чувство подсказывало, что будет облом, ребята не придут и все приготовления напрасны.
На плите отплевывался закипающий чайник. В желтом пятне низко висящей над столом лампы золотилось медовое печенье, рядом с которым стояла полная до краев розетка вишневого варенья. Вокруг в зубчатых блюдечках хороводили нарядные чашки с блестящими лепестками ложечек, и пузатый заварочный чайник был укутан в вафельное полотенце. Эта уютная картинка буквально сразу была нарушена Майкиной неуклюжестью. Она потянулась за печеньем, и ее грудь, как снаряд, пролетела над чашкой, но ударила по вазочке с вареньем. На белой скатерти растеклось темно-багровое пятно. Таня вздрогнула. Бабушки синхронно всплеснули ручками и бросились спасать ситуацию. Майка выглядела не столько виноватой, сколько погрустневшей и раздраженной.
– Невезуха сегодня, – обреченно заметила она, – и все с этого контуженого началось.
Танька удивленно посмотрела на подругу. Бабушки заинтересованно прислушались.
– Утром перед школой военрук наехал, – продолжила Майка, – я даже и не очень опаздывала, спокойненько так себе шла. А он, как кретин какой: «Чего это ты еле ногами перебираешь, бегом давай, звонок скоро». Я ему: «Мне бежать тяжело сегодня», – а он типа разговорчики, беги давай. А у меня живот болит, сил нету, первый день месячных. Хотела объяснить, что у женщин бывают такие дни, когда их нельзя не только заставлять бегать, но и раздражать тоже. Тут он совсем озверел, стал орать, что к директору поведет, и, главное, в спину толкает, я чуть не навернулась. Я ему: «Вы чего руки распускаете», – а он: «Я войну прошел, за таких, как ты, кровь проливал», – а самого аж трясет. Знаете, что я ему сказала? «Ты на войне проливал, а я каждый месяц проливаю, и ничего».
Танька заржала, а бабушки после минутного замешательства быстро пришли в себя и набросились на внучку. Они возмущались, что Майка позволяет себе так разговаривать со взрослыми, что если она свой язычок не укоротит, то когда-нибудь договорится до цугундера. Что такое цугундер, девчонок не интересовало, как и то, что обе бабушки знали это не понаслышке, побывав в шкуре жен политзаключенных. Подружек больше интересовало другое: когда бабульки отойдут ко сну и, главное, придут ли мальчишки.
Неожиданно лампа над столом вспыхнула и погасла. Холодильник сдавленно рыкнул, и квартира погрузилась в глухую темноту. Сразу стало слышно, как в окна ударило ледяным ветром с дождем. Бабушка Лиза пошла на лестничную площадку справиться у соседей о наличии света в их квартирах, а Софья Марковна пыталась на ощупь найти в шкафчике свечу. Девочки прилипли носами к оконному стеклу и с ужасом констатировали, что вокруг не было ни одного светлого пятна, только некоторые окна начинали блекло светиться дрожащими огоньками свечей.
– Не придут, – сказала Майка.
Таня промолчала, потом отошла от окна и зашептала в темноту:
– Он придет, вот увидишь… Мы сегодня будем целоваться, точно будем, я знаю. Вот глаза закрываю и чувствую, что его губы теплые и сухие. У него на нижней губе ранка, а из нее чуть-чуть сочится кровь, а я так нежно и осторожно языком проведу, а потом прижмусь сильно…
В десять тридцать стало ясно, что гостей не будет. Телефона у Майки не было. Этот фактор был огорчителен, как сейчас, например, но если брать во внимание возможность дурить родителей, то это, несомненно, помогало, иначе они бы звонили и проверяли Таньку на каждом шагу.
Таня стояла в прихожей, раскачиваясь на тонких ногах. Она взяла протянутую подругой свечу и переступила порог. Ее лицо с влажными карими глазами, круглыми, как чашки чая, высветилось в проеме двери. Майя не сразу сообразила, что же в Таньке показалось ей странным и незнакомым. Только наутро, когда нашла очки, поняла, что именно, но было уже поздно.
Виталик прилетел в школу ни свет ни заря и в нетерпении стал поджидать девчонок. Только они могли объяснить происходящее. Вчера вечером, когда началось погодное светопреставление, он остался дома. Свет у них не отключали, и он смотрел хоккей, как вдруг, часов в одиннадцать, позвонили родители Ромки и спросили, дома ли Виталик и не знает ли он, где может быть Роман. После шахмат он не вернулся домой, и они очень волнуются. Виталик, конечно, не стал распространяться о том, что они собирались к девчонкам, и удивился, чего это Ромку понесло туда, уж не влюбился ли он в Таньку. Среди ночи был еще один звонок, но отец ответил, что Виталий спит, и посоветовал Ромкиным родителям прозвонить больницы, может, не дай бог, парень ногу сломал или еще чего, всякое может случиться в такую погоду.
Виталька нафантазировал бог знает что. Ночью ему снилось, что девочки абсолютно голые сидят за одной партой с Романом и не хотят пускать Виталика к себе. Он ругал себя последними словами и ревновал Ромку к обеим сразу.
В учительской было шумно. Несмотря на ранний час, собрались все учителя. В коридоре появились несколько милиционеров, которые тоже прошли в учительскую. Происходило что-то непонятно-тревожное. Виталька решил, что поджидать компанию на улице будет правильнее. Первой появилась Майка. Она сразу, как кошка, зашипела, что даже не хочет с ним говорить, что настоящие мужики плюют на плохую погоду и приходят, если обещали. Из ее слов Виталик понял, что Ромка все-таки пришел к девчонкам, хоть и поздно. Танька тогда уже минут пять как ушла, и он кинулся за ней вдогонку. Вид у него тогда был такой, будто его достали из морозилки. Он шел из центра города пешком и превратился в форменную сосульку, но, если человек любит… Виталик прервал Майкины рассуждения по поводу силы любви вопросом, который возмутил Майку:
– А где же они ночевали?
Майка выпучила на него глаза:
– Что значит где?
Виталик многозначительно усмехнулся и, выдержав паузу, произнес тише, чем обычно:
– Не знаю, не знаю, но Ромка домой не вернулся. Всю ночь его предки названивали. Я, конечно, вас не заложил. Но кто так делает? Могли бы и позвонить, сказать так и так, я бы придумал, что перенсам наплести.
Майкины брови испуганно взлетели, рот открылся и тут же захлопнулся. Ее взгляд остановился где-то далеко, за Виталькиной спиной. Виталик оглянулся и увидел, как по противоположной стороне улицы, легко скользя, спешит Танька. Она помахала ребятам издали и перебежала дорогу.
– Привет, – сказала весело, – Май, а я у тебя вчера очки забыла. Ты принесла?
Майка ответила вопросом:
– А Ромка где?
Таня в замешательстве уставилась на нее:
– Ты чего? Откуда я знаю?
Майка стала наступать на Таню и требовать, чтобы та прекратила придуриваться. Он вчера полгорода протопал и, когда узнал, что она только ушла, бросился за ней следом. Всю ночь Ромку предки ищут, а она не знает, где он…
Танино лицо сначала расплылось в улыбке, а потом застыло в испуге.
– С ним что-то случилось? Как домой не вернулся? А где же он? Вчера мы не встретились. Я через стройку пошла. За мной какой-то мужик побежал. А я оглядываюсь, но очки-то забыла, вижу только, что-то темное шатается и кричит. Что кричит, не разберешь, ветер воет. Пьяный, наверное, страшно, просто ужас. Снег лепит, ничего не видно, ноги скользят. Чувствую, не убегу. Я и решила путь срезать через стройку. Мы ведь ее как свои пять пальцев знаем, сколько лет уж там лазим. Гололед, конечно, но лучше ноги поломать, чем такому попасться. Я мимо котлована проскочила по мостику, а он стоит на нем и орет. Ну мостик, сами знаете, какой, пьяный точно навернется. Я еще отбежала и камень поднимаю, большой такой, булыжник. Кричу ему, если ты, сволочь, хоть еще один шаг сделаешь, убью. А он опять орет и по мостику бежит, за перила хватается. Я этот камень со всей силы как шваркну и, представляете, попала. Он зашатался, за голову схватился и грохнулся прямо в котлован. Там, конечно, невысоко. Думаю, не убился, ну а если убился, туда ему и дорога.
Ребята, выслушав эту душераздирательную историю, все же спросили опять:
– Ну а Роман-то где?
Танька покачала головой.
– Я его не видела, честно…
Его очень скоро нашли лежащим в котловане с разбитой головой. То есть голова просто раскололась от удара об арматуру. То, что вытекло из нее и застыло на льду, очень напоминало вишневое варенье.
Таньку и компанию затаскали по ментовкам. Родители Романа настаивали на суде. Дело проходило как непредумышленное убийство, но Виталькин папа подсуетился, и его закрыли как несчастный случай.
Танька, по мнению окружающих, так и не пришла в себя. Она даже внешне перестала напоминать прежнюю девочку на легких ножках. Стекла на очках становились все толще, голова опустилась, спина согнулась. Целоваться она так и не научилась, ей просто уже не хотелось. Замуж она, конечно, вышла, даже родила двух чудных детей, но поняла точно, что целоваться для этого необязательно.
Война, Любовь и Надежда
Всем девочкам Великой Отечественной,
дожившим и не дожившим до сегодняшних дней,
посвящается.
Еще с вечера прошел слух, что в бухту вошла кефаль. Рыбаки всю ночь жгли керосинки возле сточных ям мясокомбината, где в изобилии водился мохнатый червь, только на него она и шла, и то не всегда. Но Василий был уверен, что на этот раз не упустит удачу, и полночи ворочался от рыбацкого возбуждения, представляя тугую и толстенькую кефальку, бьющую о дно лодки хвостом и судорожно хватающую ртом смертельный для ее существования воздух. Жена Люба, тяжело повернувшись, ругнулась спросонья и приказала лежать смирно, иначе отправит его прямо сейчас на баркас, чтобы он уже наконец успокоился и дал ей спокойно поспать. Вася, скрипнув кроватным железом, встал и пошел попить воды.
Напившись из-под крана, глянул за ширму, где вытянулась на узенькой кроватке голенастая Надька.
«Надо же, – подумал, – здоровая уже, считай, через год-другой невеста, а ноги опять не вымыла. Вон, колени аж коркой покрылись, а пятки-то – ужас, как сажа».
– Рота, подъем! – скомандовал Василий, это у него получилось профессионально – комиссаром прошел Гражданскую, теперь руководил кинофабрикой и в глубине души считал, что в искусстве, которое Ленин назвал важнейшим, самое главное – это порядок и партийная дисциплина. Даже статисты на съемочной площадке вели себя прилично, зная, что у Василия есть именной наган, красные революционные шаровары и орден Красного Знамени.
Женщины вскочили, перепугавшись. Надька сразу схлопотала по шее и поплелась мыться. Люба, посмотрев на часы, в сердцах выругалась. Было четыре утра. Сердце заколотилось, потом провалилось в живот и заныло. В ушах гремел командирский голос мужа. На душе было неспокойно. Спать не хотелось.
Побурчав немного, она поплелась на кухню собирать еду для рыбалки. На баркасе в море должны были выйти трое. Лодку они в складчину с Федей-оператором и Мотей-гримером справили в тот год, что «Кармелюка» снимали. Тогда леса от декорации осталось много, выкупили и сами построили. Назвали красиво: «Апассионария». Это была Мотькина идея. Все вокруг думали, что это про музыку, а уж Люба точно знала, что никакая это не музыка, а баба. Испанкой она была. Погибла, а мальчонку ее, Родригеса, от смерти спасая вместе с сотней таких же, в их город привезли. Уже несколько лет живет он в Мотиной семье, и теперь его Родькой зовут. Хорошенький, сил нет, чернявый, все в кино лезет сниматься. На груди его медальон с маминой фотографией. Красавица, что сказать, вроде как на флаконе духов «Кармен».
Люба, думая о своем, перемыла помидоры, лук и молодой чеснок. Вынула из банки малосольных огурцов, наварила картошки и яиц. Солнце всходило под робкое чириканье воробьев. Начинался воскресный день.
Надька с дворовой ребятней побежала купаться и встречать возвращающиеся с рыбалки лодки, а Люба затеяла стирку. Уже в цинковом корыте намокло пересыпанное щелоком белье и на плите закипала полная выварка кипятку, как на входную дверь обрушился грохот ударов. Люба не разобрала, что кричат, но ноги подкосились, и промелькнула мысль: «Вася утонул». Она распахнула дверь и услышала, как простучали по ступенькам чьи-то каблуки, как ухнуло сквозняком входную дверь подъезда и как в гулком эхе повисло стоном: «Война-а-а».
На лестничную площадку вышел хромой скрипач Миша. Он продолжал держать скрипку между щекой и плечом, но смычок беспомощно повис. За его спиной из открытой квартиры доносился голос диктора: «Сегодня в четыре часа утра немецко-фашистские войска…»
Люба, не дослушав, вытирая о фартук мыльную пену с рук, понеслась вниз с лестницы, а потом через двор, улицу, через рельсы наперерез трамваю, через ограждения и заросли пыльной акации к морю, туда, где муж и дочь, которые еще не знают, еще ничего не знают.
На берегу, возле лебедок и куреней, было людно. Горячий воздух гудел как улей. Весть уже долетела сюда, и люди, в основном женщины, искали детей, всматриваясь в море и стараясь разглядеть на его спокойной глади темные точки рыбацких лодок. Надька увидела мать и, громко стрекоча, налетела, как чайка, которую нечаянно вспугнули. Люба, враз обессилев, опустилась на песок, усадила рядом дочь, и так они просидели до того, как вдали показались темные силуэты лодок, медленно идущих с большим уловом.
Причаливая, мужчины не могли понять, отчего так много народу собралось на берегу. Лиц было не разглядеть – солнце садилось за их спинами, и казалось, уже не люди, а их тени колышутся в предзакатном мареве.
Но рыбу этим вечером все же чистили, мыли, жарили и варили. Это был последний большой улов жаркого лета 41-го года.
Василия призвали на фронт. Проводив мужа, Люба решила пока погодить с эвакуацией. Война еще не докатилась до города, она шла где-то рядом, и даже детям пока было совсем не страшно. Надька со школьными друзьями бегала по крышам и сбрасывала на землю «зажигалки». Мальчишки вместо казаков-разбойников стали играть в войну, которая быстро заканчивалась победой Красной армии, поскольку фашистами быть никто не хотел. Светило солнце. В палисаднике зацвели георгины, а воробьи дружно клевали перезревшую вишню, но уже все чаще докатывался гром канонады. Когда над городом нависла угроза оккупации, поговаривали, что зайдут румыны и это лучше, чем немцы, и что при них вполне можно будет выжить, Вася прислал категоричное письмо семье с приказом срочно эвакуироваться. Еще он пытался втолковать жене, что румынская Сигуранца не простит Наде ее комсомольского прошлого, а Любе мужа – члена партии. Люба подчинилась приказу безоговорочно, как того требовали законы военного времени, но в мирное она бы сделала все наоборот, чтобы лишний раз напомнить красному командиру, кто в доме начальник. Как вольнонаемная, начала работать санитаркой, и в конце лета вместе с окружным военным госпиталем они с Надей покинули город. Их увозили в глубокий тыл на восток.
Войне шел второй, а Наденьке – шестнадцатый год, когда она получила диплом медсестры. В Самарканде их госпиталь объединился с Военно-медицинской академией имени Кирова, и Надюша смогла осваивать азы медицины под руководством тогдашних Пироговых. Академия была эвакуирована из Ленинграда перед самой блокадой и в срочном порядке готовила врачей для фронта. Учебными пособиями были тяжелые ранения, и материала было хоть отбавляй. Когда студенты и профессура, обессилев, сдавались, Наденьке, приходилось, привязав к трупу номерок с именем и фамилией, вносить в медицинскую карту не только причину смерти, но и подробное описание диагноза и лечения. У Надюши был каллиграфический почерк и легкая рука. Лучше нее никто не делал уколов, а уж внутривенные был ее конек. Голубоватые, слабо проступающие на обескровленных телах вены она находила безошибочно и точно вонзала иголочку. Сильные мужики, измученные болью, радовались, когда приходила со шприцем именно Надя. Может быть, потому, что Наденька была просто прелесть как хороша в беленьком халате с передничком, в крахмальной крылатой косынке с красным крестиком посредине. Эту форму прислали американцы, но казалось, что она была скроена по ее стройной фигурке. Надя выпускала из-под косынки пару завитков и становилась похожей на актрису.
Особенно ей нравилось участвовать в финальном обходе, что-то вроде выпускного экзамена. Тогда она чувствовала себя на сцене. Старалась держать спину прямо, подбородок чуть вверх.
Утром выстраивалась колонна. Впереди шел профессор генерал-майор Апрятин, за ним по ранжиру следовали полковники, подполковники, майоры и капитаны, а потом она с белым вафельным полотенчиком. Она всякий раз подавала его генералу после осмотра. Фронтовые врачи держали экзамен на умение быстро поставить диагноз и дать рекомендации по лечению. Вот на одном из таких обходов Надя заметила на себе взгляд Феди Ступова, не то чтобы в первый раз, он давно заигрывал, но кто этого не делал. Надя была самая красивая девочка госпиталя, а может, и не только госпиталя. Когда она, например, ходила с мамой на базар, то старые узбеки, желтые и сморщенные, как их дыни, говорили Любе, что такое лицо, как у Наденьки, надо прятать и до и после свадьбы, чтобы беды не было. Но ничего плохого пока не случилось. Она была девочка серьезная, скромная и кокетничала только со своим отражением в маленьком зеркальце.
Но Федя в этот раз смотрел так, словно ждал от нее помощи. Ей сначала показалось, что он не знает ответа и надеется на подсказку, но он спокойно ответил на вопрос генерала, диагностировав гангренозный процесс в отмороженных пальцах обеих рук молодого лейтенанта. Генерал принял ответ и отдал приказ готовить к ампутации. Ступов попросил разрешения взять в качестве операционной сестры Надю. Она была опытной помощницей, но в этот раз, когда Федя кусачками стал отщипывать один за другим фиолетовые пальцы, ей стало дурно. Заметив оседающую по стене Надю, он выволок ее на воздух.
– Ты чего это, – рассмеялся, – мне ребята говорили, что ты кость пилила, а тут пальцы, и на тебе.
Надя, дрожа, не могла отогнать видение изгибающихся, как червяки, пальцев, ей казалось, что их было гораздо больше, чем положено.
– Всего десяточек, – хохотнул Федя и прижал к себе Надюшу. – Тебе холодно? Идем в ординаторскую, согреемся.
Они сидели вдвоем на дежурстве. Федю завтра отправляли в часть. Тишину самаркандской ночи, черной и холодной, разрывали стоны раненых: «Сестричка, воды…»
Надя вскакивала и убегала. Возвращаясь, она садилась рядом с Федей, и он опять грел ее холодные руки. Он дышал теплом на ее пальчики, легонько целовал, это было так хорошо. Федя рассказывал о родителях, сестре, написал их адрес, чтобы не потеряться. Он смотрел на нее и молчал, осторожно прикасался к волосам, словно боясь обжечься, а потом привлек к себе и поцеловал в губы. Надя задохнулась, закрыла глаза и попыталась высвободиться, но неожиданно для себя обвила его шею руками и навзрыд запричитала, как взрослая:
– Как же я без тебя! Почему завтра? Я буду ждать, вот увидишь…
Федя держал крепко, тычась губами в шею, плечи, но не удержал. Один из раненых, страшно матерясь, орал, что помирает. Федя разомкнул объятья. Надя бросилась на крик. Раненый хрипел, бредил и терял сознание. Видимо, открылось внутреннее кровотечение и начался перитонит. Надя позвала дежурного врача. С Федей они договорились утром встретиться, а сейчас ему лучше было уйти, чтобы не попасться на глаза командиру. Дежурство заканчивалось в шесть. В семь тридцать Федя должен был прибыть к пункту отправления. Всю ночь она провела возле больного. Операция не помогла, ближе к утру он умер. Нужно было, как всегда, привязать табличку к ноге, заполнить бумаги, снести в морг, и только после этого можно было подумать о том, что в шкафу висит платье, сшитое из парашютного шелка. Из рваного немецкого парашюта получилось два платья. Одно для себя, другое для мамы. Свое она подкрасила красным стрептоцидом, и получилось ярко и нарядно.
Надюша, держа в руках туфли из боязни потерять прохудившиеся подметки, бежала босиком, стараясь не думать, что опоздала, что уже не увидит Федора, что надо было прямо из госпиталя. Но платье… Так хотелось, чтобы он увидел и запомнил ее красивой.
Когда Надя добежала до конторы, машина уже почти скрылась из виду. Она без сил осела в пыль посреди дороги, глядя на дымящую вдали точку. Платье надулось и опало, как парашют. И ее саму словно сдули. Она сидела, плавясь под солнцем, потеряв надежду проститься, но уже вынашивая новую. Это была надежда опять встретить Федю и опять целоваться и даже, может быть, выйти за него замуж. В голове крутилось одно: «Только бы его не убили, только бы вернулся, только бы кончилась поскорей война».
Но война продолжалась. Пришел 43-й и принес Любе и Наде плохие вести о Васе. Нет, не похоронку – как павший в бою он не числился, – просто пропал, пропал бесследно. Если он в плену, думала Люба, то обязательно выживет, а то еще, может, сбежит, как от батьки Махно когда-то. Он тогда своих охранников переагитировал. Еще Люба верила, что Васька верткий, что пуля его не догонит, что от врага он уйдет живой и невредимый.
– Господи, да чем же этот немец поганый сильнее, – уговаривала она саму себя, – мой Василий, считай, уже двадцать лет как воюет, то там, то тут. А сколько раз его ранило, сколько он испытаний прошел голодом и холодом! Нет, если в плену и жив, обязательно вернется.
Вскоре произошел перелом, и война медленно и тяжело покатилась на запад. С востока началась реэвакуация, и Кировская медицинская академия должна была вернуться в Ленинград.
Наденька рвалась туда, хотела учиться дальше, стать врачом. Люба была против, но решила, что без Василия лучше жить там, где паек и работа. Тем более что Люба давно приметила, как подполковник Шахов, талантливый хирург, черноусый красавец и шутник, засматривается на Надьку. Он овдовел еще в начале войны. Его жена была на сносях, когда разбомбили эшелон. Не доехала, значит, к нему, погибла вместе с ребеночком. С тех пор он пить начал, себя не жалел и других. Злой был, угрюмый. А теперь вот, как Надежду приметил, подобрел. Говорит, не отпущу, научу всему, а война кончится – пусть решает. У него в Ленинграде до войны была квартира большая в центре. А пятнадцать годков разницы, так оно бабе всегда в плюс. За ним будет как за каменной стеной. Только вот вбила себе в голову – Федя жених. Дело большое, целовались, так что ж теперь, ждать его, что ли. Ничего, кончится война, заживем хорошо, вот тогда и будет время подумать про женихов, а сейчас нечего.
Завтра эшелон под белыми флагами с красными крестами должен был начать свой долгий путь на запад, увозя из Самарканда госпиталь и ленинградскую Академию.
Госпитальная кухня перед прощальным ужином напоминала кладбище черепах. Особенным любителем черепахового супа был генерал Апрятин, он всегда посмеивался над Надькой и, закладывая салфеточку за воротник, обращался к ней с неизменной фразой:
– Отведайте деликатесного супчику, сестричка. Поверьте, такого даже в дорогих ресторанах Парижа не подают.
Она, зажмурившись, съедала, но знала точно: если бы не голод, то ни за что в жизни. У них в школе до войны был кружок юннатов. Надя в него записалась и взяла шефство над маленькой черепашкой. Подопечную свою она очень полюбила и стала читать все, что могло помочь правильно растить рептилию. Теперь сказывались последствия изучения и обычная брезгливость. Самаркандские черепахи были большие, всегда грязные и отвратительно пахли.
Надя уже собиралась встать из-за стола и пойти собирать личные вещи, как вдруг подполковник Шахов попросил передать ему гитару. Все с удивлением затихли. Капитан Гаврилов перестал играть и протянул ее через стол. Все знали, что Шахов не прикасался к инструменту со дня смерти жены. Гитара, простонав, легла в его руки легко и свободно. Он провел рукой по крутому изгибу гитарного бедра, легко нащупал колки. Пальцы, щекоча, пробежались по струнам, и она, как истосковавшаяся женщина, бурно и несдержанно ответила. Шахов пел, не отводя глаз от Нади. Она краснела, глупо улыбалась и мечтала поскорее уйти. Потом еще долго в ее голове крутились мелодия романса и хорошо знакомые с детства строчки: «Я встретил вас, и все былое…» Только теперь это каким-то образом имело отношение к ней, и как себя вести, она не знала. От Феди после долгого молчания пришло коротенькое письмо-поздравление с Новым 1944 годом, но не ей, а всему госпиталю. Там, правда, был особый привет медсестре Наде Ярцевой с пожеланием здоровья и счастья, и все, но Надя умудрилась между строк прочесть большее и продолжала считать Федю своим женихом.
Путь в Ленинград был долгим, мучительным, а Надя вдобавок еще и простудилась.
Здание ленинградской Академии было частично разрушено, и предстояло много работы по восстановлению. Всюду сновали разжиревшие на трупах крысы. Они уже давно перестали бояться живых людей, просто забыли об их существовании. Каждое ночное дежурство оборачивалось для Наденьки кошмаром. Раненые звали сестру, а она, сидя на столе, не могла двинуться, глядя, как под ногами колышется черный поток крысиной стаи. Обычно на крики прибегал кто-нибудь из охраны, но однажды, расстреляв всю обойму, к столу прорвался Шахов. Он снял дрожащую девочку со стола и на руках перенес через кроваво-липкое месиво. Ей было плохо, она почти потеряла сознание. Он отнес ее в ординаторскую, положил на диван. Она горела, лоб был мокрый, а на щеках проступили красные пятна. Надя закашлялась, в последнее время она часто покашливала, а тут вдруг на подушке, в которую она уткнулась носом, осталось пятнышко крови. Доктор Шахов нахмурился и приложил фонендоскоп к ее спине. Все, что он услышал в глубине ее щупленькой грудной клетки и предположил в процессе исследования, подтвердилось. У Нади нашли открытый туберкулез, и речь уже шла не о работе и учебе на врача, а о том, что надо отправляться на юг к солнцу, серьезно лечиться и надеяться только на то, что организм молодой и может справиться с болезнью.
Шахов неожиданно и как-то в спешке сделал предложение. Надя отказала. Незадолго до этого она получила, наконец, ответ на десяток своих писем Федору, в котором он написал, что, как кончится война, поедет в Ленинград доучиваться на хирурга. Она уже даже не очень помнила, как Федя выглядит, просила прислать фотографию. Шахова теперь избегала, но он все равно казался ей красивым и очень хорошим. Даже после отказа он с ней шутил, подкармливал сахарком из пайка и даже однажды принес виноград и бутылку кагора. Сказал, что это лекарство для самого красивого пациента. Он прописал еще морской воздух и солнце и помог организовать срочный отъезд Наденьки и Любы в родной город.
Люба резко постарела за последний год. О Василии ничего не было слышно, теперь и жизнь дочери висела на волоске, но согревало душу предчувствие конца войны. Ей было жаль Шахова. В день их отъезда на нем лица не было. Полюбил он Надюшу сильно, а она оказалась верной слову.
– И откуда на нашу голову этот Федька взялся с его поцелуем?
Когда Люба пыталась поговорить с Надей о Шахове, дочь всегда резко обрывала:
– Мама, сколько можно повторять, я же обещала Феде, что ждать его буду. Как же я могу обмануть!
– Ох, девка, – вздыхала Люба, – не пожалей.
Весть о Победе застала их по пути в родной город. Поезд остановился в степи. Люди посыпались из вагонов, крича, смеясь и плача. Военные палили в воздух, гудел паровозный гудок. Надя подпрыгивала и кружилась. Чьи-то руки оторвали ее от земли и подкинули высоко. Она, хохоча, взлетела в небо. Раскинув руки, как крылья, она вдруг почувствовала, что теперь уже не умрет от какой-то глупой болезни, что больше не будет вокруг смертей, что вернется Федя, найдется отец и заживут они счастливо. А как же иначе, ведь больше не будет войны.
Война давно прошла, но счастье не наступило, по крайней мере для Любы и Надюши. Главной бедой стала судьба пропавшего без вести отца. Прошло много времени, пока прояснилось, что Васю, полуживого, освободили из плена поляки. Он, умирая от истощения, долго добирался к своим. Там его, выжившего в немецком плену, осудили как предателя и отправили в сибирский лагерь, в котором в конце концов застрелили при попытке к бегству. Люба чуть не тронулась умом, когда узнала, что ее муж, неуловимый и дерзкий комиссар, легенда Гражданской и Финской, орденоносец и коммунист Василий Ярцев, погиб не от вражеской пули, а был расстрелян своими. Надя держалась и старалась хоть как-то утешить мать, но вскоре и ее настигла потеря, правда, не такая серьезная, но это – как посмотреть. Федя через несколько месяцев после окончания войны прислал письмо, в котором сообщил, что просит его не ждать и не писать родителям письма, так как собирается жениться на другой женщине – его боевом товарище, которая прошла с ним рядом последние годы войны, и теперь они ждут ребенка. Надя рыдала, а Люба, жалея доченьку, думала только об одном: скорее бы вылечить, на ноги поставить, а там за Шахова выдать… Но Люба еще не знала, что полковник Дмитрий Сергеевич Шахов после их отъезда запил. Потом вроде завязал, но опять сорвался и в момент белой горячки вскрыл себе вены. Спасти его не удалось.
Почти до конца шестидесятых Любовь и Надежда Ярцевы жили вдвоем. Мать и дочь, вдова и невеста – таких, как они, было много. Постепенно жизнь взяла свое. Надя выздоровела, округлилась и повзрослела. Долго не выходила замуж. Только к сорока наконец сошлась с каким-то «отставником», но прожила с ним недолго. Люба считала его контуженым и всячески способствовала разводу. Свою личную жизнь она тоже не устроила. Состарилась быстро, надорвала здоровье, работая за двоих все той же санитаркой в больнице. Ноги отекали, из бугристых синих вен сочилась жидкость. Еле ходила, а в ночные дежурства даже не думала прилечь. Больные детишки ее обожали, а она их. А вот своих внуков Господь не дал. Надюша горевала, что бездетная, но вокруг нее тоже детей было хоть отбавляй. Она на детского доктора выучилась и целыми днями то в поликлинике, то на вызовах – ветрянки, ангины, коклюши. А по ночам им с мамой часто снилась война, но не такая, как в кино и книгах, и не та, что обездолила. Это была война их молодости. В ней остались их красота, их мужчины и нерожденные дети. Все осталось там, кроме них самих – Любви и Надежды.
Слоеный пирог
Светлой памяти моей бабушки Евдокии
посвящается.
Первое тепло втянуло в себя еще не настоявшиеся запахи лета. Заклубившаяся по придорожью трава, густо присыпанная лепестками отцветающих вишен, заправила воздух пряной горечью, начисто вытеснив прокисший дух отсыревшей земли. После майских ливней все вокруг набухло и сочилось, как слоеный ягодный пирог, который баба Вера пекла по большим праздникам. Сегодня как раз был такой день – день рождения внука Сережи. Мальчику перевалило за тридцать. Он защитил кандидатскую диссертацию по прикладной математике и принялся за докторскую. До последнего времени жениться не спешил, был домоседом, сластеной и книголюбом. Вера Егоровна гордилась внуком, одобряла его холостяцкий образ жизни и не разделяла страхов дочери Антонины, что Сереженька засиделся.
– Дело большое, – цедила она сквозь зубы в ответ на истеричные всплески Тониных стенаний. – Успеет еще, чай, не девка, чтобы с годами в цене падал.
Тесто для пирога замешивалось как-то неохотно – липло к рукам, собиралось в комок, и баба Вера знала, что это неспроста.
– И что это за имя такое – Майя? – бурчала она под нос. – Все равно что Марта… Ведь не русское же. И фотографию не показал, небось, носатая и очкастая…
Все это имело отношение к девушке, которая должна была прийти сегодня вечером в их дом, сесть с ними за стол, есть этот самый пирог и знакомиться с мамой и бабушкой Сергея. Ясно для чего – невеста. Об этом внук уже объявил, и на ее памяти она – первая, кого он решил привести на смотрины.
Тоня суетилась возле стола и в сотый раз перекладывала с места на место тарелки. Красный халат, голова в бигудях и тяжелый второй подбородок делали ее похожей на генерала Кутузова, склонившегося над картой военных действий. Не хватало только черной повязки на глазу, но свирепо-сосредоточенное выражение ее лица компенсировало эту недостачу.
– Мама! – рявкнула басом Тоня, тряся в воздухе ножом. – А где вилочки для рыбы? Ты куда их засунула? В ящике нет, в коробке тоже.
Вера криво усмехнулась и посоветовала дочке вспомнить, когда и кому из соседей она их одалживала.
– Опять ты за свое! Да не брала их Белла! Чуть что – сразу она. Между прочим, когда Белла что и одалживает, так всегда возвращает чистеньким, отмытым, отглаженным, не то что эти Курдюковы. После них противно вещь в руки взять, а ты им даешь. А вот когда Белла приходит, так ты – морду ящиком. Думаешь, я не знаю почему? А просто для тебя фамилия Курдюковы гораздо приятнее, чем фамилия Мильштейн. Мне надоели твои мерзкие штучки – щупаешь, проверяешь, зудишь, что Белла все подменила. И про ее еврейскую хитрость уже слышать не могу. Помнишь, как ты серебряную ложку в мусорное ведро уронила, а Беллу воровкой обозвала? А потом, вместо того чтобы извиниться, вспомнила про Исход. На смех курам! Что ты несла, забыла? Евреи, мол, одолжили у египтян на три дня золотую и серебряную посуду, а потом с этими тарелками сбежали. И по пустыне сорок лет ходили, лишь бы награбленное не возвращать. Как тебе не стыдно? И при чем тут Белла? Ты, мать, эти дела брось. Чтоб ты знала: у Сережкиной невесты дядя в Израиле, и родители ее туда собираются. Может, и молодые вырвутся, если поженятся. Ты глаза-то открой. Посмотри, что вокруг делается.
Баба Вера насупилась и ничего не ответила. Ей и правда уже давно не нравилось все, что происходило в стране. Война не война, а продуктов опять не хватает. Теперь в магазинах и с мукой перебои, и масло – польское, ничем не пахнет, и куры, что ли, нестись перестали. А этот – в телевизоре, на танке стоял, руками махал, а вокруг толпа кричала: «Яйцы! Яйцы!» Это ей тогда так послышалось, а оказалось, что народ кричал: «Ельцин! Ельцин!» Вот и докричались… Лучше бы яиц потребовали. Теперь вот даже на пирог не хватает. Искромсали на кусочки большую страну. И что хорошего? Где живем – сами не знаем. Только все равно – незачем уезжать. Стыдно ведь! За колбасой, что ли? За ней можно и в столицу съездить, ближе будет. Ишь, чего удумал внучок! Уедут они, как же. Пока жива – не дам. Костьми лягу. Да, ничего не скажешь, хороша невесточка. Гнать ее надо, поганой метлой гнать….
Пирог не удался. Кислые мысли и камень на душе отняли у теста легкость, а у начинки сладость, а может, во всем был виноват продуктовый дефицит.
Баба Вера косилась на девушку и не понимала, что мог Сережка в ней найти. Худая, чернявая, только нос торчит. А характер, сразу видать – не сахар: брови густые сводит, губы поджимает. Ох, намается с такой девкой, держись. Но аппетит хороший – во как пирог уплетает. Небось ее бабка такой не делает. Сейчас спрошу…
– Майя, может, тебе добавочки? – как можно равнодушнее предложила Вера. – Наверное, твоя бабуля пирогов не печет?
Майя чуть не подавилась, поймав на себе змеиный взгляд старушки. Она отложила кусок пирога и, не отводя глаз, негромко, но жестко ответила:
– Не печет. Во время войны ее саму в печь отправили. Сначала в газовую камеру, а потом в печь. Вам должно быть знакомо слово «Холокост», если нет, то я вам расскажу историю моей семьи.
Ее смуглое тонкое лицо пошло красными пятнами, глаза заблестели, и баба Вера тяжело встала из-за стола и, шаркая, пошла на кухню. По дороге она успела проворчать, что нечего тут пугать Холокостами – сами все видели и лучше вашего знаем, что и как.
Антонина выбежала за ней следом и прикрыла за собой дверь на кухню. Оттуда была слышна невнятная словесная перепалка на повышенных тонах.
Сергей пытался удержать Майю, которая рвалась к двери и твердила, что ни минуты не останется в их доме. Он схватил ее в охапку, рискуя получить зонтиком по голове, и крепко встряхнул.
– Майка, ты с ума сошла? Из-за чего?! Она же ничего такого не сказала! Ну, брось! Бабка вредная, но добрая, вот увидишь…
– Ты заметил, как она меня глазами сверлила? Понимаешь, я кожей чувствую, что она меня уже ненавидит. Пойдем, пожалуйста. Я перед мамой твоей извинюсь, она хорошая, но не могу я, пойми, а то расплачусь…
Они стояли, обнявшись, у Майкиного дома. Разлипаться не хотелось. Вечернее небо густело и наливалось темнотой. На его фоне профиль девушки, казалось, был вырезан из белого картона. Майя окаменела, смотря куда-то вдаль или, наоборот, в глубь себя. Сергей любовался ею и все старался как-то растормошить. Ничего интереснее не придумав, просто осторожненько подул в ухо.
– Вся белая, а уши красные. Горят, значит, кто-то о тебе вспоминает.
Майя повернула лицо, и он увидел горящие угольки глаз. Вот куда надо было дуть. Слезы, которые в них проступили, казалось, сейчас закипят.
– Сереженька, ты ведь не передумаешь, правда? Я боюсь, что ты не сможешь просто наплевать на своих бабку и маму.
– Ну, во-первых, между ними единства взглядов не наблюдается. Мама – это одно, а бабуля – совсем другое. Как я сказал, так и будет. Через три месяца свадьба, а потом – радостные проводы молодой семьи на Землю обетованную. А потом – суп с котом. Приедут обе как миленькие, что им тут без меня делать? Кстати, у нашей бабули в Израиле подруга детства живет. Ее, кажется, Раей зовут. Мать рассказывала, что были они неразлейвода, но потом та уехала, а бабка наша из вредности ни на одно письмо не ответила. Ей даже посылки оттуда приходили, а она их отсылала назад.
– Вот видишь! А ты говоришь: «Приедет как миленькая». Да твоя бабулька, наверное, и на свадьбу-то не придет. А я так мечтала понравиться. У меня комплекс семейной недостаточности. Все говорят, что я очень похожа на свою бабушку Голду. У нас была большая семья – бабушкины сестры, их мужья, дети, – всех уничтожили, кроме мамы моей – самой маленькой в семье – и дяди Иосифа, который ушел на фронт. Бабушка Голда, когда фашисты за ними пришли, просто накрыла свою маленькую дочь с головой одеялом и приказала молчать. Девочка слышала крики, автоматные очереди, но молчала. Она была очень послушной, и это ее спасло, никто не заметил ее под одеялом. Мама совсем не помнит, как оказалась в детдоме, помнит только, что долго куда-то бежала. Ей в детдоме хотели дать другие имя и фамилию, а она не могла возразить, поскольку онемела от шока, но когда к ней вернулась речь, то гордо заявила: «Я – Манечка Левина». Это спасло ее во второй раз, иначе вернувшийся с фронта дядя Иосиф не смог бы ее найти. А хочешь, я тебе бабушку покажу? Ее фотография с Иосифом всю войну прошла, а теперь с ним в Израиль уехала, но он попросил знакомого художника написать портрет Голды. Все, кто его видит, спрашивают, чего это я так чудно одета. Меня Майей назвали в честь Победы, а хотели Голдой.
– Нет, Майя лучше.
– Что лучше? Вот видишь – и ты туда же, главное, чтобы скрыть, чтобы не выпячивать, вроде физического недостатка. А если бы меня, к примеру, Марфой хотели назвать, тебе бы понравилось?