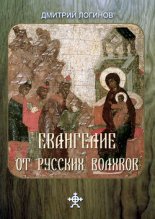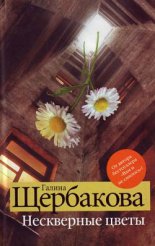Порою блажь великая Кизи Кен

Внезапно Ли оборвал сам себя. Он вдруг заметил, что она даже не слушает его — а может, и прежде не слушала! — но лишь глядит в темноту будто в неком трансе, — в чем дело? Ему и впрямь что-то нужно? Ох, эта собака (Молли открыла пасть, чтоб залаять, но язык прилип к нёбу, и она снова сорвалась со скалы); больше не лает — совсем не слушает! Не слышала ни единого слова! Разгневанный и униженный, он отдернул руку от ее шеи. Он-то думал, что она ободряет его, позволяя его пальцам так далеко проникнуть под ворот ее рубашки… и лишь затем, чтобы выставить его в дураках!
Испуганная резкостью его движения, Вив вопрошающе обернулась. Старый Генри как раз вернулся в круг света.
— Слушайте! Молли, собака эта, заметили? Уж давно не слышу ее голоса. — Не вполне доверяя собственным ушам, он помолчал, давая и им прислушаться. (В лунном свете над скалой показались черные блестящие глаза медведя: он смотрел на собаку с недоумением, чуть ли не с сожалением. Едва не до паники сжигаемая жаждой, она бросилась обратно по гребню, к памятному ей ручью.) Убедившись в том, что они не слышат ничего, чего бы не слышал он сам, Генри умудренным глазом посмотрел вниз по склону и определил: — Тот медведь, он или удрал от нее, или задрал, одно из двух. — Извлек из кармана часы, поднес к свету костра, сделал вид, что разбирает диспозицию стрелок. — Что ж, вы как хотите, а я так думаю — тема закрыта. Я не собираюсь сидеть здесь и слушать, как всякие дерьмоеды травят маленькую лисичку. Да и по-любому, похоже, они ее почитай что взяли. Пойду-ка я, пожалуй, домой. А вы, детишки, еще посидите, наверно?
— Да, мы еще останемся, — ответил Ли за обоих и добавил: — Дождемся Хэнка с Джо Беном.
— Ну, валяйте. — Он подхватил свою клюку. — Но сейчас небось они уж изрядно отсюда отмахали. Доброй ночи. — И он истаял во тьме, прямой и зыбкий, будто призрак старого дерева, блуждающий по полуночному лесу в поисках своего пня.
Наблюдая исход Генри, Ли нервно теребил свои очки — отлично! Теперь уж можно говорить открыто, без этих киношных шпионских глупостей. Теперь можно просто поговорить… Боже, Генри ушел, теперь мне придется говорить! — и он ждал, пока не затихнут шаги старика.
…Молли то сбегала, то скатывалась с гребня. К тому времени, как она отыскала ручей, ее шкура курилась, язык плавился — ЖАРКО ЖАРКО ЛУНА ЖАРКО а та штука, прицепившаяся к задней лапе, теперь стала большой, как сама лапа. Больше. Больше, чем все ее горящее тело. — Как только топот и ругань старика скрылись в ночной тиши холмов, Вив снова обернулась к Ли, все с той же испуганной непонимающей гримасой, ожидая объяснений его агрессивному отступлению. И уж тем более — объяснений его ласкам. Лицо его непреклонно. Он бросил теребить очки, вытащил прутик из костра и теперь дует на горящий кончик. Его лицо. Пламенеющий уголек скрыт в чашечке его ладоней, но все равно… всякий раз, когда он дует, черты его озаряются, будто изнутри, пламенем куда жарче жалкой искорки на конце веточки… Словно что-то горит внутри, рвется наружу, горит, так отчаянно стремится на свободу.
— Что такое? — Она касается его руки. Он коротко, горько смеется, швыряет прутик обратно в костер.
— Ничего. Прости. За то, как я вел себя. Забудь, что я наговорил. Порой у меня случаются подобные припадки безудержной правдивости. Но, как говаривала Леди Макбет: «Припадки эти коротки» [52]. И не тревожься обо мне. В том не твоя вина.
— Да в чем не моя вина? Ли, что ты пытался мне сказать, пока Генри не ушел? Я не понимаю…
Он оборачивается на ее вопрос, взирает на нее с веселым удивлением, улыбается собственным мыслям.
— Разумеется. О чем же я думал. Конечно, это не твоя вина. (И все же, в свете того, как потом обернулось дело, вина ее была огромна…) Он нежно касается ее щеки, ее шеи, где покоились его пальцы, словно в подтверждение чему-то… — Ты ведь не знала. Да и откуда тебе знать? (…хотя в тот момент я этого не мог и предположить.)
— Не знала чего? — Она понимает, стоило бы разозлиться на него за его слова и за… за другие вещи… Но этот чудовищный испепеляющий голод в его глазах! — Ли, объясни, пожалуйста… — Ничего не объясняй! Оставь меня. Я не могу быть чьим-то Чем-то! — В чем ты начал признаваться?
Ли подошел, сел у костра… Тело Молли рухнуло в до треска холодную воду. Она попыталась напиться, но ее опять вырвало. Наконец она растянулась на животе, оставив над поверхностью лишь глаза и жадно раздувающиеся ноздри. ЖАРКО ЖАРКО ХОЛОДНО холодная луна ЛУНЫ ЖАРКАЯ ЖАРКАЯ ЖАРКАЯ… Он уселся на мешок, лицом к ней, и обеими руками сжал ее ладонь:
— Я постараюсь объяснить, Вив. Мне нужно кому-то объяснить! — Он говорил медленно, следя за ее лицом. — Когда я жил здесь, в детстве, я считал Хэнка самым большим человеком на свете. Мне казалось, он все знает, все может, и что ему принадлежит все в этом лесорубном и лесосплавном мире… кроме одной вещи, которую я считал сугубо своей. Что это за вещь — не так уж важно… считай, что абстракция, вроде чувства собственной значимости, самоуважения. Важно лишь, что она была нужна мне, как всякому ребенку нужно что-то всецело свое, собственное, и мне казалось, что оно у меня есть, навсегда, и никто никогда у меня это не отнимет… а потом мне показалось, что он отнял это у меня. Следишь за моей мыслью?
Он дождался ее понимающего кивка — теперь его глаза мягче, нежнее, теперь они подобны его рукам; но этот жар никуда не исчез — и продолжил.
— И я постарался вернуть себе это — мою… вещь. Ибо мне она была нужна больше, чем ему, Вив. Но выяснилось… даже когда я вновь ее обрел… что мне с ним не тягаться. Она уже никогда не была снова моей, не была всецело моей. Потому что я не мог… никогда не мог занять его место. Понимаешь? Я был слишком мал, чтоб заполнить его место. — Он отпустил ее руку, снял очки, двумя пальцами помассировал переносицу (в своей неудаче с Выходом на Чистоту в тот вечер я, разумеется, обвинил Хэнка…), и долго сидел молча, прежде чем повел речь дальше, (…хотя ныне знаю, что ее вина не меньше, чем брата, или чем моя, или чем вина еще с полудюжины главных персонажей драмы, живых и мертвых. Но в то время я был не способен на подобные болезненные откровения, а потому быстренько обвинил в своих промашках на пути к Братской Любви того самого брата, к которому шел с любовью, своего брата и аллейную-желейную-жестяную луну с ее пошлой магией…) — А то, что меня не хватало для заполнения его места, лишило меня бытия. Я хотел быть кем-то, Вив, и мне виделся лишь один способ это осуществить…
— Почему ты мне это рассказываешь, Ли? — вдруг спросила Вив, голосом испуганным, немногим громче ветерка, колыхавшего сухие цветы за ее спиной. Ее голос доносился будто из огромной пустой пещеры. Ей вспомнилось о порожнем бремени, что росло в ней, когда она хотела подарить Хэнку живого ребенка. Память накатила тошнотой. — Он чего-то хочет от меня. Он не знает, что у меня осталась только пустота сгинувшего — И зачем ты мне это рассказываешь?
Он снова посмотрел на нее, не надевая очки. Он был готов поведать ей о том, как одна только жажда мщения подвигла его вернуться домой; как он намеревался сделать Вив орудием этого мщения; как он осознал ошибочность своих устремлений, ибо все больше привязывался к ним ко всем… но сейчас этот вопрос припер его к стенке: Зачем он ей это рассказывает? С какой стати хоть кому-то об этом рассказывать? Разве что… — Не знаю, Вив. Просто хотелось с кем-то поговорить… (И не то чтоб она была хоть чуточку враждебна — разумеется, нет, — но укор крылся в том, как она отбросила челку с лица, в мягкости горла, в отсветах костра на скулах…)
— Но, Ли, мы ведь едва знакомы. Есть же Хэнк, Джо Бен…
— Вив, мне нужна была ты, а не Хэнк и не Джо Бен. Я не могу… слушай, я не мог рассказать им то, что могу сказать…
Что-то зашевелилось в темноте. Ли замолк, на миг обрадовавшись возможности отвлечься. Снизу, от сухого ручья донеслось приглушенное «Хей-оу!» — и радость сменилась разочарованием.
— Черт. Это Джо Бен. Они возвращаются. — Он отчаянно размышлял. — Вив, послушай. Давай встретимся завтра. И, пожалуйста, никому не рассказывай: не надо! Давай поговорим завтра как-нибудь наедине.
— О чем это ты?
— Эй! Я ведь уже получил твое приглашение, если помнишь. Копать ракушки?
— Каменных устриц. Но я ведь пошутила.
— А я сейчас не шучу. Встретимся… где? У мола, так мы договаривались?
— Но зачем, Ли? Ты так и не сказал мне, зачем.
— Затем. Мне нужно с кем-то поговорить. С тобой. Пожалуйста…
Она надела задорно-кокетливую маску:
— Ой, сударь, как можно-с? Дама в моем положении — и…
— Вив! Прошу тебя… Ты нужна мне! — Его рука развернула Вив к нему, настойчиво стиснула ее запястье. Но сейчас ее внимание было приковано не к его пальцам, и даже не к глазам, вцепившимся в нее той же мертвой хваткой, но взгляд ее устремился сквозь эти пальцы, сквозь эти глаза, туда, где… она видела суровые судороги его потребности Быть, видела неимоверные, конвульсивные усилия раскрыться, распрямиться, провозгласить: «Вот он Я!» — Вив, пожалуйста? — подобные потугам чахлого больного цветка, что слишком долго прозябал в бутоне и теперь торопится разверзнуть куцые лепесточки, пока не зашло последнее солнце его надежды. И видя это, она чувствует его отчаянную цветочную тягу к воздуху, воде и свету, кои дарованы ей, и также чувствует, как его порыв вдруг начинает заполнять ледяной пузырь в глубине ее самой. …Может быть… Может Быть! Может быть, пустота — не могила сгинувшего, а ларец не дарованного? — Вив, скорее… ты придешь? — Вот он я, умоляет распускающийся цветок, и она уже готова была полететь навстречу его мольбе, как за спиной послышался хруст хвороста и крик Хэнка:
— А вот и мы! С украшением на антенну! — и вместо этого она полетела к мужу и заключила его в объятия, вместе с окровавленным лисьим хвостом и всем прочим.
— Хэнк! Наконец-то вернулся.
— Да, вернулся. Только легче, легче: я, чай, не месяц гулял.
А Ли остался, коленопреклоненный пред костром, прятать свое разочарование в возне с кофе. Кусая щеки, сквозь пелену в глазах он смотрел на женщину, так легко бросившую его ради могучего охотника. (Тупая корова! И глупо было ждать от нее понимания хоть чего-то, помимо специфики приветственного мычания при возвращении буйвола в стадо) — и он ругал дым, от которого так горели глаза. (И все же, если подбить общий итог, следует признать, что я провел весьма интересный вечер с весьма интересными результатами. Во-первых, пока старик шамкал и шмыгал, а Хэнк с Джо Беном и собаками гоняли зверушек по болотам, мы с Вив крайне мило потрепались и посеяли семена отношений, обреченные принести мне в будущем весьма вкусные плоды. Во-вторых, воодушевление охотой сподвигло братца Хэнка в тот вечер напиться еще больше — до такой степени, что он уже не сумел сдерживать свою подлую натуру, которую прятал с самого моего приезда (к тому же, думаю, он видел, как мы с Вив ворковали у костра в чересчур интимной, на его вкус, обстановке). Впервые он пытался спровоцировать меня на кулачную драку; когда же я отказался потворствовать его низменным страстям, он обозвал меня «рохлей» и другими обидными словами, и тем самым вывел из моего сентиментально-сомнамбулического благодушия и после бесконечных проволочек вернул на путь мести, показав тщетность попыток замирения. И наконец, что главное, детально продуманная мною схема Сбрасывания Бремени с Сердца оказалась в точности тем планом, что был мне нужен. Он удовлетворял всем требованиям: был достаточно безопасен, чтоб остался доволен Надежа-Опора — БЕРЕГИСЬ ВСЕГДА; сулил достаточно верный и быстрый успех, чтобы моему измотанному работой организму хватило терпения на те несколько недель, что требовались для исполнения плана; достаточно злодейский, чтобы умилостивить всякую мою попранную память и умаслить всякую яростную манию; и достаточно научный, чтобы создать заклинание, способное обратить гиганта в гукающего младенца… и наоборот.)
Вив слишком поздно поняла, насколько преувеличенным было ее приветственное ликование, и посмотрела на Хэнка: не заподозрил ли чего? — Хотя и подозревать-то нечего; Ли ведь только говорил, да и то какие-то глупости; а я едва слышала его, — Хэнк осмотрелся, озадаченно нахмурился:
— Я думал, старик здесь, — заметил он, глядя на нее чуть нервно.
— Генри ушел с минуту назад, — сказала Вив.
— Из собак почти никто еще не вернулся, — сообщил Хэнк и подошел к костру погреть руки. — Еще одну лису подняли, судя по звуку. Но я решил сперва поглядеть, как тут, прежде чем еще какими делами заняться. Старушка Молли не появлялась?
— Хэнку не нравится, что она смолкла так рано, — мрачно объяснил Джо Бен.
— Мы ее не видели, — сказал Ли, — но Генри пришел к заключению, что или медведь отпугнул ее, или же потерялся.
— Чепуху болтает Генри. Не родился тот зверь, который бы Молли напугал. И вряд ли она потеряет такой свежий след. Меня поэтому и беспокоит, как резко она замолчала. Будь какая другая псина — я б и в голову не брал. Но Молли — не такого теста собачара, чтоб затихнуть без причины, пока до зверя не доберется… так или иначе.
Зашуршала трава.
— Дядька и Доллина Щенька вернулись, — объявил Джо, когда две собаки виновато подкрались к костру, точно преступники, отдающие себя на милость правосудия. — Вшивая-паршивая лисичка! — ругал их Джо, уперев руки в бока. — Гоняли жалкую, ничтожную лисичку… Почему с медведем не подсобили? Ась?
Дядька проковылял в хижину, а Щенька завалилась на спину, будто на предъявленном публике брюхе были записаны исчерпывающие показания.
— Что будешь делать? — спросила Вив.
— Кому-то из нас придется пойти ее поискать, — без энтузиазма ответил Хэнк. Прибывали все новые гончие. — А вы берите собак, кроме Дядьки, и ступайте домой. Дядьку я возьму на поводок и прогуляюсь с ним к горам.
— Нет! — выпалила Вив, вцепившись в его руку. Все посмотрели на нее с удивлением. — Ну, ты прошляешься всю ночь. А она тем временем благополучно вернется. Так пошли лучше сразу домой.
— Что?..
Они стоят, наполненные мерцанием костра. Ветерок колышет траву. А Ли съеживается от ненависти к ней, от ненависти к ним ко всем.
— Пошли… Прошу тебя.
— Я ее поишу, — вызвался Джо Бен. — Я еще бодренький, а Джен все равно спит. Черт, да я в момент эту псину найду!
Хэнк был настроен менее оптимистично:
— Последний раз ее лай шел с востока, от ручья Стэмпера. Ты точно хочешь туда идти один?
— Ты так говоришь, словно я боюсь привидений каких-нибудь.
— Разве нет?
— Господи, нет. Пошли, Дядька. Мы им покажем, кто боится, а кто не боится.
Хэнк ухмыльнулся:
— Прямо сейчас? Темно… страшно… и помни, какой сегодня день… последний в октябре, Хэллоуин…
— Фу! Мы ее найдем. А ты ступай домой.
Хэнк собирался еще как-нибудь поддразнить кузена, но его остановили ногти Вив, впившиеся в руку.
— Ладно уж, — нехотя согласился он, и подмигнул Джо: — Не знаю, почему так, но стоит этой женщине только лишь унюхать алкоголь, как она спешит устроить праздник…
Джо взял из рюкзака сэндвич и кружку.
— О да! — Он кивнул на ночь, обступавшую костер. — И откуда нам знать, что впечатлительный субъект найдет в лесу в рассветный час дня Хэллоуина! Да что угодно.
Но когда остальные ушли, его энтузиазм быстро остыл.
— Темно, Дядька, правда? — пожаловался он псу, привязанному к колышку у хижины. — Ладно, ты готов? — Собака не ответила, и Джо решил пропустить еще чашечку горелого кофе, посидеть у костра с дымящейся жестяной кружкой в руке. — И тихо…
И то, и другое было неправдой. Луна, действуя умело и проворно, отыскала лазейку меж туч, озарив лес инистым сиянием, а ночные зверушки, будто почуяв свой последний шанс в этом году, закатили концерт, сообразный событию. Древесные жабы в полный вокал пели прощальные песни перед тем, как зарыться в укромную грязь; землеройки шныряли по тропинкам, пронзительно попискивая от запоздалого голода; зуйки порывисто переносились с лужайки на лужайку, и в их чистых, радостных криках «Ди! Ди! Ди!» звенел заразительный восторг по поводу этой прекрасной морозной ночи.
Но Джо Бен не заразился; несмотря на свою давешнюю показную храбрость перед Хэнком, его временем был день, хоть ясный, хоть ненастный. А ночью лес, может, и красив, да откуда человеку про то знать, когда темно?
И так он откладывал поиски пропавшей собаки от одной чашки кофе до другой. И не то чтобы он боялся ночного леса — не родился еще такой зверь во всей северной глухомани, с которым бы Джо Бен не сошелся без колебаний, с голыми руками и незыблемой верой в победу, что днем, что ночью. Нет, но так или иначе, оставшись один в ночи, имея в перспективе прогулку к ручью Стэмпера, он невольно начал думать об отце…
Прошло немало времени, прежде чем Молли попыталась подняться на мелководье. Пожар в задних лапах поутих. А боль притупилась в холоде. И ей уже почти приятно лежать в воде. Но она знает, что если не пойдет домой сейчас — не соберется уже никогда. Поначалу она то и дело падает. Но потом снова начинает чувствовать конечности и не падает больше. По пути она спугивает опоссума. Зверек шипит и перекатывается на бок, подергиваясь. Она проходит мимо него, даже не обнюхав…
Потому что Джо уверен: если в этом мире в принципе водятся привидения, то призрак Бена Стэмпера точно бродит по лесам сейчас. И не важно, во плоти тот призрак или нет — Джо никогда не боялся телесной составляющей отца, даже когда тот был жив. Бен никогда даже не грозил отпрыску физическим насилием. Может, и зря: угрозы насилия можно избежать, попросту оказавшись вне его досягаемости… Но опасность, от которой бежал Джо, крылась в некой темной метке, что виделась ему в отцовском лице — будто штамп со сроком возврата на библиотечной книге, — и пока Джо носил то же лицо, он ощущал на себе печать того же клейма; чтобы отделаться от этого фамильного Стэмперского Штампа, пришлось изменить лицо до неузнаваемости.
— Ладно, Дядька, не скули. Еще чашечку — и мы пойдем поглядим. — Так не будет ли печальна участь его сейчас, в таком мраке, что и лица-то не видно, и не разобрать его перемены?
… Она доходит до того бревна, что давеча так легко перемахнула; ныне она с трудом перетаскивает через него свинцом налившееся тело. ХОЛОДНО. Холодная маленькая луна. Холодная, и жаркая, и далекая…
Джо обрезал подходящую смолистую сосновую палку, ткнул ею в костер. Когда она ярко занялась, отвязал пса и пошел по следу, откидываясь назад против рывков Дядьки. Но эти сосновые деревяшки в жизни ведут себя совсем не как в фильмах, где толпа селян штурмует лес, в погоне за каким-нибудь монстром, который дотоле застиг свою первую жертву без факела и отщипнул ей голову, как виноградину! Через десять минут Джо вернулся, чтобы вновь запалить факел…
Твердая, холодная и маленькая, как камушек. Можно просто лечь. На мягкий мох. Уснуть. Нет…
На сей раз он привязал поводок Дядьки к своему ремню и прихватил два факела, по одному в каждую руку. И этого хватило на двадцать минут.
Или под деревом, на подстилке из хвои. Сил нет, холодно, все горит. Уснуть, спать долго-долго… Нет…
В третий раз Джо с Дядькой дошли аж до русла пересохшего ручья. Луна финтила так и сяк, норовя сделать выпад из-за облаков. Рапира ее света пронзила древесный полог и кольнула землеройку, что рвала в клочья жабу вдвое себя крупнее; подсветила софитом эту сцену, словно то был гвоздь ночной программы. Дядька при виде этого зрелища рванул так, что Джо выронил оба своих факела. Их свет с шипением истаял в глубине влажных папоротников… полежать в сосновой хвое, долго, от души поспать, и никогда больше не будет ни холода, ни ЖАРА. Нет… И воцарилась чернота. Вив в доме плачет с ужасным и необъяснимым облегчением, силясь понять, что произошло между Хэнком и Ли внизу. Хэнк на кухне сердито курит, прихлебывая пиво. Ли стоит у окна в своей комнате, смотрит на реку. «Где ты, луна? Где ты, со всей своей сусально-миндальной волшебной требухой? Хотелось бы с тобой потолковать, если не возражаешь…»
— Дядька! Отче! Иисусе! — Джо Бен стоял, окаменевший, пока Дядька пожирал обоих — и землеройку, и жабу. Джо попробовал прибегнуть к Писанию: — «Да будешь ты светом в моей лампаде», — но не подействовало. Не могло подействовать, когда там что-то есть! что-то есть там всегда — огромное, черное, готовое тебя утащить…и ЛУНА не будет больше палить, и ХОЛОДА не станет, и не будут волочиться непомерно тяжелые задние лапы. Нет… Нет! Вив прекращает плач и решительно оборачивается: ей послышался за спиной, прямо в ее комнате, издевательский черноврановый хохот. Но там лишь опустелая клетка. Старый Генри в своей постели отмахивается от призрака с ножом за голенищем, юного, шустрого и дважды неуловимого, ибо он шныряет-ныряет туда-сюда в море лет, прячется то в прошлом, то в грядущем, где Генри даже не видит этого продувного сукина сына! А Ли находит шарлатанскую луну, что по-овечьи забилась в проредевшие кусты облаков: я плюнул на нее презрительной хулой — вот, получи за все свои сердечки, и цветочки, и балаган с зарытьем топора войны! А вот — за пузырек с Запатентованным Алисой Стимулятором Гипофиза, что ты меня заставила обманом проглотить со сливками. Все это — ярмарочное шутовство и надувательство знахарское, что лишь усугубляет состоянье пациента!
Дядька, застоявшись на месте, принялся поскуливать, и Джо пнул его в зад, призывая заткнуться. Луна мигала, появляясь, исчезая вновь, подавала знаки; ей отвечали молчаливые зарницы над горами на востоке. Дядька снова заскулил.
— Заткнись, собачий сын! Мы оба попали в переплет. Он там! — ТЯЖКО… тяжко… ХОЛОДНО… холодно… сил нет… хвойная постель… легко… не будет больше холода… Нет! Да… отдохни… И Джо стоял, вслушиваясь в свой страх перед сапожной поступью человека, который ни за что не сумеет пройти по лесу тихо — «Но он не пойдет за мной, дьявол; он понимает; он ждет, чтобы я пришел за ним!» — а слышал лишь ветер в инистом ольховнике. Ли отвернулся от окна, наплевав на луну с ее зельем: я решил снова прибегнуть к старому-доброму Сизаму или его аналогам. Может, верное волшебное слово найти труднее, чем верное волшебное печенье, но согласись, луна: жиры и углеводы, может, и дают прибавку в весе, и способны подсластить мне жизнь, но не умеют наделять стальными бицепсами в мгновенье ока. Мне ж от волшебства потребно могущество, никак не плюшечное брюшко. И в молнии могущества неизмеримо больше, чем в твоем миндальном пирожном.
Молнии насыщали воздух легким звоном и привкусом медных монеток. Джо сглотнул этот привкус и вытянул шею, прислушиваясь к звону.
— Дядька! Ты слышишь? Только что — слышал? — …тяжко тяжко холодно легко да ЧТО? да просто отдохни… слышишь ЧТО?
И снова по склону холма прокатился этот звук — тонкий, пронзительный свист, в конце вздымавшийся резко, точно кривое лезвие садового ножа.
— Это же Хэнк в хижине! — воскликнул Джо. — Идем к нему. Дядька, идем! — Торжествуя, они потрусили на свист обратно по тропинке, словно дорогу их вдруг залил свет прожекторов… да ЧТО? Молли приподнимает морду над передними лапами, поворачивает голову на СВИСТ Хэнка. ЧТО? Воздух вокруг густо пропитан МЕДВЕДЕМ, но запах не сейчас. Это запах там, где МЕДВЕДЬ в первый раз расположился на ОТДЫХ. Прямо здесь. И она его подняла. СВИСТ опять прорезает темноту, достигает ее ушей. ЧТО? ОН? Она поднимается, опираясь на передние лапы и здоровую заднюю, ИДТИ, снова ОН ДА… ИДТИ. А Ли раскрывает блокнот, скатывает три маленькие самокрутки: «Дорогой Питерс…»; а Вив не понимает, не понимает…
Когда Джо Бен подошел к костру, Хэнк сидел на мешке с утками-манками и курил.
— Вот уж не чаял в такую ночь услышать твой свист! — беспечно окликнул его Джо. — Я-то думал, ты давно дрыхнешь. О да. Я бы так и поступил. Уж на ходу носом клюю…
— Никаких следов Молли? — Хэнк, не отрываясь, смотрел на уголья.
— Ни единого клочочка шерсти. А я уж прочесал все вокруг ручья Стэмпера вдоль и поперек, — он глубоко вдохнул, переводя дыхание — а то Хэнк догадается, что весь обратный путь до костра Джо проделал бегом. Привязал Дядьку к хижине, следя за Хэнком, уставившимся в костер… Поинтересовался: — А твои-то косточки что гложет?
Хэнк откинулся назад, стиснув колено пальцами. Поморщился от дыма собственной сигареты.
— А… мы с Малышом вроде как поцапались.
— Ой, нет — с чего бы? — с упреком спросил Джо — и тут припомнил, как поспешно при их появлении отпрянули друг от друга Вив и Ли. Уточнил: — Это из-за…
— Да неважно, из-за чего. Дерьмо. Дурацкий, пустяшный спор о музыке. Но дело-то не в нем.
— Скверно, очень скверно. Знаешь? Вы ведь с ним так хорошо поладили. После первого дня я сказал себе: «Возможно, мы ошиблись». Но потом лед тронулся, и все притерлись друг к другу, и…
— Нет, — сказал Хэнк костру. — Не так уж мы с ним и поладили. Не всерьез. Только что не дрались…
— И сейчас не подрались, надеюсь? — спросил Джо, опасаясь, что пропустил интересное. — В смысле, зубодробительство, скуловоротство, ногомашество, пухо-перье-выдирание?
Хэнк продолжал смотреть на разгоравшийся костер.
— Нет, никакого пуха, никаких перьев. Просто наорали друг на друга. — Он распрямился и сплюнул сигарету в огонь. — Но, черт возьми, думается, тут и есть та самая кость, которая у нас у обоих в глотке застряла. Может, именно поэтому мы толком никогда и не могли поладить…
— Да? — Джо Бен зевнул, подбираясь поближе к костру. — И что же?
Снова зевнул: день вымотал его, а ночь доконала окончательно.
— Что мы не дрались. Он не станет драться, и я знаю это, и он знает. Может, потому мы с ним — что вода с маслом.
— Это он на Востоке пожил и трусом стал. — Глаза Джо закрылись, но Хэнк, казалось, не заметил.
— Нет, он не трус. Иначе б не приехал туда, где, неровен час, ему зубы повышибают. Нет. Дело не в том, что он трус… даже если он сам себя трусом считает. Он достаточно большой, он знает, что ему не оторвут голову, даже если сумеют надрать задницу. Я видел, как в школе он мутузил пацанов вдвое себя мельче, детишек, которые не могли его вздуть… Но даже когда он знает, что его не вздуют, он ведет себе так, будто и сам победить тоже не сможет.
— Верно, все верно… — Джо заклевал носом.
— Он ведет себя так… будто у него нет никаких причин, вообще никаких причин драться.
— Так может, и нет?
— Ну если уж у Ли нет, — Хэнк прищурился, глядя в костер, — тогда ни у кого нету!
Трава зашуршала, и Дядька заворчал. Что-то выползло на край пятна света. Хэнк вскочил. УСТАЛА устала холодно но ОН! Кажется, будто у собаки два хвоста, а к распухшему, огромному тазу можно было б приторочить и еще пару.
— Иисусе! Ее змеюка тяпнула!
Она пытается огрызнуться, когда ее подбирают. Она не помнит, кто они такие. Они теперь — часть всего этого кошмара. Как и ЛУНА, и ОГОНЬ, и БРЕВНО, и МЕДВЕДЬ, и ЖАРКИЙ ХОЛОДНЫЙ МРАК ее лихорадочного смятения, часть того самого большого ВРАГА, как сделались его частью и ВОДА, и ОТДЫХ, и даже СОН…
Уже поздно. Задушевно тикают большие часы в виде фигуры лошади. Телевещание прекратилось, и отец Индианки Дженни сидит, пялится в пустой экран, пульсирующий серо-голубым бельмом на стеклянном глазу. Постепенно в этом глазу обрывочной чередой проступают хаотичные воспоминания и мифы. Кружатся, трещат сосновым костром, что горит шесть десятков лет. Они занимают места по своему усмотрению, наползают друг на друга, точно прозрачные годы, вырезанные из целлулоидного календарика. «Давным-давно», — вещает известковый глаз, и все льнут, чтобы послушать…
Генри судорожно переругивается с юной тенью из прошлого. Ли завороженно чиркает спичкой. Молли вне себя взвизгивает в чьих-то заботливых руках. Рэй и Род в снятом на пару номере отеля «Ваконда» ругаются из-за убытков, понесенных за время, что музыканты работают на Тедди. Рэй принялся было насвистывать гитарное вступление к «Алмазу земному» Хэнка Томпсона [53], но он слишком сонный, сердитый, да еще эти венские сосиски, что Род поджарил на ужин, ведут себя в желудке совершенно непристойно, — где тут попасть в тон? Рэй резко обрывает свист, комкает ворох бумаг, которые изучал, и швыряет в корзину.
— Нахуй! Нахуй это все!
— Легче, приятель! Это все забастовка. — Род пытается утешить друга. — Смирись, приятель. Покуда эта херова забастовка не кончится и у народа не заведутся лишние бабки, нам, наверно, лучше перекантоваться в Юрике, поднять мал-мало баксов на автостоянке у твоего братца. Что скажешь?
Рэй пялится на обшарпанный футляр гитары, торчащий из-под его кровати. Наконец поднимает руки, рассматривает.
— Не знаю, приятель, — говорит он. — Будем смотреть правде в глаза: мы не молодеем, ни ты, ни я. И порой мне сдается… да пошло все нахуй!
Хэнк кладет бесчувственную собаку в лодку у причала перед старым домом, распрямляется.
— Сделай милость, отвези ее к ветеринару, очень прошу…
От удивления Джо вдруг разом просыпается:
— Что? В смысле, ладно, но…
— Я хочу проверить дамбу перед сном.
— Опять? Да ты ее до смерти запроверяешь!
— Нет. Просто… эти тучи меня тревожат.
— Ну… ладно. — И, оставив Хэнка на причале, Джо ведет лодку по темной реке, и лицо его прорезается хмурой усмешкой, будто шрам поверх шрамов… Его тоже что-то тревожит — нечто посущественнее туч, только он не знает, что.
Старый Генри ворочается в своей скрипучей кровати, общается с давно почившими красотками, а его искусственные зубы выглядывают из стакана с водой в изголовье. Вив обнимает в темноте подушку, недоумевая, почему он не идет в постель — к ней! сейчас! немедля! — и вспоминает, как из ночи в ночь лежала одна в постели, полной кукол, — «Глянь на небо в вышине…», — когда родители уезжали на своем пикапе продавать товар в Денвер или Колорадо-Спрингс, и была темная комната, полная кукольных ушей, внимавших каждой строчке — «Сойка в золотом окне…». Джо взбирается по ступенькам, он почти спит и видит сны. Джен ждет его — комок в комнате, полной комковатых спальных мешков; в своей фланелевой ночной сорочке она слишком скромна, чтоб соблазнить и самый унылый из снов. Хэнк стоит на причале, нервно потирает ладони о бедра, плотно стиснув губы. Ли, вполне бодрый, восседает на кровати, сбросив ботинки, снова прикуривает сигаретку, изучает долгий выплеск своей писанины…
Я бы извинился, что не писал столь долго, не будь я уверен, что куда больше любых извинений тебя порадует затейливая предыстория сего послания: я как раз вернулся к себе в комнату после суровой стычки с братцем Хэнком (припоминаешь? Думаю, ты уже свел знакомство с его фантомным двойником в кофейне Деревни), и я решил, что будет только справедливо утешить свои нервные окончания дымом косяка. Трава была в целости и сохранности, где я ее припрятал, — в коробочке из-под кольдкрема из того бритвенного набора, что подарила мне Мона. Но где проклятые бумажки? Даже дети знают, что трава без штакета — одно лишь недоразуменье! Как пиво без открывашки. Как опиум без трубки. По самой меньшей мере, девять десятых нашей термосианской жизни — суть вакуум, что запечатан серебристым плавленым песком. Но несмотря на всю искусственность такого бытия, мы все ж способны временами вырываться, отрываться и наслаждаться малой толикой пустоголовой свободы. Так ведь, друже? Я хочу сказать, что даже самый правильный, морально стойкий, социально безопасный твердолобый жлоб хоть раз за жизнь, да напивается до вышибанья пробки и наслаждается разгулом своего безумства. И то — лишь с пошлого какого-то бухла. Так как же может праздник полной банки ганджи быть омрачен отсутствием штакета?
Я весь горел, я весь ревел негодованьем. И уж подумывал над тем, чтобы скрутить косяк из глянцевой журнальной шкуры. Но — случилось озаренье: мой бумажник! Ужель не положил туда я пачку пусть потертых, пусть обветшалых, но штакетин — в ту ночь, когда мы удолбались в смерть у Джейн и на троих сложили свой шедевр бессмертный детской классики, поэму «Ёбльберри Кур»? Я опрометью ринулся к штанам — и вот он мой бумажник. Ах! Ах да! На месте три бумажки, и там же рукопись поэмы — «Вот петух за клушкой мчится. Вот он топчет эту птицу. В грязь вдавил и кинул палку — до чего же птичку жалко!» А это еще что за листочек спорхнул на пол, точно умирающий мотылек? А это клочок салфетки для очков, измазанный губной помадой, и на нем записан телефон рабочий Питерса! Вздохнул я, преисполнившись воспоминаньями. Дружище Питерс, старина… я снова окунулся в наше беззаботное школярское житье. Хмм, уж верно, не повредит душе моей измученной общенье с ним. И надо б черкануть ему хоть пару строк.
И вот я их черкаю (и хорошо б, кабы эта шариковая дрянь прекратила свой саботаж!), с намерением выдуть три косяка, скрученных мною. Три? — слышу я твой ропот. — Три косяка? На одного? И целых три?
Да, целых три, спокойно отвечаю я. Ибо на первый я заработал право в сей нелегкий день, второй — желаю, а в третьем, бог свидетель, я нуждаюсь! Первый — всего лишь плата за хорошее поведение и тяжкий труд. Второй — для удовольствия. А третий — как напоминанье мне, чтоб никогда и никогда и никогда не вздумал вновь поддаться каким-либо иллюзиям касательно своей родни. Перефразируя изречение У.К. Филдса [54], «Как может кто-либо, любящий собак и маленьких детей, быть хоть сколько-нибудь приличным человеком?»
А для начала, подорвав косяк под номером один, я, сколь сумею, вкратце изложу свою историю. Променяв юдоль разума на мир мышц, я обречен был понести урон и там, и там. Физически я был приговорен к проклятой каторге, по десять трудовых часов, по шесть свинцовых дней в неделю, и мое тело подвергалось таким садистским экзерсисам, как: ходьба, бег, спотыканье, копошенье, и паденье, и вставанье, и дальше — волоченье ржавого железного троса, с которым посоперничать в упрямстве может лишь гиппопотамское бревно, которое я должен тросом обмотать. И мои косточки хрустели и трещали, я ноги в кровь сбивал о твердокаменные корни, когда спасался от бревна, влекомого тросом. И я стоял, едва дыша и дух теряя, изранен терниями, съеден комарами, обожжен крапивой и палящим солнцем, света белого не видя и пользуясь короткой передышкой, пока тот трос тащил бревно за сотню ярдов, а потом, шипя и проклиная все, стремился в новый бой (что-то из Данте, не находишь?) Но дело не ограничивалось физическими страданиями — в этой земле, куда я приехал, чтоб дать рассудку роздых, возросли мильонно мои мысленные муки! (Пардон за скверную аллитерацию и прости мне небольшую паузу: я прикуриваю по новой амм-амм-пфф-пфф свой косяк… и едем дальше!)
Дорогой товарищ, смысл всей этой витиеватой преамбулы сводится к тому, что я попросту был слишком загружен, чтоб оторвать свою ленивую задницу, напрячь свой ленивый ум и отплатить любезностью в ответ на твое чудесное письмо, осиявшее эти доисторические земли. Кроме того, рискуя быть честным, я как никогда оказался подвержен пращам и стрелам яростного самокопания… куда больше, чем даже месяц назад. (Что сказал Пирсон по поводу наших апартаментов? В прошлом письме ты ни словом об этом не обмолвился.) А причины парадоксальны до смешного: видишь ли, по прошествии этих кошмарных недель в доме, который я пришел сровнять с землей, живя с этими троллями, которых я вознамерился истребить, я подхватил недуг, от которого считал себя абсолютно привитым; меня сразило Благодушие в тяжелой форме, осложненное Любовью и Злокачественным Состраданием. Ты смеешься? Ты хихикаешь в свою щегольскую бородку, дивясь, что я так низко уронил свою защиту, чтоб самому пасть жертвой подобного вируса? Что ж, если так, мне остается лишь указать на соседнюю дверь и молвить мстительно: «Ну ладно, друг мой ерник! Поживи недельки три под крышею одной с сей девой — и поглядим, как сохранится твой иммунитет!»
Ибо, думаю, то именно она, эта девчонка, дикая лесная орхидея моего заклятого братца, остановила мою карающую десницу и до сей поры удерживала мой гнев на весу. Три недели вычеркнуты из моего замысла. Потому что, ты должен понять, именно в ней я видел уязвимую пяту моего ахиллоподобного братца, и она же была единственным в доме созданием, которому я не решался навредить. А поскольку и брат был необычайно любезен со мной, ситуация сложилась патовая. Я не мог возненавидеть его в достаточной мере, дабы пустить побег симпатии к этой девочке. Дилемма-проблема. До этой ночи.
И с этого места, Питерс, ты уже должен разгадать сюжет, даже если б начал чтение романа где-то так с сотой страницы. И даже если до тебя не дошли первые четыре главы, вот краткое изложение предыдущих серий: Скорбный Лиланд Стэнфорд Стэмпер возвращается домой с намерением подвергнуть своего старшего сводного брата не вполне ясной, но ужасной каре за то, что тот тискал мамочку юного Лиланда. Но вопреки своему замечательному намерению, он постепенно размякает симпатией к своему сводному демону: в начале данной серии мы застаем Лиланда пьяного в хлам и до беспамятства, после того как он весь вечер сосал означенную симпатию. Дело плохо. Кажется, парень совсем скис. Но, как ты увидишь, нечаянное происшествие, почти что чудо, приводит нашего героя в чувство. И во славу этого чуда я сейчас воскурю второй косяк на алтаре Великого Ганжа.
Мы как раз вернулись из небольшого набега на леса и решили подзакусить останками чудесного ужина Вив. И на исходе ночи я таял, опошлялся все больше и как-то разговорился с братцем по пьяни — слово за слово: начали со школьных воспоминаний, дошли до моей учебы — «А что именно ты изучал?» — затем до окончания учебы — «И как ты собираешься зарабатывать этим на жизнь?» — говорили о том о сем и в конце концов добрели до беседы о музыке, Питерс, о музыке! Сказать по правде, я не помню, как мы скатились на эту тему — алкоголь, утомление и трава подзатупили кромку моей памяти, — но, кажется, мы дискутировали (дискутировали, прошу заметить: мы уже нашли точки соприкосновения для дискуссии — неблизкий путь за три недели, от молчаливого строительства планов лютой мести) — дискутировали о достоинствах жития на милом, но захолустном Западном Побережье в сравнении с просвещенным, но гнилым Побережьем Восточным. И я, отстаивая честь Востока, заметил, что хотя бы в одном Запад уступает Востоку безнадежно: в возможности послушать качественную музыку. Хэнк же отнюдь не желал признать что-либо подобное… послушай:
«Не надо ля-ля! — сказал он в своей изысканной манере. — Ты что, сам цифирки рисуешь на шкале? То, что ты считаешь хорошей музыкой, по мне, возможно… ну, в смысле, не все метки, наверное, на наших линейках совпадают. Что ты имеешь в виду под „качественной музыкой“?»
Я пребывал в филантропическом расположении духа и потому ради поддержания диспута согласился сойтись с ним на честном ринге. Припомнив древние, безжалостно угарные ритм-н-блюзы Джо Тёрнера и Фэтса Домино [55], которыми Хэнк, бывало, насиловал ночи моего детства, я предложил говорить только о джазе. И надлежащим образом похмыкав, и помекав, и повиляв, мы пришли к тому, к чему неизбежно приходят поклонники джаза в своих спорах: извлекли на свет божий свои пластинки. Хэнк принялся обшаривать свои шкафы и коробки. Я же притащил из комнаты наверху свой чемоданчик с самым вкусным. Но, опять же, мы с Хэнком весьма скоро поняли. что даже по признании джаза Хорошей Музыкой, меж нами пропасть в суждении о том, что есть Хороший Джаз.
(Они сидели долго, в разных углах комнаты, склонивши головы, локти на коленях… сосредоточенные, как шахматисты, и обменивались музыкальными ходами. Ли поставил сборник Брубека; Хэнк врубил Джо Уильямса, «Красные паруса на закате»; Ли ответил Фредом Катцем [56]; Хэнк парировал Фэтсом Домино…)
«Вся эта твоя чихня, — сказал Хэнк, — звучит так, как будто музыканты присели поссать на корточки. Лю-ли-лю-ли-ля-ли!»
«А твоя чихня, — сказал я, — звучит так, будто у музыкантов пляска святого Витта. Бам-бум-бам-бум. Марш эпилептиков…»
(— Погоди-погоди, — сказал Хэнк, наставив палец на Ли. — Зачем, по-твоему, эти парни учатся лабать на своих дудках? Зачем учатся петь? А? Не просто же затем, чтоб показать, как они классно перебирают пальчиками. Или как круто и затейливо выводят всякие рифы, блюзовые квадраты, переборы всякого рода… стаккаты-легаты там. Да-ду-ди-да-да-да, ду-ду-ди-да-да — ну и все такое дерьмо. Малой, вся эта мутотень, может, и не по-детски пропрет какого-нибудь белого пианиста, который сам закончил консерваторию и для него это навроде как кроссворд разгадывать, но парень, который сам учится дудеть, чтоб дудеть джаз, — ему вообще пофиг, какую оценку ему влепит какой-нибудь томный профессор!
— Да ты только послушай его, Вив! — хмыкнул Ли. — Братец Хэнк извлекает кролика из шляпы: надо же, он умеет рассуждать о чем-то еще, помимо цен за кубометр еловой древесины или же плачевного состояния мотора нашей лебедки, или же «сукинсынского» профсоюза! Вопреки гнусным слухам, он прирожденный оратор!
Хэнк склонил голову и ухмыльнулся.
— Да иди ты! — он потер кончик носа костяшкой большого пальца. — Это я чё-то как на трибуну взгромоздился, да уж, но ежели по существу, мне есть, что сказать. Так уж вышло, что если меня что по-настоящему и цепляет — кроме сукинсынского профсоюза, конечно, — так это музыка. Было время, мы — я, да Мел Соренсен, да Хендерсон, да вся шайка-лейка… и Джо Бен тоже, покуда совсем уж на всю голову спасение не обрел, — мы часами тусовались в мотоциклетной лавке Харви в Куз-Бее и слушали записи из его великой коллекции… и видел бы ты нас тогда! Нам казалось, будто Джо Тёрнер спустился прямо с небес, чтоб показать нам, почем фунт света. Нам казалось, что наконец-то кто-то играет НАШУ музыку — до того-то мы все вестерн и кантри слушали, а тут, значит, раскололись во вкусах. В смысле, разошлись по сторонам: были фанаты вестерна, были фанаты ритм-н-блюза… и мы махались нешуточно по этой теме. Впрочем, мы готовы были драться за что угодно. Как-то я подумал, что мы большей частью были тогда такими психами, потому как япошек и фрицев на нашу долю не обломилось, а что нам еще Корея светит — про то не ведали. А потому и эти самые боповые пластинки за нормальный повод канали. — Хэнк откинул голову на спинку кресла, ностальгично зажмурился и несколько минут изливался воспоминаниями о каких-то позабытых тенорах и барабанщиках, совершенно невосприимчивый к бескостному танцу Джимми Джюффри под иглой радиолы… — Но, может, ты и прав, — сказал он, уложившись как раз к последним тактам Джюффри с пластинки Ли. — Может, я подотстал малость от моды. Но одно знаю: в старых блюзах, буги и бопах — в них было что-то реальное, мужское).
И Хэнк сказал: «В этом дерьме, что они тут пилят, яиц не больше, чем ритма. А все, что без яиц, мне не по кайфу».
А я: «Подобный предрассудок сулит тебе суровые ограничения в жизни».
А он: «Мы ругаться будем?»
А я: «Думаю, тебе следовало бы исключить из своей категорической декларации хотя бы такие штуки, как прекрасный пол».
А он: «Думаю, эта штучка, что притулилась у меня под бочком, посчитает подобную оговорку категорически нафиг лишней, но если ты намерен занудствовать…»
Но я великодушно отмахнулся (смотри: я все еще пытаюсь быть доброжелательным. Хорошим Парнем) и сказал: «Да ладно, Хэнк, не обижайся». А потом, мой друг, — суди сам, сколь пагубным был мой недуг, как глубоко укоренились метастазы, — я докатился до того, что взялся залатать прореху в нашей новой нежной дружбе, что прободел неосторожный мой язык. То была лишь шутка, брат мой, молвил я, и уж, конечно, мне понятно, что сказанное тобою относится только лишь к музыке. Я поведал ему, что на самом деле существуют две признанные школы джаза: черный джаз и белый джаз. И то, что он называет «мужественной» музыкой — это, без сомнений, черный джаз. Я же пока ставил только Брубека, Джюффри и Тьядера [57]. Но вот послушай кое-что из настоящего черного джаза: зацени вот это!
(Ли порылся в своем чемоданчике, нашел искомую пластинку и извлек ее бережно, почти что благоговейно. «Ты так с ней возишься, словно она того гляди взорвется», — прокомментировал Хэнк. «Очень даже может быть… послушай».)
И я поставил — что? Конечно. Джон Колтрейн. «Африка/Медь» [58]. Не помню, чтоб я руководствовался каким-либо злым умыслом, делая подобный выбор, но как знать? Разве всякий раз, ставя Колтрейна перед неофитом, не ждешь подсознательно наихудшего? Как бы то ни было, если таково и было мое истинное чаянье, мое подсознание, вероятно, осталось весьма довольно. Ибо уже через несколько минут этой ультразвуковой саксофонной резни, раздиравшей стены, Хэнк среагировал точно по сценарию:
«Что ж это за дерьмо такое? — (Ярость, обескураженность, великий скрежет зубовный — все классические симптомы.) — Что это за сраная куча навоза?»
«Это? О чем ты? Ведь это джаз, черный, как чернозем, и черные яйца до самой земли…»
«Да, но… погоди…»
«Что, разве не так? Да ты послушай! Или это тоже „ля-ля-ля“?»
«Не знаю, но…»
«Нет, послушай: разве нет?»
«В смысле, что здесь есть яйца? Наверно… да, но я говорю не о…»
(—Итак, брат, тебе придется подыскать другой критерий под свое предубеждение.
— Господи-бож-мой, но ведь это дерьмо слушать невозможно! Йи-онк, онк-ииик. Может, у него и есть яйца, но звук такой, будто кто-то конкретно по ним топчется!
— Именно! Именно! Уж сотни лет топчутся, начиная с работорговцев. Об этом-то он и рассказывает! И без прикрас… но так, как есть! Ужасное, гиблое прозябание существа, обтянутого черной кожей. И мы все окружены этой кожей, и он пытается показать нам некую красоту этого состояния. И если тебя это распалило — так потому, что он честен в своих откровениях, потому что он честно рисует жизнь в черном теле и топтание по яйцам, а не довольствуется вялым скулежом, как всякие Дяди Томы, что были до него.
— Черт, Джо Уильямс, Фэтс Уоллер, Гейллард [59], все эти ребята… они тоже никогда не скулили. Может, ворчали малость, но делали это весело. Они никогда не скулили, черт возьми. И никогда не скатывались на… на… черномазость и топтание по яйцам, не пытались сделать все это красивым ни хрена, потому что это не красиво. Это уродливо, как смертный грех!)
С тем Братец Хэнк захлопнул пасть и сидел молча до конца диска. Я же поглядывал на его булыжно-улыбчивое упрямство сквозь пальцы, которыми прикрыл глаза от света. Позволь припомнить, Питерс! Уж не тогда ли, в том напряженнейшем сеансе, вновь ожило во мне желанье мести? Дай-ка вспомнить… Нет. Нет, ах нет. По-прежнему был кроток я… Ох! А случилось это — нет… да; признавайся! признавайся! — то было сразу после… сразу после Колтрейна, когда Вив задала мне вопрос, в ее глазах невиннейший, маленький такой вопросик для разрядки напряженности. Да, сразу после… «Откуда у тебя эта пластинка, Ли?» — лучшего вопроса эта девочка и придумать не могла. Исключительно для снятия напряженности. Совершенно невинный вопрос с ее стороны. Ибо не будь он таким невинным — неужто б я ответил на него столь беспечно, забыв, где нахожусь? «Мне подарила ее моя мать, Вив. Матушка всегда…»
Я был так рассеян, что и не понял, какую дал промашку, пока Хэнк не усмехнулся: «Ну ясный пень! — Пока он не сказал: Конечно, мог бы и сам допереть — это ж проще пареной репы. Как раз того сорта унылая муть, от которой она так тащилась, верно? Ясный пень, это как раз того сорта сраный навоз, который твоя мамаша всегда…»
Ли бросает писать, резко отрывает лицо от страницы. Стиснув ручку, сидит немало нескончаемых минут с угасшим косяком меж губ. И слушает стук сосновой лапы, что бубном бьется в оконное стекло. Стук этот крадется к его слуху окольными путями. Поначалу Ли не понимает природы этого стука, воспринимает просто как шум, происходящий из ниоткуда. Затем ловит взглядом темное колыхание ветви и сопоставляет с ним звук; убедившись, что это всего лишь сосновая лапа, успокаивается, снова поджигает косяк и склоняется над листом бумаги…
Но лучше поспешить мне с продолженьем, пока еще не слишком поздно, слишком сонно, слишком обдолбанно. Я бы хотел изобразить перед тобой всю сцену, ибо знаю, как ты смакуешь всякие нюансы, коварные полутона, пастель противоборства, но я — ааап, ыыып, уууп — уж слишком притомился, чтоб уделить всем тайным знакам все, их достойное, вниманье.
Ладно, как бы то ни было. Вот я и Хэнк сцепились из-за матери моей. И мое сочное благодушие разбилось в брызги. А в голову проникает хладный и горький свет разума. Перемирие со всей очевидностью окончено. Время снова подумать о битве. Я составляю план, как завладеть искомым оружием, и немедля выдвигаюсь в свой поход…
«Что ж, Хэнк, — я замечаю со смешком, — найдется немало людей, вполне сведущих в музыке, которые поспорят с твоей оценкой современных мастеров джаза. Так может ли статься, что ты немного, скажем так, уперт? узколоб?»
Жертва смаргивает, шокированная дерзостью Младшого Братца. Уж не заболел ли он? «Да… — выдавливает он из себя. — Возможно». Я перебиваю его, наступаю задорно, обхожу с фланга:
«С другой стороны, „узколобый“ — это, пожалуй, незаслуженный эпитет. Его семантическая специфика может оказаться вовсе неадекватна истине. И в любом случае, он неуместен: мы ведь о яйцах толкуем, верно? О яйцах как — для целей диспута — эвфемизме, символизирующем мужественность, силу, крепость духа и очка, и прочее. Что ж, брат, неужто ты считаешь, что если у кого-то есть мозги, чтоб играть чуть сложнее твоего „бам-бам-бам“ — три аккорда, две струны, — так невозможно, чтоб у него были также и яйца? Или же наличие одного исключает возможность другого?»
«Погоди! — Жертва пыхтит, косится исподлобья. — Попридержи коней!» — Наверное, он чует ловушку неким звериным чутьем. Но вот чего ему не дано почувствовать — что ловушка непростая, поставленная на охотника, а не на дичь.
«Давай посмотрим на это по-другому, — напираю я, выдвигая все новые все более каверзные аргументы. — … Или как насчет этого… — давлю я к него. — … Или хотя бы прими во внимание…» — требую я, подкалывая его во все места и нагнетая пар. Но не открыто провоцирую вражду, — бог упаси, чтоб Вив хоть заподозрила, — но, видишь ли, искусно, тонко, с намеками на прошлое, что только Хэнку да Мне самому понятны. И когда я стал подергивать наживку, клиент уж был готов.
«Ты хочешь сказать, что Чемпион Джек Дюпре [60] — чей-то визгливый-паршивый Дядя Том? — негодует он, живо откликаясь на случайно брошенную мною фразу. — И Элвис, по-твоему, тоже? Раз уж об этом речь. Я знаю, что про него болтают, — да не пошли б они! Когда Элвис начинал, у него было кое-что, у него был…»
«Тонзиллит? Рахит?»
«…у него было побольше, чем у этого мудака, который играет тут не то в классики, не то в домино. И дай-ка я его сниму уже! Черт, ты по десять раз каждую сторону прокрутил — теперь моя очередь!»
«Нет!!! Не трогай эту пластинку своими лапами. Я сам сниму».
«Ладно, ладно, только сними!»
И так, изящными финтами, я довел его до красных глаз и сжатых кулаков.
«Хэнк, ну позволь мне ее проиграть. И тогда, может, ты…»
«И тогда я не „может“, а точно сдохну! Эта хрень…» — «Пальцы! Ты всю ее изгваздал!» — «Черт, да я ее толком и не…» — «Я не люблю, когда кто-то лапает мои пластинки!» — «Ё-мое! Что ж, коли ты чего не любишь… — Рычит, встает. Гляньте все: братец Хэнк наконец-то проявился! Точь-в-точь как Лес Гиббонс показал свое истинное нутро. Любуйтесь на братца Хэнка без его фольговой-фальшивой упаковки! Смотри, Вив, как он орет на бедного Ли. Смотри, как он играет мускулами. — …то что, интересно, ты будешь делать?»
Видишь, как несправедливо, Вив? И видишь, как Ли пытается быть милым, а Хэнк все бесится с чего-то? Словно школьный хулиган, гроза малышей: «Да плевать, кто тут прав, а я завсегда в своем праве!» Смотри: он здоровее, круче, смотри на него, Вив, потому как, Малой, если тебе что не нравится — что ты можешь поделать?
А что, Вив, может поделать Ли? Какие у него шансы против этого хищника, клацающего клыками, против этого кабацкого хама, этого морпеха корейской закваски. Вив? Какие шансы? Ни единого шанса на свете — и бедный мальчик это знает. Да, знает, Вив, и понимает, что станет инвалидом, как бы ни ответил он на вызов Хэнка. О, Вив, как сие должно быть ужасно, не правда ли? Для мальчика — сгорая со стыда, терзаться униженьем, проклиная свою трусость. Он знает, что трусишка он — СМОТРИ — но ничего поделать он не может. О, Вив, гляди: он знает! Знает! Боится драться — и осознает свою он робость! И тем куда страшнее боль его, ты понимаешь? Как он жалок! Как презренно (но ты, товарищ, уж вернее, скажешь: «Как лукаво!») он голову склоняет в знак смиренья, в ничтожестве своем он мямлит извиненья, хотя и знает, что был прав!
Но, Вив, воистину, права — одни слова.
Хэнк гордой поступью удаляется, могучий, непобежденный (с крючком в брюхе). Ли стоит побитый, посрамленный (коварный). Вив смотрит (опасливо) на жалкого и сломленного рохлю, дважды ничтожного, ибо сдался без боя. Трус! Слабак! Неудачник! (хитрый лис…).
«Прости, Ли. Хэнк… его порой заносит, когда выпьет. Нужно было мне раньше его спать уложить. Но он казался таким дружелюбным».
«Нет, Вив: он был прав. Он абсолютно прав во всем, что сказал».
«Нет, он не прав!»
«Да. Он был прав и доказал это. Не в смысле музыки. Это не важно. Но в смысле… того, что он сказал».
«О, Ли, но он на самом деле так не думает».
«Думает, не думает — но это ж правда! — Посмотри, Вив, сколь нуждается Ли. Погляди, как он мал против этого мира. — Это правда».
«Нет, Ли. Поверь. Ты не… О, если б кто-то переубедил тебя…»
«Завтра».
«Что?»
«У нас свидание завтра. Если оно, конечно, в силе?»
«Да не было никакого свидания. Я просто…»
«А я так и думал…»
«Ли, ну пожалуйста, не будь таким…»
«А каким я должен быть? Скажи сначала…»
«Ладно. Завтра. — Видишь его лицо, Вив? — Если ты считаешь, что нужно… — Видишь, сколь он нуждается? — Жаль, что я так мало знаю и не понимаю, с чего вы оба…» — Ты многого о нем не знаешь, Вив. Что еще больше умаляет его. Ты не ведаешь всего его стыда, даже представления не имеешь. Стыд душит его.