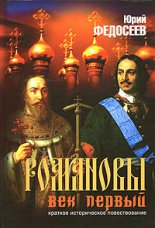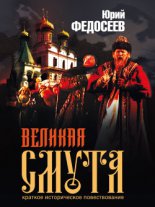Черная талантливая музыка для глухонемых Бычков Андрей

Моцарт приехал в Ялту в конце марта. Весна в том году была ранняя и обещала быть холодной и затяжной. «Кого бы выбрать на роль Сальери?» – печально подумал он.
Женщина мыла пол в гостинице, где он остановился. Спускаясь по ступеням и глядя на ее широкие бедра, на желтую рубашку, которую она выпустила поверх юбки, Моцарт подумал, что нет, наверное, ничего плохого в том, что вода в ведре грязная. Вечером он зазвал женщину к себе в номер. Она много смеялась и все убеждала его, что то, что он принимал за жасмин, и есть жасмин – желтые цветочки на зеленой стеблистой траве, похожей на лук, скрипучий резиновый лук… Ему наскучило, он прервал свои развлечения, заплатил женщине вдвое больше, чем обещал, и остаток ночи предпочел провести один (вторая бутылка «Массандры» была опорожнена лишь на четверть). «Где же мой реквием? – вглядывался он в темный мерцающий кружок на дне стакана. – Завтра я найду своего Сальери и все будет кончено, а реквием… реквиема все нет». В винных парах, поднимающихся со дна, он словно увидел чье-то узкое волчье лицо, мутный с желто-голубой (не зеленой) поволокой взгляд, какой часто наблюдал у одного знакомого директора варьете, и словно услышал его жизнеутверждающее спичечное: «А я сделал сегодня то-то и то-то».
– То-то и то-то, – печально сказал он в стакан в попытке избавиться от наваждения, загнать его вновь в портвейн.
«Чем только и должно оно быть…»
Стакан задрожал, но не упал, не разбился.
– То-то и то-то, – повторил вслух, – а я – ничего. Кончилась пластинка, а я так и не снял иглу. Вот она, моя музыка, – щелчки, щелчки… пустота.
На набережной было прохладно и тихо. Солнце уже садилось, а над предгорьями поднималась луна. Взгляд Моцарта бессознательно скользил вдоль узкой золотистой полосы моря у горизонта, цеплялся за черную продолговатую соринку баржи, падал вниз, за каменный парапет набережной, где дети у самой кромки ленивого моря искали среди камней «куриного бога», натыкался на молоденькую проститутку, присевшую на корточки у барьера, и пробегал дальше, за спины гуляющих по набережной. Он расслышал вдруг голос, говоривший из самой глубины его существа. «Нет времени, а есть только солнце, луна и звезды. И дело не в названии города, где вы встретитесь. А море, оно будет покорно, волны его будут лишь подниматься и опускаться, не выбегая на берег. Я знаю, ты ждешь своей гибели, глядя, как солнце тонет во мгле. Но черная мгла отступит, она опустится в море и вновь обнажит блестящее солнце. И перед ночью будет короткий рассвет. Так начну обучать тебя вновь древнему искусству жизни. Миндальное дерево на холме отдаст тихое и тонкое свое колдовство. Все невидимые нежные запахи мира, они еще для тебя сохранились. Заклинаю тебя твоею любовью. Все до безумия просто в этом мире, только у тебя еще нет ключа, чтобы открыть. А ключ… ключ под замком, как было написано на железной двери…»
– А вам не кажется, что ад мог бы быть и таким?
Моцарт вздрогнул и обернулся. Небольшого роста мужчина в сером легком летнем костюме явно обращался к нему.
– Теперь, после того как вы задали свой вопрос, я, пожалуй, соглашусь с вами, – холодно ответил он, оглядывая заговорившего с ним господина и поражаясь сходству с вчерашним видением.
Тот и впрямь оказался похожим на ночной портрет на дне стакана. Остролицый, серые коротко остриженные по бокам волосы, небольшая сознательно вспушенная челка, придававшая ему, впрочем, вид в достаточной степени добродушный. Глаза его слегка косили, что, однако, совсем не мешало какой-то странной, липкой неподвижности взгляда и даже, напротив, оставляло его постоянную внимательность почти незаметной для собеседника. Небольшое полупрозрачное, желтоватое слегка по краям бельмо, словно медуза, набегало иногда на бездонный зрачок правого глаза. В какой-то момент Моцарту даже показалось, что заговоривший с ним господин засыпает.
– Неплохо, – словно очнувшись от мимолетного сна, сказал тот. – Я давно искал человека, который бы смог так остроумно ответить на сей каверзный вопрос. Я прошу простить меня за бестактность, которую допустил, обращаясь к вам в столь неподобающей форме. Моя фамилия Сальери.
– Моцарт, – ответил Моцарт.
Он еще раз оглядел господина и заметил, что тот слегка выпивши.
– Рад познакомиться, поверьте, весьма рад, – протянул руку Сальери.
Моцарт пожал.
– Я еще раз прошу простить меня за назойливость, – Сальери сделал усилие, чтобы не покачнуться, – но… но не хотите ли выпить?
– Выпить? – рассмеялся Моцарт. – Да-да, именно выпить побольше и чистого, чтобы сразу и наверняка.
– У меня, к сожалению, не спирт, а…
– Яд, – сказал Моцарт.
– Я не понимаю вас, – пожал плечами Сальери. – Я… я…
– Да нет, – вздохнул Моцарт. – Мы прекрасно понимаем друг друга. Ведь это я вас, а не вы меня нашли.
– Неужели? – как-то зло усмехнулся тот.
– Пойдемте ко мне в гостиницу, – сказал устало Моцарт. – Там нас никто не найдет.
В номере гостиницы они сидели на стульях. Пол был чист. Никто не видел, как они вошли.
– Я встаю в семь утра, – говорил Сальери. – И я не позволяю себе расслабляться, ведь я человек дела. На каждый день я составляю себе план.
– А кем вы работаете? – спросил его Моцарт.
– Это неважно, – высокомерно поморщился тот. – Важно то, что я знаю, что мне делать.
– Ну, а все же? – мягко переспросил его Моцарт, разливая портвейн по стаканам.
– Я режиссер, если это вам так интересно, – откинулся на спинку стула победоносно Сальери, наблюдая, какой эффект произведет его сообщение на Моцарта, но того это сообщение почему-то особенно не заинтересовало.
– А я-то думал, что вы композитор, – как-то странно сказал он.
– А я вот был уверен, что именно вы композитор, когда подходил к вам на набережной, – со злобой сказал тогда Сальери.
– Да, я действительно композитор, – ответил Моцарт печально. – Только вот музыку не пишу, хотя все еще слышу.
– А я тоже, может быть, композитор в своем деле, – сказал Сальери. – Только я делаю другую музыку, не глухонемую фестивальную для каких-нибудь там малахольных снобов и мастурбирующих эстетов, засевших в киноинститутах, а сочную, зрелищную, громкую для масс.
– Для масс, – усмехнулся Моцарт.
– Да к черту! – сказал Сальери. – Прежде всего я думаю о том, как сложить историю. Жертва, например, – он зло посмотрел на Моцарта, – и ее палач. Как она его, к примеру, находит. И я и снимаю это на площадке просто, без выкрутасов, по-американски. Прямая точка в направлении одного из персонажей – раз, обратная в направлении другого – два, деталь – стакан вот этот, например, – три, и бац – сцена готова. Не надо никакого там видения, не надо никакого там вам стиля.
– А вы в этом уверены? – спросил его Моцарт.
– Да! – вскричал Сальери.
– А я нет, – по-детски рассмеялся вдруг Моцарт.
– Ну хорошо, – мрачно сказал Сальери. – Хотите пример?
– Пожалуй, да.
– Тогда представьте себя немножко помоложе, – раздраженно начал тот, замечая, что слова его по-прежнему никак не задевают Моцарта. – Только не принимайте ради бога мои слова всерьез, это же игра. Итак… представьте себя этаким человеком из сексуального подполья, зрителем, который резко вперед наклоняется, когда на экране половой акт показывают. И вот море, закат, романтика, детишки камушки собирают, а вы же только на молоденькую проститутку пялитесь, и вот все же решаетесь, подходите к ней, у вас и деньги есть, а сказать, обратиться не знаете как, думаете, она первая к вам обратится, а она смотрит на вас с улыбкой издевательской, потому как внешность у вас гадкая, и молчит. Тогда вы хрипло выдавливаете из себя: «У меня вот деньги. Пойдемте со мной, если хотите подзаработать». А она: «Сколько баксов-то, дорогой?» Вы: «Пятьдесят». Она: «С тобой только за сто». А у вас всего семьдесят. И вот вы опять ни с чем возвращаетесь в гостиницу, и вам не остается ничего другого, как…
Моцарт по-прежнему по-детски улыбался, и, глядя ему в глаза, Сальери тоже слегка усмехнулся:
– Вы еще перед этим случайно посмотрели в окно, – тихо и вкрадчиво продолжил он, – как юноша девушке дарит жасмин, и это и есть деталь. Представьте себе крупный план – букетик жасмина, а сами вы… а рука ваша… только не до конца, не до конца, не до конца, дойти до… и остановиться, не до конца… Ом, нет, ыы-ых, назад, не было, поздно, как я слаб, думаете вы, как мерзок, силу растратил, шлеп, шлеп, это финиш, – и л-ладно, вы разозлились, раз так, так – так, если было уже, то отдаться хотя бы вдогон, но поздно, вспышка погасла, только девичий смех за окном и юношеский ломающийся басок, ваш свет был и исчез, а то, чего вы так не хотели – хотели, что приняли как срыв, как несчастье, то и было для вас единственным еще возможным человеческим счастьем.
Сальери замолчал, внимательно вглядываясь в лицо Моцарта.
– Неплохо, – усмехнулся Моцарт. – Но все же в вашем рассказе был… в известном смысле стиль.
– Га-а, – сказал Сальери, зевая и одновременно пряча искру злорадства в наплывающее на зрачок правого глаза желтоватое облачко. – Га-а, – повторил он. – История, короткая история. И концовку можно придумать под стать. Представьте, как вы стоите… вот так, и вдруг дверь открывается, и собачка маленькая вбегает, подскальзывается, стряхивает и – дальше коготит по паркету к окну…
Неторопливым уверенным движением Сальери взял бутылку и небрежно разлил по стаканам.
«Почему, – подумал Моцарт. – Почему я терплю здесь этого жалкого онаниста и позволяю ему говорить гадости? Он цедит мне в душу яд, а я разыгрываю гуляку праздного, которому все нипочем. Наивно улыбаюсь, будто бы пропуская мимо ушей все эти мерзости. А потом, когда он уйдет, эти гадости будут разъедать мне душу, будут гноить ее заживо, и мне останется только воскликнуть себе в утешение: „Да здравствует великий христианский ритуал лицемерия, позволяющий нам экономить наше либидо, наше невозмутимое блестящее снаружи и… червивое изнутри либидо. А потом я еще удивляюсь, что нет музыки. Почему, почему и как я умудряюсь находить их повсюду? Сейчас еще начну его утешать, демонстрируя, какой я добрый“.
Тень омрачила его лицо.
– Выпьем, – сказал, зорко вглядываясь в его лицо, Сальери. – Ты и в самом деле добр. Выслушать все это так спокойно, вытерпеть весь этот ад. Я, откровенно говоря, думал, что ты вот-вот запустишь в меня бутылкой. Прости, я – язва. А ты – сильный и добрый человек, в которого дерьмо не проникает, который пишет прекрасную музыку… А я – так организатор какого-то там кинопроцееса для масс. Выпьем же и забудем. Ну, не хмурься. Спой мне, а? Ты умеешь петь или только играешь? Спой мне что-нибудь тихое и печальное. Ну, что ты сидишь такой мрачный, обиделся, да? Хочешь, я подарю тебе ключ?
– Ключ? – вздрогнул Моцарт.
– Да, – Сальери нагнулся и достал из сумки ключ. – Вот, от города, сувенирный, видишь, написано „Ял-л-та“. Это город, где мы с тобой встретились. Так выпьем же, друг, за нашу встречу!
Они чокнулись и выпили. Моцарт взял ключ. Ключ был медный в виде серпа, с прямоугольной каймой и вытравленными „Я“, „Л“, „Т“ и „А“ на равном расстоянии друг от друга, под буквами был выдавлен парусный корабль, рассекающий волны. Ключ был довольно тяжелый. Моцарт медленно отвел руку и, глядя Сальери в глаза, ударил его в висок. Тот повалился на бок, как манекен. Серпообразный тяжелый предмет засел в черепе. Моцарт долго смотрел на медленно вытекающую кровь, на огромную лужу крови, а потом вышел из номера.
В фойе гостиницы стояло старенькое пианино. Женщина обтирала его мокрой тряпкой. Зеркальное, черное быстро высыхало, оставалось матовое и слепое. Женщина вздрогнула, когда Моцарт осторожно обнял ее сзади.
– Только один аккорд, – сказал он.
– Ты что, спятил? Уже полдвенадцатого!
– Только один, – повторил Моцарт.
– Хорошо, но только один.
Он отпустил руки, протягивая их вперед и попадая пальцами наугад, ибо так загадал. Еще давно, когда-то, в музыкальной школе учительница говорила, что если нажимать только на черные клавиши, то музыка получится сама.