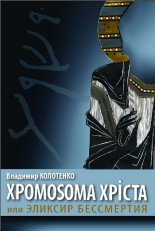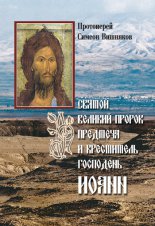Язык фольклора. Хрестоматия Хроленко Александр
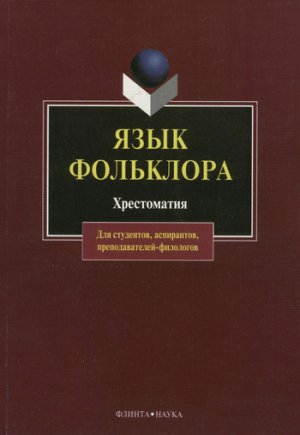
Недетерминированные знаки делятся на языковые (организованные в систему) и неязыковые (не организованные в систему). Языковые знаки распределяются по трём группам: 1) естественные языки (фонетические языки); 2) искусственные языки (графический письменный язык, ручная речь глухонемых, язык свиста, узелков и проч., математические и логико-символические языки, дорожные знаки, музыкальные ноты и т. д.); 3) знаки, сопряженные с фонетическим языком (интонация, мимика, телодвижения и т. п.).
Столь значительное количество в принципе сходных и в то же время отличных по происхождению, назначению и использованию систем со знаковыми свойствами привело к необходимости систематизировать их. Важность проблемы знаковое™ и наличие большого количества знаковых систем обусловили возникновение особой науки о них – семиотика. «Семиотика находит свои объекты повсюду – в языке, математике, художественной литературе, в отдельном произведении литературы, в архитектуре, планировке квартиры, в организации семьи, в процессах подсознательного, в общении животных, в жизни растений. Но везде её непосредственным предметом является знаковая система» [Степанов 1983: 5].
Истоки этой науки восходят к античности, к философскому спору стоиков и Демокрита об отношении слова и вещи. Дж. Локком, Г. Гегелем, Ч. Пирсом, В. Гумбольдтом, Ф.Ф. Фортунатовым и Ф. де Соссюром строилось здание будущей науки. Ф. де Соссюр в «Курсе общей лингвистики» (1913) высказал убеждение в необходимости особой научной дисциплины, изучающей знаки, и далей название семиология, однако рождение новой науки относят к 40-м годам XX столетия и связывают с работами американца Ч. Морриса «Основы теории знаков» (1938) и «Знаки, язык и поведение» (1964), в которых автор обобщил всё сделанное до него философами Ч. Пирсом и Э. Гуссерлем, а также лингвистами Ф.Ф. Фортунатовым и Ф. де Соссюром, но ограничился рамками лишь науки о поведении. «Человеческая цивилизация невозможна без знаков и знаковых систем, человеческий разум неотделим от функционирования знаков, – а возможно, и вообще интеллект следует отождествлять именно с функционированием знаков» [Моррис 1983: 37–38]. Первый международный конгресс по семиотике состоялся в Милане (Италия) в 1974 г.
Семиотика опирается на идею изоморфности (сходства) знаковых структур и вытекает из практической потребности изучения различных видов коммуникации. Приведем наиболее типичное и распространенное определение новой научной дисциплины: «Семиотика – наука о знаковых системах в природе и обществе» [Степанов 1971]. Кстати, в XIX в. термин семиотика понимался узко: Семиотика, врачебная наука о признаках болезни [Даль: 4: 173].
Семиотика интересуется, во-первых, языком и литературой (речью и текстом); во-вторых, живописью, музыкой, архитектурой, кино, ритуалами (в той мере, в какой они являются знаковыми системами); в-третьих, системами коммуникации животных и системами биологической связи в человеческом организме [Степанов 1983: 6].
В семиотике как комплексной науке о знаковых системах в природе и обществе ныне более или менее оформилось несколько направлений: 1) биосемиотика, изучающая естественные, биологически существенные знаки; 2) этносемиотика, описывающая «неявный» уровень человеческой культуры, например, обычаи, привычки, позы и т. п.; 3) лингвосемиотика, ориентированная на изучение естественного языка с его стилистикой и сопутствующими знаковыми системами; 4) психосемиотика, исследующая психологическое воздействие знака; 5) абстрактная семиотика, устанавливающая наиболее общие свойства и отношения знаковых систем независимо от их материального воплощения; 6) общая семиотика, в рамках которой решаются общие вопросы всех этих направлений. Теория знака легла в основу культуроведения.
Ч. Моррис полагал, что семиотика – наука широкая, интегративная. «Логика, математика и лингвистика могут быть включены в семиотику полностью. Что касается некоторых других наук, то это возможно лишь частично» [Моррис 1983: 35]. «С одной стороны, это наука в ряду других наук, а с другой стороны, это инструмент наук» [Моррис 1983: 38]. Подобное расширенное представление о функционировании семиотики в процессе познания привело многих специалистов к преувеличению роли семиотики и попыткам заменить ею философию, т. е. передать семиотике методологическую функцию.
Мы пока говорили о знаках вообще и не касались языковых единиц. Является ли фонема, морфема, слово знаком – можно ответить лишь после рассмотрения того, как взаимосвязаны язык и мышление.
Дополнительная литература
Гринев С.В. Семиотика: проблемы и перспективы // Вестник МПУ. Серия «лингвистика». – М., 1998. № 2. С. 10–16.
Зорина З.А., Полетаева И.И. Зоопсихология. Элементарное мышление животных: Учебное пособие. – М., 2001. Глава 6. Способность животных к символизации. С. 193–222.
Кравченко А.В. Классификация знаков и проблема взаимосвязи языка и знания // ВЯ. 1999. № 6. С. 3–12.
Кубрякова Е.С. Возвращаясь к определению знака // Вопросы языкознания. 1993. № 4.
Правоторов Г.В. Зоопсихология для гуманитариев: Учебное пособие. – Новосибирск, 2001. С. 210–229.
Соломоник А. Семиотика и лингвистика. – М., 1995.
4. Язык и мышление
4.1. Сложность проблемы
Философы, лингвисты, логики, физиологи, психологи, кибернетики и семиотики уже давно пытаются адекватно описать взаимосвязь языка и мышления, но эта задача, к сожалению, всё ещё далека от полного решения. Трудность проблемы заключается в нескольких факторах. Во-первых, в языке и мышлении сочетается социальное и биологическое. Во-вторых, язык и мышление двойственны по своей природе: будучи средством закрепления достижений общественного познания, они статичны, но, с другой стороны, они и динамичны, так как представляют мыслительно-речевую деятельность человека [Общее языкознание 1970: 375]. В-третьих, мышление человека многокомпонентно, а язык многоярусен и многофункционален. Мышление одновременно выступает и как особый вид деятельности мозга, и как орудие отражения действительности, и как процесс взаимодействия познающего субъекта и познаваемого объекта.
«Мышление – это психические процессы отражения объективной реальности, составляющие высшую степень человеческого познания. Мышление даёт знание о существенных свойствах, связях и отношениях объективной реальности, осуществляет в процессе познания переход от «явления к сущности». В отличие от ощущения и восприятия, т. е. процессов непосредственно-чувственного отражения, мышление даёт непрямое, сложное опосредствованное отражение действительности» [Леонтьев А.Н. 1964:85]. Мышление человека многоступенчато, оно представляет собой совокупность уровней, «этажей»; соединяет абстрактное, чувственно-образное, эмоциональное и интуитивное, для него существенны целеобразующие, волевые, а также санкционирующие факторы. Мышление опирается и на процессы, протекающие на бессознательно-психологическом уровне [Дубровский 1977]. Если представить себе, что разные уровни и компоненты мышления по-разному связаны с языком, по-своему сложным и многофункциональным, то яснее становятся трудности решения поставленной проблемы. Загадочная близость мышления и речи приводит к сокрытию языка и мышления, – заметил философ [Гадамер 1988: 452].
Многокомпонентность мышления и послужила основанием для разноаспектного, но комплексного изучения – физиологического, теоретико-множественного, логического, психологического и даже кибернетического. В итоге складывается новая область знания, которую называют когнитологией.
Решение проблемы взаимоотношения языка и мышления помогло бы решить и такие фундаментальные задачи, как создание искусственного интеллекта, основы семантики для целей перевода, новой методики обучения иностранному языку, автоматической обработки информации, построение информационных систем и информационно-логических систем [Звегинцев 1977: 90].
Решение вопроса о связи языка и мышления осложняется и тем, что о мышлении мы можем судить лишь опосредованно, прежде всего по языку. Л.Н. Толстой писал, что отношение слова и мысли и образование новых понятий представляет собой «сложный, таинственный и нежный процесс души». Правда, в последнее время на вооружение учёных, исследующих работу мозга, поступил позитронно-эмиссионный томограф, который позволяет фотографировать работу мозга, решающего ту или иную языковую или психологическую задачу, т. е. взглянуть на функционирующий мозг.
4.2. Разные подходы к решению проблемы
Трудности исследования соотношения языка и мышления делают правомерным применение разных подходов, рассмотрение проблемы в разных аспектах.
Гносеологический подход. Первоначально проблема рассматривалась в гносеологическом (познавательном) аспекте. Справедливо полагали, что в языке закрепляются результаты познавательной, мыслительной деятельности человека, поэтому взаимодействие языка и мышления искали в самой системе языка, точнее, в системе его значений. В центр внимания попадало соотношение языкового и логического начал. Античные мыслители ввели понятие «логос», который есть одновременно и слово, и мысль. Категории языка и категории логики при этом сравниваются, отождествляются или противопоставляются в зависимости от методологических установок исследователя.
Гносеологический подход к проблеме связи языка и мышления реализуется, в частности, в исследованиях, посвященных соотношению логических форм мышления и лингвистических единиц типа «слово и понятие», «предложение и суждение».
Как соотносится языковое значение с понятием? Решений предлагалось много, но среди них выделились основные: а) значение слова тождественно понятию; б) понятие – это ядро языкового значения. Таким образом, значение и понятие органически связаны, но качественно различны. Значение не сводится к понятию, оно лишь предполагает его. Объёмы значения и понятия пересекаются, но не совпадают полностью. Значение слова шире, чем понятие, а понятие – глубже, чем семантика слова.
Разумеется, соотношение значения и понятия, лежащего в основе значения, в различных словах неодинаково. Они могут полностью совпадать, как в терминах, но возможно и отсутствие понятия в содержании слова, например, в междометиях. Соотношение лексического значения и понятия не постоянно и в пределах одного слова. Например, термин в процессе бытования за пределами специальных наук обрастает смысловыми и эмоциональными оттенками, расширяющими его семантику.
Психологический подход. Гносеологический подход полезен, но в известной мере он односторонен: язык и мышление рассматриваются в застывшем состоянии, в отрыве от живых психических процессов, в которых и осуществляется их связь. Нужен новый аспект изучения – психологический, позволяющий выявить взаимодействие языка и мышления в процессе речевой деятельности индивидов, владеющих данным языком [Общее языкознание 1970: 376]. См. также: [Петренко 1983; Шмелёв 1983; Залевская 1999].
Перспективен и подход, когда в центре внимания находится процесс становления мышления и овладения языковой системой у ребенка. Поскольку развитие ребенка в какой-то мере повторяет общие закономерности развития человечества, данные, полученные при изучении детского мышления и речеобразования, помогли решить поставленную проблему.
Психолингвист Д.И. Слобин указывает на то, что наблюдения за становлением речи ребенка привели к ценным теоретическим результатам, среди которых вывод о том, что 1) познавательные способности ребенка опережают его речевое развитие; 2) существуют невербальные типы мышления; 3) нет обязательной связи познавательной деятельности ребенка с его речевой деятельностью; 4) речевая деятельность структурирована, и процесс становления речи проходит определенные этапы; 5) эта структура изоморфна структуре предметной, наглядной, опытной деятельности; 6) можно установить некоторую иерархию усваиваемых категорий. Окончательный вывод сводится к тому, что язык не является готовой «решеткой» или призмой, через которую ребенок усваивает мир. «Решетка» создается в процессе развития интеллекта, в результате действий ребенка в окружающей среде [Слобин 1994: 143].
Специалисты установили, что отношения между «моральным» и «интеллектуальным» сознанием ребенка складываются неоднозначно. Пик активного «морального сознания», когда проявляется особая чувствительность к тому, «хорошо» или «плохо» они поступают, когда достигается пик эмпатии и формируются моральные стандарты, у всех без исключения детей приходится на возраст 17–18 месяцев, и это не зависит от степени развития речевых навыков и других показателей интеллектуального развития ребенка [Человек. 1994: № 5: 66].
Психологи считают, что интеллект ребенка начинается с действия, и дефицит предметно-практического действия ничем не может быть восполнен и компенсирован. Вспоминают Л.С. Выготского, писавшего о том, что практический интеллект древнее вербального, умное действие первоначальнее умного слова. Однако внутреннее преобразование действия происходит с помощью слов, речь поднимает действие, прежде независимое от неё, на более высокую ступень, накладывает на него печать воли: «Если в начале развития стоит дело, не зависимое от слова, то в конце его стоит слово, становящееся делом» [Знание – сила. 1988: № 2: 70]. Связь слова и дела осуществляется по-разному и в том числе в форме связи мозга и пальцев рук. Специалисты заметили, что тонкая работа пальцами улучшает кровообращение мозга, препятствует отмиранию нервных клеток, а потому советуют: чтобы мозг не старел, нагружать руки квалифицированной, специализированной деятельностью (работа с клавиатурой пишущих машинок и компьютеров, игра на фортепьяно, моделирование, сборка микросхем, вязание и вышивание и т. д.) [Наука и жизнь. 1994: № 9: 87].
Не менее важен подход, при котором исследуются процессы овладения вторым языком и возникновения на этой базе мышления билингва – человека, активно пользующегося двумя (и более) языками.
Физиологи Мемориального Слоан-Кеттерингского онкологического центра в Нью-Йорке изучали 12 билингвов, 6 из которых – «ранние», другие овладели вторым языком в возрасте 11–19 лет. Методика магнитного резонанса давала на экране картину активности мозга в области Брока – передней части коры, связанной с функцией речи. У «ранних» билингвов пользование обоими языками возбуждает одну и туже часть области Брока. У «поздних» работают два участка на расстоянии 8 мм. Следовательно, у ребенка основной речевой центр мозга охватывает все языки, в среду которых погружен. «Поздние» вырабатывают новую систему [Знание – сила. 1998: № 5: 86–87].
Нейрофизиологический подход. Физиология высшей нервной деятельности, как и психология, настойчиво ищет свои пути выявления связи языка и мышления. Наиболее перспективными кажутся исследования в области афазиологии – раздела медицины о патологических нарушениях в коре головного мозга, приводящих к расстройствам речевых механизмов. Опираясь на мысль И.П. Павлова о том, что патологическое часто открывает, упрощая, то, что заслонено от нас, «слитое и усложненное в физиологической норме», афазиолог А.Р. Лурия указывает на необходимость особого раздела знаний – нейролингвистики, задачей которой было бы выделение основных компонентов языка и нахождение тех функциональных образований мозга, которые обеспечивают их усвоение и использование [Лурия 1971: 53, 59].
Работы А.Р. Лурия и его учеников показывают ошибочность подхода, при котором отыскиваются прямые отношения между языком и мозгом, т. е. непосредственные мозговые механизмы языка, как это делали когда-то Брока и Вернике. Лурия исходит из того, что язык, являясь продуктом сложного общественно-исторического развития, изменчив, а мозг представляет собой относительно устойчивую биологическую систему, что язык не является врожденным и что изоморфизма (структурного сходства) в строении языка и мозга нет. «Задача нейропсихологического анализа, – утверждает он, – состоит вовсе не в том, чтобы непосредственно накладывать языковые структуры на морфологические структуры мозга (это и бессмысленно и невозможно), а в том, чтобы анализировать состав отдельных компонентов языка и выделять те психологические операции, которые необходимы для их усвоения и использования, а уж затем искать те мозговые механизмы, которые могут обеспечить осуществление этих процессов» [Лурия 1971: 55. См. также: Лурия 1975].
Исследованиями по нейролингвистике установлено, что левое полушарие мозга управляет не только звуковой речью, но и последовательными движениями области рта, в том числе губ и языка. Следует обратить внимание на разделение функций между правым и левым полушариями головного мозга. В норме правое – более древнее – осуществляет чувственно-наглядное мышление, которое происходит без словесных средств, оно же отвечает за эмоциональную жизнь человека, а левое – более молодое – отвечает за логику, за абстрактное, обобщающее мышление, которое осуществляется лишь на базе естественного языка или иных знаковых систем. Это отражает взаимодействие обоих полушарий.
Правое полушарие воспринимает слова целостно, переходя от общего слухового облика слова к его значению, минуя промежуточный этап расчленения на фонемы, необходимый для левого полушария. Установлено также, что значительная часть информации в правом полушарии кодируется в несловесной форме. Когда начинается обучение языку (в частности иностранному), его формы, ещё незнакомые, воспринимаются преимущественно правым полушарием. По мере усвоения языка происходит перенесение его форм из правого полушария в левое. У американских индейцев в США, например, их родной бесписьменный язык (навахо, хопи) связан преимущественно с правым полушарием, а английский – с левым. В книге Цуноды «Мозг японца» показано, что у японцев слоговая азбука и устный язык находятся в ведении левого полушария, а иероглифика – правого полушария. В принципе у всех народов доминантным является левое речевое полушарие [Иванов 1985].
Установлено, что полушария головного мозга у мужчин и женщин развиваются по-разному. У женщин, как правило, в решении всех задач принимают участие обе половины, у мужчин – чаще одна. Поэтому женщины в среднем говорят быстрее мужчин и правильнее выговаривают слова, искуснее работают пинцетом и хорошо считают в уме. Мужчины лучше строят абстрактные математические модели, играют в городки и ориентируются в чужом городе.
В Хаммерсмитском госпитале (Лондон) кратковременная память исследовалась с помощью позитронно-эмиссионного томографа. Подопытным предъявлялись карточки с буквами английского алфавита и карточки с незнакомыми им знаками корейского алфавита. При виде знакомой английской буквы включалась активность двух небольших участков коры в левом полушарии, а при виде непонятного корейского значка начинал работать маленький участок коры в правом полушарии. Наглядно подтвердилось представление о функциональной асимметрии мозга: левое полушарие обрабатывает в основном словесную и логическую информацию, а правое – образную [Наука и жизнь. 1994: № 7: 11].
Нейролингвистика пытается понять, как происходит становление абстрактного мышления. В мозгу обнаружили зоны, которые фиксируют не только акустические характеристики целых слов, но и отдельных звуков (фонем). С помощью этих зон происходит узнавание воспринимаемых слов. Акустический код связан с кодом смысловым. В разных зонах мозга наблюдаются сходные электрофизиологические реакции на слова, далёкие по своим акустическим свойствам, но близкие по семантическим. Подопытному предъявили слова стул, стол, шкаф и т. п., а на кривой электрических колебаний появились изменения, соответствующие слову мебель, хотя подопытный ещё этого слова не произнёс. Налицо становление речевых нейродинамических структур от первичного акустического кода к смысловым кодам, связанным с мыслительными процессами [Бахур 1986: 87].
Нейролингвистика интересуется тем, как «хранятся» языковые единицы в головном мозге. Итальянские врачи полагают, что для восприятия гласных и согласных звуков мозг использует разные механизмы. Разделение звуков на гласные и согласные, – считают они, – не филологическая, а физиологическая классификация. Это, на наш взгляд, согласуется с гипотезой о более позднем появлении согласных в языке человека. У двух больных в Болонье (Италия) от инсульта пострадало левое полушарие. Оба испытывают затруднения с гласными. Один на письме пропускает все гласные, оставляя свободные места: B-l-gn – (Bologna). Другой больной переставляет гласные: cora вм. caro «дорогой». Итальянский психолог Р. Кубелли предполагает, что при обработке слов гласные и согласные попадают в разные «хранилища». У первого больного пострадала способность извлекать гласные, а у второго – способность правильно выбирать их. Забвение согласных едва ли возможно. Существуют языки (древнеегипетский и иврит), которые обходятся без букв для гласных.
В поисках физиологических и даже биохимических основ человеческой мысли академик Н.П. Бехтерева обнаружила свечения в определенных зонах мозга во время мыслительной деятельности. Найдено пространство мозга размером в 6 мм и в нем три точки: в одной была реакция на смысл фразы, в другой – на грамматику, а в третьей – обобщенная, т. е. и на анализ, и на синтез. Были обнаружены зоны, отвечающие за различные виды мыслительной деятельности, и даже зона, реагирующая на ошибки [РЯШ. 1994: 2 (обложка, с. 4)].
Дополнительная литература
Разум и мозг. – М., 1994.
4.3. Характер связи языка и мышления
По поводу характера связи языка и мышления существуют две точки зрения, обе имеют авторитетную поддержку людей, искушенных в интеллектуальном труде. Французский математик Ж. Адамар в 1945 г. спросил у выдающихся физиков, какое место занимает слово в механизме их мышления. А. Эйнштейн ответил: «Слова, как они пишутся или произносятся, по-видимому, не играют какой-либо роли в моём механизме мышления. В качестве элементов мышления выступают более или менее ясные образы и знаки физических реальностей». Н. Бор думает иначе: «…Никакое настоящее человеческое мышление невозможно без употребления понятий, выраженных на каком-то языке». Н. Винер рассудил компромиссно: он думает и «словесно», и без слов.
Точка зрения «здравого смысла» зиждется на том, что язык – это одежда готовой мысли, способ передачи, но не средство формирования её. «На мысли, дышащие силой, как жемчуг нижутся слова» (М.Ю. Лермонтов). Подкрепляется это мнение следующими соображениями. Во-первых, скорость мышления гораздо выше, чем скорость говорения («Мысль, как молния, пронизала меня»). Во-вторых, всем знаком факт затруднения в выражении той или иной мысли («На языке вертится, а сказать не могу»). Поэты назвали эту ситуацию муками слова; вспомним А.А. Фета: «Как беден наш язык! / Хочу и не могу. / Не передать того ни другу, ни врагу, что буйствует в груди прозрачною волною».
Сторонники «чистого» мышления ссылаются также и на пример глухонемых, которые, дескать, обходятся без языка, а в своём интеллектуальном развитии не только не уступают нормальным людям, но зачастую и превосходят их. При этом вспоминается и Ольга Скороходова, написавшая книгу о том, как она воспринимает мир, и слепоглухонемая американка Е. Келлер, занимавшаяся математикой, литературой и овладевшая несколькими иностранными языками. Вспоминают и эксперимент Е. Хесса: группе мужчин предъявляют два отпечатка фотографии молодой девушки. Все испытуемые предпочли отпечаток, на котором ретушью были чуточку увеличены зрачки глаз. Объяснить же предпочтение мужчины не смогли. Вывод экспериментатора: мыслительные процессы в ходе сопоставления идут без участия слов.
Все аргументы сторонников «чистого» мышления, несмотря на их кажущуюся убедительность, при строгом рассмотрении не выдерживают критики. Действительно, существуют различные формы мышления (практически-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое и др.). У человека, владеющего речью, они основываются на языковой базе. А.А. Потебня в книге «Мысль и язык» писал о том, что творческая мысль живописца, ваятеля и музыканта словом невыразима и совершается без него, но она предполагает достаточную степень развития творца, которая даётся только языком.
Глухонемые в подавляющем большинстве своём ведут полноценный образ жизни и занимаются интеллектуальной деятельностью, и это возможно только при условии, что они научаются языку у владеющих им. Умение думать по-человечески, заметил Потебня, даётся только словами, глухонемой без говорящих или выученных говорящими учителями век оставался бы почти животным. «…Общение высококультурной, развитой мимической речью возможно лишь на основе развитой словесной речи; отсюда ясно, что для полноценного общения и развития глухонемого ребенка и даже для развития его мимической речи необходимо овладеть языком слов» [Морозова 1963: 64].
Сторонники независимости мышления от языка, так охотно оперирующие примерами глухонемых, подменяют два понятия – безъязычность и бессловесность, отождествляют звучащие слова и язык, не различают два момента: а) роль языка как основы, на которой осуществляется мышление, и б) непосредственное словесное выражение всех компонентов мысли в акте общения [Общее языкознание 1970: 387]. Глухонемые бессловесны, но не безъязычны. Конечно, они думают не словами, поскольку глухонемые их не произносят и не слышат, а теми знаками, которые заменяют фонетические единицы. Объяснясь с помощью жестов, глухонемые при помощи них и думают. В механизме мышления понятие «язык» шире понятия «естественный язык» (или разновидности искусственных языков). Здесь язык – это любая система, способная быть носителем информации. Нет внеязыкового мышления, но есть мышление несловесное. Об этом написала в своей книге «Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир» слепоглухонемая О.И. Скороходова:
- Думают иные – те, кто звуки слышат,
- Те, кто видит солнце, звезды и луну:
- – Как она без зренья красоту опишет?
- – Как поймёт без слуха звуки и весну? <…>
- Я умом увижу, чувствами услышу,
- А мечтой привольной мир я облечу…
- Каждый ли из зрячих красоту опишет,
- Улыбнется ль ясно яркому лучу?
- Не имею слуха, не имею зренья,
- Но имею больше – чувств живых простор:
- Гибким и послушным, жгучим вдохновеньем
- Я соткала жизни красочный узор.
Популярна точка зрения на язык и мышление, сформулированная К. Марксом и Ф. Энгельсом. Они утверждали, что язык и мышление находятся в диалектической взаимосвязи и что язык по отношению к мышлению (сознанию) выполняет орудийную функцию: «Язык также древен, как и сознание; язык есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание…» [Маркс: 3: 29]. «…Идеи не существуют оторванно от языка» [Маркс: 3: 488]. Мышление и язык между собой гибко связаны, они соотносительны, но не тождественны. Подобная точка зрения лежит в основе концепции Л.С. Выготского: «Мысль не выражается, но совершается в слове» [Выготский 1956: 332]. Эта концепция берёт своё начало в XIX столетии: «…Слово есть не только слуга мысли, не только форма, в которую выливается мысль, – а слово так могуче, что оно вызывает, рождает, творит самую мысль» [Савинов 1889: 55].
Эпиграфом к главе «Мысль и слово» в работе «Мышление и речь» Выготский взял поэтические строки: «Я слово позабыл, что я хотел сказать, и мысль бесплотная в чертог теней вернется». «Мысль – осмысленное предложение» [Витгенштейн 1994: 18]. А.Ф. Лосев полагал, что слово есть и форма, и материал будущего рождения мысли, не заслоняющие внешнюю действительность предметов. Поскольку слово всегда уже есть значение, мы ищем верное слово, т. е. такое, которое принадлежит самой вещи, и в результате сама вещь обретает голос в этом слове, – так другому философу представлялась связь языка и мысли [Гадамер 1988: 484]. Эта вторая точка зрения поддерживается большинством современных исследователей. Она подтверждается наблюдениями над слепоглухонемыми и заиками, экспериментальными данными нейрохирургии, зоопсихологии и т. п.
Неоднородность мышления, обладающего и чувственно-наглядным, и абстрактным содержанием, объясняет гибкость связи языка и мышления. Как показывают наблюдения над патологией речи, чувственно-наглядное содержание мышления принципиально возможно и без использования языка или других знаковых систем. Абстрактное же содержание в обязательном порядке связано с языком. «…Естественное образование понятий постоянно осуществляется самим языком» [Гадамер 1988: 501].
Отвечая на вопрос, всё ли в мышлении связано с языком, исследователи приходят к выводу, что хотя в познавательном мышлении участие языка и обязательно, тем не менее мысль – или отдельный её элемент – словесно может быть и не выражена, т. е. оставаться в имплицитной (специально не выраженной) форме. Поскольку нет абсолютно чистого мышления, возможны и развернутые, и сокращенные (эллиптические) способы передачи одного и того же содержания. Не случайно, что письменный текст часто сопровождается рисунками, графиками, чертежами, формулами, а устный текст – жестами и мимикой. Этим обстоятельством объясняются такие факты, как поиск адекватного выражения поэтической мысли, накопление нового в мышлении, припоминание имени человека, образ которого стоит перед нашим внутренним взором, знание полиглота, на каком языке он в данный момент думает и т. п.
Полагают, что мысль человека, возникшая на базе языка, никогда до конца не может быть выражена словом, и, чтобы в этом случае понять говорящего, слушающему необходимо иметь так называемые фоновые знания. Примером может служить «Американа» – англо-русский лингвострановедческий словарь, в котором описываются имплицитные (специально не выделенные) смыслы слов, чаще всего ключевых.
Дополнительная литература
Абрамова Н.Т. Являются ли несловесные акты мышлением? // Вопросы философии. 2001. № 6. С. 68–82.
Кривоносое А. Т. Мышление – без языка? Экономия языковой материи – закон процесса мышления // Вопросы языкознания. 1992. № 2. С. 69–83.
4.4. Внутренняя речь
По мнению большинства современных исследователей, важнейшим элементом системы «мышление – язык» является внутренняя речь. Это основное и универсальное средство умственной деятельности и сознания человека, в ней мысль и язык объединяются в целостный комплекс, действующий как речевой механизм мышления. «…Внутренняя речь является весьма важным фактором человеческого сознания, речевого по своему генезису, структуре и функционированию» [Соколов 1968: 232]. Во внутренней речи складывается значение, которое есть единство слова и мысли.
Внутренняя речь стала объектом пристального экспериментального обследования. Опыты психолога Н.И. Жинкина показали, что механизм человеческого мышления реализуется в двух противостоящих динамических звеньях – предметно-изобразительном (предметно-схемном, универсально-предметном) коде и коде речедвигательном. Мысль задаётся в первом звене, передаётся во второе и снова задаётся для первого звена. Двуступенчатость мышления обусловлена органической связью первосигнальных и второсигнальных образований и отличает механизм человеческого мышления от формально-логических устройств для переработки информации [Жинкин 1964: 36]. Две ступени внутренней речи соответствуют двум функциям языка и потому представляют собой два принципиально разных, но органически связанных внутренних языка. Взаимодействие двух кодов – образного и знакового – делает мышление человека универсальным.
Мысль, возникшая на уровне предметно-схемного кода, ещё не может считаться готовой, это только подступы к ней, замысел, интенция, намерение. Именно здесь существует то, что «на языке вертится, а сказать не могу». «Неясный образ шевелится в душе – и не может определиться мыслью» (Андреев Д. Изнанка мира). В этом коде звучит «музыка мечты, еще не знавшей слова» (Инн. Анненский. Мучительный сонет). Зачаточная, еще не расчлененная мысль опирается на своеобразные индивидуальные схемы, образы. Информация о действительности здесь кодируется в виде пространственно-временных представлений. Они составляют тот универсальный язык мышления, с которого возможны переводы на все другие языки. И.А. Соколянский и А.И. Мещеряков добились успеха в научении слепоглухонемых речи только потому, что нашли способ накопления и организации в мозговых структурах элементов универсально-предметного кода, без которого нет ни мышления, ни языка.
Неповторимый характер предметно-схемного кода приводит к тому, что определенная часть мысли настолько индивидуальна, что даже не может быть выражена словом. «…Во всякой гениальной или новой человеческой мысли, или просто во всякой серьёзной человеческой мысли, зарождающейся в чьей-нибудь голове, всегда остаётся нечто такое, чего никак нельзя передать другим людям, хотя бы вы исписали целые томы и растолковывали вашу мысль тридцать пять лет; всегда останется нечто, что ни за что не захочет выйти из-под вашего черепа и останется при вас навеки; с тем вы и умрете, не передав никому, может быть, самого-то главного из вашей идеи» (Достоевский Ф.М. Идиот. Ч. III. Гл. V). Однако часто высказывается и прямо противоположное мнение: «…Такова моя вера в могущество слов, что временами я верю в возможность словесного воплощения этих неуловимых грёз» (По Э. Могущество слов). «Я не обладаю воображением, которое было неязыковым, нелингвистическим, несловесным воображением. Всё, что я написал, не было переводом каких-то картин, каких-то видений на слова и фразы, но строилось исключительно внутри самого языка. Из фраз, которые я заношу на бумагу, построены все созданные мною миры» (Лем Ст.). Столь же оптимистичен В. Набоков: «Часто повторяемые поэтами жалобы на то, что их, слов, нет, слова бледный тлен, слова никак не могут выразить наших каких-то там чувств… ему казались столь же бессмысленным, как степенное убеждение старейшего в горной деревушке жителя, что вон на ту гору никогда никто не взбирался; в одно прекрасное, холодное утро появляется длинный, лёгкий англичанин – и жизнерадостно вскарабкивается на вершину» (Набоков В. Дар). Между двумя кодами наличествует переходная зона: «Слова еще нет, но все же в каком-то смысле оно уже здесь, – или имеется нечто, что может вырасти лишь в данное слово» [Витгенштейн 1994: 307].
Думается, что противоречивость писательских мнений кажущаяся. Всё зависит от того, что имеется в виду, когда говорят о выразимости/невыразимости. Если индивидуальный предметно-схемный код, тогда следует согласиться с Достоевским, но на уровне этого кода мысли ещё нет, есть желание, есть намёки, есть «строительный материал»; если же речедвигательный, то здесь можно говорить о принципиальной выразимости, реализация которой зависит только от степени таланта говорящего. Известно, что самые глубокие и оригинальные субъективные переживания художников слова и мыслителей, выраженные посредством обыденного языка без участия неязыковых средств общения, становятся достоянием других людей.
- Бывает так: какая-то истома;
- В ушах не умолкает бой часов;
- Вдали раскат стихающего грома.
- Неузнанных и пленных голосов
- Мне чудятся и жалобы и стоны;
- Сужается какой-то тайный круг,
- Но в этой бездне шепотов и звонов
- Встаёт один, всё победивший звук
- …………………………………..
- Но вот уже послышались слова
- И лёгких рифм сигнальные звоночки, —
- Тогда я начинаю понимать,
- И просто продиктованные строчки
- Ложатся в белоснежную тетрадь.
Еще одно профессиональное свидетельство о чуде превращения поэтической мысли в Слово:
- Сначала в груди возникает надежда.
- Неведомый гул посреди тишины.
- Хоть строки
- еще существуют отдельно,
- они еще только наитьем слышны.
- Есть эхо.
- Предчувствие притяженья.
- Почти что смертельное баловство.
- И – точка.
- И не было стихотворенья.
- Была лишь попытка.
- Желанье его.
Одним из частных вопросов многоаспектной проблемы «Язык и мышление» является вопрос о связи языка и бессознательного. На первый взгляд, эта связь кажется парадоксальной: язык, по определению, призван рационализировать всё, что лежит вне поля сознания. «Лишь слова обращают текущее чувство в мысль» (Платонов А. Чевенгур). И тем не менее уже Н.К. Крушевский и И.А. Бодуэн де Куртенэ размышляли над «бессознательно-психическими явлениями», которые предопределяют способность человека обобщать, формировать грамматические категории, усваивать язык и в раннем возрасте приобретать языковое чутьё. P.O. Якобсон предположил, что «в нашем речевом обиходе глубочайшие основы словесной структуры остаются неприступны языковому сознанию; внутренние соотношения всей системы категорий – как фонологических, так и грамматических – бесспорно действуют вне рассудочного осознания и осмысления со стороны участников речевого общения» [Якобсон 1978: 165]. Тему P.O. Якобсона, как и его предшественников, можно обозначить как «система языка и бессознательное».
Важен и такой вопрос, как «процесс коммуникации и бессознательное», при этом будем учитывать, что само «бессознательное» неоднородно. Есть предсознание, подсознание и сверхсознание. До сих пор в поле внимания теоретиков языка была связь предсознания и языка – предрасположенность человека к бессознательным отношениям с языком и бессознательная саморегуляция языковой системы. Связь подсознания с языком – это вопрос об особой, фреймовой, организации языка как орудия мысли, вопрос о так называемых «семантических комплексах», которые предопределяют специфику мышления. Вопрос о языке и сверхсознании – самый трудный, ибо относится к области творчества с помощью языка; ему посвящена статья Э. Сепира «Бессознательные стереотипы поведения в обществе» [Сепир 1993: 594–610].
Психолог А.Е. Широзия утверждал, что слово всегда содержит в себе больше информации, нежели наше сознание способно извлечь из него, ибо в основе слова лежат бессознательные языковые установки. Писательское наблюдение подтверждает мнение психолога: «…Бежавшие за нами… уличные мальчишки только то и дело, что вполголоса повторяли: – Ишь, задаются на макароны!.. Объяснить, что значит задаваться на макароны ни один Грот, ни Даль, вероятно, не смогли бы, но что в этой исключительно южной формуле заключалась несомненная меткость определения, отрицать было нельзя» [Дон-Аминадо 1991: 33–34].
Естественный язык обладает уникальной способностью передавать информацию не только словами, но и «межсловесным пространством». Истина постигается в молчании, считают японцы. Потому что в момент паузы между словами рождается то, что невыразимо в слове. По этому критерию отрывок из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» безукоризнен даже по японским канонам идеального искусства: «Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожеления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна <успокоит его>«[Булгаков 1987: 374]. «Музыка – это промежуток между нотами» (Клод Дебюсси).
Появилось понятие, названное пресуппозицией, под нею понимают семантику, в языковых формах не выраженную, но с достаточной степенью определенности сопровождающую их. Это разновидность скрытого содержания, которое формирует подтекст. Теория риторики оперирует понятием затекст. Это то, что говорящий держит, образно говоря, за пазухой и что определенным образом окрашивает поведение. Подчас невысказанное влияет на реакцию слушателей сильнее, чем сказанное вслух. В США провели эксперимент. Два студента получили задание выступить перед незнакомыми студентами. Предварительно договорились, что первый в конце сообщит, что занятия отменяются, а второй – что будут дополнительные занятия. Однако выступающих сознательно прервали. Опрос слушателей показал, что второй студент понравился больше. Сделан вывод, что оценка связана не только с тем, что говорят, но и о чем молчат [Знание – сила. 1996: 6: 9]. Прогресс в создании систем искусственного интеллекта прямо зависит от того, в какой мере удастся смоделировать это свойство естественного языка, столь заметно усиливающее возможности мышления.
Если бы всё можно было выразить словом, то отпала бы необходимость в выразительных движениях, пластическом искусстве, живописи и музыке [Спиркин 1972: 224]. Уже наличие интонации свидетельствует о смысловой недостаточности знака, обретающего смысл только в процессе речевого общения.
По мере того как мысль складывается, формируется, крепнет, всё заметней становится её зависимость от языковых средств, осуществляется переход к речедвигательному коду. Мысль окончательно формируется, расчленяется, подготавливается к речевому воспроизведению. Взаимодействие мысли и речи тонко почувствовал Ф. де Соссюр, назвавший один из параграфов своей знаменитой книги «Язык как мысль, организованная в звучащей материи». По мнению учёного, и мышление, и речь первоначально представляют собой аморфную сущность. С одной стороны, «само по себе мышление похоже на туманность, где ничто чётко не разграничено» [Соссюр 1977: 144], с другой стороны, «звуковая субстанция не является ни более определенной, ни более устоявшейся, нежели мышление. Это – не готовая форма, в которую послушно отливается мысль, но пластичная масса, которая сама делится на отдельные части, способные служить необходимыми для мысли означающими» [Соссюр 1977: 144].
Мысль и речь становятся таковыми только в едином процессе мышления. Слово формирует не только мысль, но и самоё самосознающую личность. «В слове, – писал философ А.Ф. Лосев, – сознание достигает степени самосознания. В слове смысл выражается как орган самосознания и, следовательно, противопоставления себя самого иному. Слово есть не только понятая, но и понявшая себя саму природа, разумеваемая и разумевающая природа. Слово, значит, есть орган самоорганизации личности, форма исторического бытия личности» [Лосев 1991: 534]. На уровне речедвигательного кода роль языка в формировании мысли становится максимальной. Экспериментальные исследования А.Н. Соколова показали, что процесс мышления сопровождается беззвучным движением мышц языка и губ, как будто произносятся слова быстрым и сокращенным образом. Эксперименты подтвердили то, что внимательные люди знали из самонаблюдений. Знаменитый русский физиолог И.М. Сеченов утверждал: «…Я никогда не думаю прямо словами, а всегда мышечными ощущениями, сопровождающими мою мысль в форме разговора» [Сеченов 1952: 87]. Русский писатель и мыслитель В.В. Розанов не раз признавался, что всякое движение души у него сопровождается выговариванием. Фотограмма, полученная при мысленном счёте, одинакова с фотограммой произносимого счёта, разница только в силе. А.Н. Соколов отмечает, что при решении трудных задач речедвигательная импульсация увеличивается, при решении лёгких – уменьшается. При зрительном предъявлении задач она меньше, чем при слуховом, у детей выше, чем у взрослых.
Экспериментами установлено, что исключение речедвижений затрудняет запоминание речи [Соколов 1968: 229]. Выяснили, что люди легче запоминают текст, если мысленно его повторяют про себя. Люди с неподвижными органами речи (травмы) быстро забывают речь, которую они слушали. Колебания и напряжение языка, губ, гортани, голосовых связок в свою очередь воздействуют на активность мозга, стимулируя мыслительный процесс. В итоге оказывается, что человек мыслит не только мозгом [Наука и жизнь. 1996. № 9. С. 15–16].
Установлено, что наше мышление по природе диалогично, и речедвигательная импульсация в процессе мышления – явление закономерное. Замечено, что словесные обобщения формы, величины и цвета предметов у ребенка появляются только после овладения речью, причём пик языковой способности его приходится на четырёх-пятилетний возраст и к этому же времени формируется до 50 % интеллекта человека. Плохие результаты развития детей – «маугли» свидетельствуют, что без овладения речью мозг человека не приобретает способности разумного мышления. «Вне объективации, вне воплощения в определенном материале (материале жеста, внутреннего слова) сознание – фикция», – даже шрифтом подчеркнул эту мысль М.М. Бахтин [Волошинов 1928: 107].
Эксперименты А.Н. Соколова и Н.И. Жинкина доказывают, что обязательная связь языка и мышления не является жёсткой, она гибка, подвижна, динамична. Нельзя отождествлять язык и мышление, так как мышление содержит в себе не только речевую, но и неречевую фазу действия, связанную с накоплением сенсорной (чувственной) информации [Соколов 1968: 230]. Видимо, неречевую фазу (память чувства) имел в виду Л.Н. Толстой: «Между бесчисленным количеством мыслей и мечтаний, без всякого следа проходящих в уме и воображении, есть такие, которые оставляют в них глубокую чувствительную борозду; так что часто, не помня уже сущности мысли, помнишь, что было что-то хорошее в голове, чувствуешь след мысли и стараешься снова воспроизвести её» (Толстой Л. Отрочество. Гл. XVIII).
Внутренняя речь на уровне речедвигательного кода весьма специфична. «Внутренний монолог каждого из нас, включая и преподавателей грамматики, гораздо менее строен, он хаотичен, полон неожиданных поворотов, алогизмов, причудливых ассоциаций, незаконченных предложений, пауз, отклонений, повторов – в общем, это монолог, который не в ладах с правилами синтаксиса, а иногда и с элементарной логикой» (Райнов Б. Странное это ремесло). Внутренняя речь крайне отрывочна, фрагментарна, сокращенна по сравнению с внешней речью, в ней резко усилена предикативность за счёт опускания подлежащего и связанных с ним частей предложения. Семантика слов внутренней речи более контрастна и идиоматична. Расширяется смысл слов, происходит «слипание» слов для выражения сложных понятий, налицо высокая «нагруженность» слов смыслом. Возможна фонетическая редукция внутренней речи – выпадение фонем, преимущественно гласных. Словарь внутренней речи предельно индивидуален, субъективен и обычно дополняется наглядными образами.
А.Н. Соколов отмечает факт расширения значения слов и предложений, которыми мы пользуемся во внутренней речи. Слово семантически более емко, а границы его менее четки.
Единицы внутренней речи не имеют строгой грамматической оформленности. Частеречная принадлежность и словообразование весьма условны. Полагают, что внутренняя речь имеет дело со словообразами, содержание которых – семема – выражается фрагментарно [Норман 1994. В этой книге пишется о внутренних процессах и механизмах образования устного или письменного текста].
Внутренняя речь прерывиста, поэтому говорят, что она выступает как «квантовый» механизм мышления, отсюда возможность одновременного развертывания нескольких мыслей, из которых одна может контролировать другие.
Немецкий физиолог Э. Пеппель, изучая записи речи на четырнадцати языках, обнаружил, что говорящий делает краткие паузы каждые три секунды. Этот ритм не изменяется даже при чтении стихов разного размера и не связан с ритмом дыхания. У шимпанзе ритм короче – около двух секунд. Лишняя секунда у человека, считает исследователь, уходит на вербальное (словесное) оформление переживаемого или делаемого. Человек как бы проговаривает про себя в подсознании всё увиденное. У детей, глухих от рождения и потому не овладевших языком, ритм жизни такой же, как у обезьян [Наука и жизнь. 1992. № 5–6: 23].
Существенной чертой внутренней речи как основного фактора мышления является постепенное сокращение речевых операций по мере выработки интеллектуальных навыков (чтения, письма, решения математических задач и др.) и превращение их в очень сокращенный и обобщенный код – язык «семантических комплексов«, которые представляют собой редуцированные речевые высказывания в сочетании с наглядными образами. Любая, даже элементарная мыслительная операция содержит такое количество умозаключений, что практически без подобных «семантических комплексов» никакая интеллектуальная деятельность не была бы возможной.
Наличием «семантических комплексов» и редуцированностьи внутренней речи объясняется и тот факт, что мы думаем быстрее, чем говорим. Сокращенная форма внутренней речи, т. е. мышление намёками слов, возникает только на основе предшествовавшего словесного мышления. «…Мы всегда мыслим словами, при этом, однако, не нуждаемся в реальных словах» [Гегель 1958: 103]. «Слово умирает во внутренней речи, рождая мысль» (Л.С. Выготский). В результате получается, что человек пользуется аналогами слов, которые и нужны лишь для того, чтобы нечто уяснить для себя. Это понимали уже древние китайцы: «Слова нужны – чтоб поймать мысль: когда мысль поймана, про слова забывают» (Из книги «Чжуан-цзы; Поэзия и проза древнего Востока», 1973). Более развернуто об этом сказал А.А. Потебня: «…Область языка далеко не совпадает с областью мысли. В середине процесса человеческого развития мысль может быть связана со словом, но в начале она, по-видимому, ещё не выросла до него, а на высокой степени отвлеченности покидает его как не удовлетворяющее её требованиям и как бы потому, что не может вполне отрешиться от чувственности, ищет внешней опоры в произвольном знаке» [Потебня 1989: 51].
Идея «семантических комплексов» хорошо связывается с экспериментально подтвержденными наблюдениями: запоминание мысли не обязательно связано с запоминанием слов, которыми она была выражена. Память на мысли прочнее памяти на слова, мысль сохраняется, а её речевая форма может замениться новой [Рубинштейн 1989: 400].
Несмотря на отличие внутренней речи от внешней (её крайняя ситуативность, обобщенность и фрагментарность), она зависима от последней и является её производной. Полагают, что внутренняя речь принципиально диалогична, представляет собой средство общения человека с самим собой. Иногда внутренний диалог превращается во внутренний монолог. Внутренняя речь неразрывно связана с эмоциональными процессами личности. Динамика внутреннего диалога зависит от эмоций, которые влияют на смысл обдумываемого [Кучинский 1988].
Однако и внешняя речь функционально зависит от внутренней, поскольку планируется последней. Особенности разговорной речи, отличающие её от письменной, обусловлены свойствами внутренней речи. В разговорной речи явления действительности часто фиксируются с помощью факультативных единиц, а потому одно и то же наименование используется для обозначения разных реалий (вещь, штука, дело), а для каждой реалии существует несколько тождественных обозначений. Характерна такая номинация: «У тебя есть чем писать?» Лексика разговорной речи отличается семантической размытостью, в ней используются слова с чрезвычайно общим или неопределенным значением (стекляшка, деревяшка, держалка, хваталка и т. п.). Велика роль ситуации, опоры на внеязыковую действительность. Слово дополняется элементами параязыка, под которым понимают явления и факторы, сопровождающие речь и не являющиеся словесным материалом.
Связь внутренней речи с внешней и их существенные различия обусловили при переходе одной из них в другую многие затруднения, получившие в литературе обозначение – «муки слова». Ф.М. Достоевский выразил это устами Версилова («Подросток»): «А и ты иногда страдаешь, что мысль не пошла в слова! Это благородное страдание, мой друг, и даётся лишь избранным…». Мнение еще одного великого писателя: «Когда выехали, поразила картина (как будто французского художника) жнивья (со вклиненной в него пашней и бархатным зеленым куском картофеля) – поля за садом, идущего вверх покато, и неба синего и великолепных масс белых облаков на небе – и одинокая маленькая фигура весь день косящего просо (или гречиху красно-ржавую) Антона; и все мука, мука, что ничего этого не могу выразить, нарисовать!» [Бунин 1990: 32]. «Муки слова» не останавливают творчество. Невыразимое, как заметил Л. Витгенштейн, создает фон, на котором обретает свое значение всё, что автор способен выразить [Витгенштейн 1994: 427].
Многие вопросы, возникающие при исследовании внутренней речи, входят в проблематику особой научной дисциплины – психолингвистика. «…В этой науке изучаются проблемы психической реальности языковых единиц, модели производства речи, речевое поведение, речевая патология, соотношение между «мыслью» и «речью», генезис речи и становление речи в раннем детстве, мотивированность речевого произведения, латентный процесс речепроизводства и т. д.» [Верещагин 1969: 24]. Психолингвистика составляет теоретическую базу методики преподавания языка и даёт словеснику интересный практический материал.
Дополнительная литература
Жинкин Н.И. О кодовых переходах во внутренней речи // Вопросы языкознания. 1964. № 6.
Жинкин Н.И. Язык – речь – творчество (Избранные труды). – М., 1998. С. 148–161.
4.5. Знаковые свойства языковых единиц
В языкознании сложились две точки зрения на знаковую природу языка. Первая была сформулирована Ф. де Соссюром: «Язык есть система знаков, выражающих понятия» [Соссюр 1977: 54]. Согласно второй точке зрения, язык – явление особое, стоящее вне знаковых систем. Обе точки зрения абсолютизируют тот или иной аспект языка. С одной стороны, языковая единица целиком и полностью отвечает определению знака. Она материальна, выполняет функции замещения предмета и указания на него, служит целям получения, хранения, преобразования и передачи информации о замещаемом предмете. С другой стороны, языковая система в целом настолько отлична по происхождению, функционированию, универсальности и самопроизводству от других знаковых систем, что возникла мысль о неправомерности включения её в семиотическую классификацию.
Налицо парадоксальная ситуация. Исследование свойств языка, главным образом слова, породило мысль о его знаковое – ти. Семиотические идеи Аристотеля, Аокка, Соссюра складывались в основном на базе их лингвофилософских размышлений. Когда же возникла наука о знаковых системах (семиотика), отнесение языка к предмету её исследования оказалось проблематичным.
Не вызывает сомнения тот факт, что языковая единица, например слово, существенно отличается от предметов, которые мы единодушно относим к знакам. Во-первых, несомненна естественность возникновения языка, известная стихийность его развития, способность к саморегулированию. Во-вторых, очевидна первичность языка по отношению к другим знаковым системам, которые возникают только на базе языка. В-третьих, языку присуща множественность функций, в то время как знаковые системы обычно однофункциональны. В-четвертых, язык является орудием мышления, средством познания объективного мира. В-пятых, ни одной знаковой системе не свойственна многоярусность и сложность отношений между уровневыми единицами. Наконец, ни одной системе не известно соотношение, подобное соотношению языка и речи.
И всё же, несмотря на столь разительное отличие языка от знаковых систем, ученые в большинстве своём склоняются к мысли о том, что язык – это система со знаковыми свойствами. Безусловная связь языкового знака с гносеологическим образом и обобщенный характер языкового знака отличает его от всех других.
Языковой знак возникает одновременно с человеческим сознанием в процессе практической деятельности в коллективе людей. «…Знаковая функция материальной стороны языковых единиц естественных языков (или элементов других знаковых систем) является необходимым компонентом и условием процессов абстрактного, обобщенного мышления и познания» [Панфилов 1977].
Органическая включенность знака в процесс познания, его функционирование в качестве орудия мышления и способность участвовать в формировании понятия, его диалектическая связь с гносеологическим образом обусловливает специфику языковых единиц, представляющих единство знака и значения. Единица языка как целое (в силу вхождения в её состав значения) не есть знак. Она состоит из знака и значения [Солнцев 1977]. Человек, который никогда не видел чего-то, не слышало нём, понимает слово (словосочетание, предложение и т. д.), обозначающее то, о чём он слышал. Из этого наблюдения вытекает вывод, что материальные комплексы звуков речи, не имея никакого отношения к тем предметам и явлениям, которые человек этими комплексами произвольно намеревается называть, со временем становятся материально-идеальными комплексами благодаря активной деятельности сознания, ибо «сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его» [Ленин: 29: 194. См.: Миллер 1987: 40–41].
В семиотике до сих пор не утих спор о произвольности/ непроизвольности знака. Тем не менее в языкознании начинает утверждаться диалектическая точка зрения: языковой знак априорно произволен, но как только знак входит в систему языка, он приобретает статус непроизвольного. Личность может ввести слово в язык, но ей никогда не удастся удалить его из языка.
Языковые единицы различаются степенью самостоятельности (автономности) значения. Например, слово – языковая единица с автономным значением, которое фиксируется вне контекста и приводится в словаре; морфема – единица со связанным значением, выявляемым только в пределах значения всего слова; у словосочетания и предложения – составные значения.
Особого рассмотрения требует вопрос о значении фонемы. Наиболее распространено мнение о том, что фонема – единица смыслоразличительная, лишенная собственного значения, а потому это не знак, а фигура – строевой элемент знака (для унилатералистов это полноценный знак). Однако стоит согласиться с теми, кто утверждает, что единицам языка присуща качественно различная семантика. Отсветы отражательной семантики проявляются в фонемах и их комбинациях, которые передают эту отражательную семантику [Плотников 1989: 97].
Итак, языковые единицы на семантической шкале располагаются следующим образом: значение ассоциативное (фонема) – связанное (морфема) – свободное (лексема) – контекстно-уточненное (сочетание лексем).
В рамках проблемы «Язык и мышление» родилось особое направление, которое именуется когнитологией. Когнитология – это наука о представлении знаний, об общих принципах, которые управляют мыслительными процессами. Поскольку эти процессы изучаются рядом когнитивных дисциплин: психологией, логикой и языкознанием, – составной частью нового направления стала когнитивная лингвистика. И это не случайно: изучение семантики естественного языка – это изучение и структуры мышления (См.: Язык и структуры представления знаний. Сборник научно-аналитических обзоров. М., 1992).
Когнитивная лингвистика опирается на концепты. Концепт (по А. Вежбицкой) – это объект из мира «Идеальное», который имеет имя и отражает определенное культурно-обусловленное представление человека о мире «Действительность». Концепты отличаются от понятий нечеткостью. Это понятия с «нечеткими краями». Понятия же – это сочетание концептов, лишенных образных, пространственных, любых чувственных компонентов восприятия.
Когнитивная лингвистика установила наличие нескольких структур представления знаний: 1) мыслительная картинка; 2) фрейм; 3) схема; 4) сценарий. Эти структуры стоят за языковыми единицами текста. Мыслительная картинка – образное представление явления. Например, то, что стоит за словом «отвертка», которое «включает в себя самые различные восприятия об этом инструменте, в том числе визуальное описание производимых им операций, его предназначение, специфику ситуаций, в которых он используется, ощущение инструмента в руке и связанные с ним движения» [Дамазиу А.Р., Дамазиу А. 1992: 55]. Теория фрейма введена М. Минским в первой половине 70-х гг. По-английски фрейм 'каркас, система, рамка'. Примером фрейма может служить «базар» или «игра в теннис». Фрейм формируется словами, описывающими различные аспекты той или иной ситуации. Фрейм, как удачно замечено, – это «квант» знаний человека о мире. Примером схемы может служить «дорога» – ряд символических элементов, с помощью которых фрагмент внешнего мира превращается во фрагмент внутреннего мира человеческого сознания. Если в последовательности когнитивных элементов решающим становится временной фактор, то фрейм превращается в сценарий, например, «поездка на юг». Сценарий – это фрейм в динамике.
Дополнительная литература
Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. – Воронеж, 1996.
4.6. Влияет ли язык на мышление?
Мышление постоянно воздействует на язык, поскольку основным фактором развития языка является трудовая и общественная практика человека, его познавательная деятельность. Развитие мысли постоянно совершенствует орудие мышления – язык. Но если факт влияния мышления на язык никогда не оспаривался, то вопрос об обратном влиянии стал предметом споров, причём одни полностью отрицают такое влияние, другие же доходят до утверждения примата языка над мышлением. Обе концепции слишком крайни, чтобы быть истинными.
Несомненно, язык влияет на мышление, поскольку язык является и орудием познания, и средством закрепления познанного. Язык, – говорил Р. Барт, – это средство классификации, а всякая классификация есть способ подавления. В речи мысль и формируется, и формулируется, здесь, по замечанию одного исследователя, сознательно воспринимается то, что обобщено в мышлении и языке в форме словесно обозначенных понятий. Например, для детей на ранних этапах их развития называние предмета эквивалентно знанию этого предмета. В дальнейшем отождествление называния и познания преодолевается.
На примере близнецов показана зависимость структуры психической жизни от уровня развития речи. У двух близнецов пяти лет с задержкой речевого развития был недостаточно дифференцированный строй сознания: они не могли организовать сюжетную игру, отсутствовала элементарная классификация. Детям создали объективную необходимость овладения языком – поместили в разные группы детского сада, а с одним близнецом проводили дополнительные систематические занятия по обучению речи. Через три месяца в речи близнецов произошли решающие сдвиги. Речь стала повествовательной и планирующей. В связи с этим появилась сюжетная игра, пробудилась конструктивная деятельность, развился ряд интеллектуальных операций. Близнец, с которым занимались дополнительно, стал заметно отличаться от второго по интеллекту [Лурия, Юдович 1956].
Роль слова в познании несомненна. Вспомним сцену из повести А.Н. Толстого «Аэлита»: «Лось пошёл к озеру по знакомой дорожке. Те же стояли с обеих сторон плакучие лазурные деревья, те же увидел он развалины за пятнистыми стволами, тот же был воздух – тонкий, холодеющий. Но Лосю казалось, что только сейчас он увидел эту чудесную природу, – раскрылись глаза и уши, – он узнал имена вещей». Эта сцена – удачная иллюстрация к замечанию Р. Тагора: «Становясь седьмым чувством, речь может показать нам любую вещь, которую мы прежде воспринимали зрением, в совсем ином свете, чем вызовет в нашей душе не изведанные дотоле эмоции. Будто дополнительный орган наших чувств, язык помогает нам по-новому увидеть мир» [Тагор 1965: 158]. В категорической форме та же мысль прозвучала в рассуждениях В. Шкловского: «Наиболее разработанные структуры – структуры языка. Мы изучаем мир словами так, как слепые щупают мир пальцами, и невольно мы переносим взаимоотношения нашей языковой структуры на мир, как бы считаем мир языковым явлением» [Шкловский 1969: 127].
Мысль о том, что язык не безучастен к мышлению, впервые высказана В. Гумбольдтом, который предполагал, что влияние языка на человека настолько сильно, что оно определяет его мышление и познавательную деятельность. Язык сравнивается им с сеткой, набрасываемой на познаваемую действительность. Отсюда вытекает вывод, что разнообразие языков, определяющих мышление, означает многообразие типов мышления [Гумбольдт 1984].
Находившийся под определенным влиянием В. Гумбольдта, Потебня писал, что слово есть готовое русло для течения мысли. «Наделе язык больше, чем внешнее орудие, и его значение для познания и дела более сходно со значением для человека органа, как глаз и ухо» [Потебня 1905: 643]. У философа Л. Витгенштейна есть аналогичная мысль: «…То, что мир является моим миром, обнаруживается в том, что границы особого языка (того языка, который мне только и понятен) означают границы моего мира» [Витгенштейн 1994:56]. Для философаМ.Хайдеггера «Язык есть дом бытия». Полагают, что вне языка сознание не способно делать обозримыми временные процессы и замыкается в пространстве восприятия наличного данного. Язык способствует тому, что человек стал существом, живущим в социально-историческом времени [Жоль 1990: 17].
Многие писатели и лингвисты ссылаются на факт так называемой тирании языка: «Язык наш часто помогает нам не думать; мало того, он зачастую тиранически мешает нам думать, ибо незаметно подсовывает нам понятия, не соответствующие больше действительности, и общие, трафаретные суждения, требующие ещё диалектической переработки» [Щерба 1957:131]. Слова, выражая и объективируя мысль, делают последнюю самостоятельным объектом анализа. В результате знание подвергается вторичной обработке разумом, что приводит человека к осознанию себя как субъекта познания и действия и даёт ему возможность использовать общечеловеческий опыт поколений [Ерахтин 1984:113]. Замечено, что удачно найденное слово подталкивает мысль исследователя к новым открытиям. Древнегреческое слово кибернетика «искусство управления», попав в лексикон группы учёных под руководством Н. Винера, стимулировало работу по проблемам, лежащим на стыке математической логики, психологии, биологии, вычислительной техники, в результате чего сложилась наука с этим именем. Интересный факт: в лондонском метро по совету специалистов заменили таблички «выхода нет» на «выход рядом». Число самоубийств в подземке значительно снизилось [Книжное обозрение. 1998. № 20. С. 9].
4.7. Гипотеза Сепира – Уорфа, или теория лингвистической относительности
Теория определяющей роли языка нашла своё крайнее выражение в так называемой гипотезе Сепира – Уорфа, известной также под названием теории лингвистической относительности. Теория выступает в двух ипостасях: 1) гипотеза лингвистической относительности: группы людей, говорящие на разных языках, по-разному воспринимают и постигают мир; 2) доктрина лингвистического детерминизма: существует односторонняя причинная связь между языком и познавательными процессами.
Американцы – лингвист Э. Сепир и инженер Б. Уорф – аргументировали тезисы В. Гумбольдта, обратившись к лингвистическим фактам. Э. Сепир (1884–1939) писал: «…Мы видим, слышим и воспринимаем действительность органами чувств именно так, а не иначе, потому что языковые навыки общества предопределили возможность интерпретации действительности» (Цит: [Вопросы языкознания 1992. № 1: 110]).
Языкэвристичен, утверждал Э. Сепир, поскольку его формы предопределяют для нас определенные способы наблюдения и истолкования действительности. Независимо от искусности наших способов интерпретации действительности мы никогда не будем в состоянии выйти за пределы форм отражения и способа передачи отношений, предопределенных формами нашей речи. Всякий опыт, реальный или потенциальный, пропитан вербализмом. Это результат взаимопроникновения языкового символа и элемента опыта. Американский лингвист приводит пример с любителями природы, которые не чувствуют реального контакта с ней до тех пор, пока не овладеют названиями многочисленных цветов и деревьев, как будто, замечает Э. Сепир, «первичным миром реальности является словесный мир» и к природе нельзя приблизиться, не овладев терминологией, «каким-то магическим образом выражающей её» [Сепир 1993: 228]. Отсюда делается важный лингвокультурологический вывод: «Язык в одно и то же время и помогает, и мешает нам исследовать эмпирический опыт, и детали этих процессов содействия и противодействия откладываются в тончайших оттенках значений, формируемых различными культурами» [Сепир 1993: 227]. Только с увеличением нашего научного опыта, считает Э. Сепир, мы научимся бороться с воздействием языка.
Б.Л. Уорф (1897–1941), инженер-химик по образованию и лингвист по призванию, в 1932–1935 гг. изучал язык и социальное поведение индейцев хопи в штате Аризона. В результате он пришёл к признанию полного сходства структуры языка и структуры окружающей действительности и лингвистической обусловленности мировоззрения и поведения людей. Он сравнивает европейские языки с языком хопи и обнаруживает значительные расхождения, делая из этого вывод, что понятия пространства, времени и материи не являются реально существующими, а даны культурой и языком. «Категории и типы, которые мы выделяем из мира явлений, обнаруживаются нами не потому, что они в готовом виде предстают перед каждым исследователем; напротив, мир представляется нам калейдоскопическим потоком впечатлений, который наше сознание организует – в основном при помощи заложенных в него языковых систем» (Цит. по: [Вопросы языкознания. 1992. № 1:С. 111]). Будь Ньютон индейцем хопи, считает Уорф, он открыл бы совершенно другие физические законы, обусловленные другим языком. «Мы сталкиваемся, – писал он, – таким образом с новым принципом относительности, который гласит, что сходные физические явления позволяют создать сходную картину Вселенной только при сходстве или по крайней мере при соотносительности языковых систем» [Новое в лингвистике 1960: 175].
Гипотеза Сепира – Уорфа привлекла внимание многих лингвистов, философов, психологов и этнографов. Мнения их резко разделились. Были опубликованы результаты экспериментов, как будто подтверждающие гипотезу, однако почти все они были подвергнуты сомнению противниками гипотезы [Коул, Скрибнер 1977]. Описан эксперимент с тремя одинаковыми звуками, которые тем не менее по-разному воспринимаются чехом, поляком и французом: первый полагает, что сильнее звучит первый из серии звуковых сигналов, второй – соответственно указывает на средний как наиболее акцентированный, а для француза ярче звучит последний сигнал. Такое восприятие объясняют фиксированностью ударения в чешском, польском и французском языках. Однако в музыкальных произведениях поляка Шопена, чеха Сметаны и француза Дебюсси музыкальные акценты распределены свободно и никаких особых пристрастий не обнаруживают.
Молодой вьетнамский учёный Буй дин Ми под руководством А.А. Леонтьева провёл экспериментальную проверку выводов из опытов Э. Леннеберга и Дж. Робертса – как цветообозначение взаимоотносится с процессами восприятия и запоминания цвета. Исследование строилось на сравнении материала русского и вьетнамского языков.
Результаты эксперимента показали, что действительно цветовой континуум (вся область цвета) русскими и вьетнамскими испытуемыми расчленяется по-разному в зависимости от системы цветообозначения в соответствующем языке. Казалось бы, и эти эксперименты говорят в пользу гипотезы Сепира – Уорфа. На самом деле и русские, и вьетнамцы одинаково видят и запоминают цвета, но по-разному используют язык в процессе расчленения и запоминания цветовых оттенков. Возможны две так называемые стратегии запоминания: «чисто языковая», когда опираются на языковое кодирование оттенков, и «предметно-языковая», когда оттенки запоминаются путём соотнесения с цветом конкретного предмета (цвета спелой ржи, например). И русские, и вьетнамцы могут пользоваться обеими стратегиями, но русские предпочитают первую, а вьетнамцы – вторую, и это объясняется тем, что во вьетнамском языке легко образуются производные «предметные» цветообозначения. Обе стратегии в равной мере хороши, но обладают и недостатками: «чисто языковая» стратегия сокращает время реакции, но уменьшает точность, «предметно-языковая» требует больше времени, но увеличивает точность. Нет стратегии «лучше» или «хуже», выбор её зависит от свойств языка и от естественно-природных и общественно-исторических особенностей жизни народа. «…Не язык диктует тот или иной способ протекания психических процессов, а, напротив, человек использует язык в своей психической деятельности лишь так или в той мере, как и в какой мере это необходимо в данной ситуации» [Буй дин Ми 1973: 25].
Гипотезу Сепира – Уорфа следует признать ошибочной в принципе, так как её сторонники не различают две разные вещи – содержание мышления и технику мышления. Язык влияет лишь на технику мышления, а не на его содержание.
Сторонники гипотезы Сепира – Уорфа обычно прибегают к такому аргументу: в одном языке есть слово, обозначающее то или иное понятие, а в другом нет, или одно и то же понятие по-разному представлено в разных языках. Так, в английском языке есть два слова для понятия, обозначаемого в русском языке одним словом: stairs «лестница внутри» и ladder «лестница наружная», или butter «масло сливочное» и oil «масло техническое». Наоборот, в русском языке земляника и клубника – англ. strawberry; приносить, привозить, приводить равно единственному английскому слову bring. Особенно часто прибегают к словам, обозначающим цвета спектра. В ряде языков нет отдельных слов для голубого или синего цвета, синего или зеленого.
Отсюда делается вывод, что носители данных языков не воспринимают соответствующего цвета. Например, древние греки называли море «фиалковым», вследствие чего некоторые исследователи предположили, что голубого луча греки в солнечном свете не видели [Трубецкой 1990: 212].
Даже в диалектах одного и того же языка по-разному может члениться цветовой или пространственный континуум. В русском литературном языке есть четыре слова, обозначающие четыре периода времени, на которые делится астрономический год: весна, лето, осень, зима. В рязанских же говорах понятие, соответствующее слову год, делится на три периода, называемые словами весна, осень и зима; слово весна в говоре имеет значение «тёплое время года» [Оссовецкий 1982: 136].
Всё дело в том, что понятия могут обозначаться не одним словом, но и словосочетанием, а также метафорически. В английском языке палец на руке или ноге обозначается разными словами: finger и toe. В русском языке только одно слово палец, но это не значит, что русские не различают пальцы рук или ног. Просто, они дифференцируют их при помощи словосочетаний палец руки (= finger) и палец ноги (= toe).
Наличие специальных слов или их отсутствие обусловлено особенностями и условиями жизни народа. И.А. Гончаров в книге «Фрегат «Паллада» отметил, что «у якутов нет слова плод, потому что не существует понятия. Под здешним небом не родится ни одного плода, даже дикого яблока: нечего было и назвать этим именем». В языке недавно открытого маленького племени тасадай манубе нет слов «война», «борьба», «враг», «убить». В языке басса (страна Либерия в Африке) всего два слова, обозначающих цвета, – «фиолетовый, синий и зелёный» и «жёлтый, оранжевый и красный». Это объясняется тем, что преобладающими в данном регионе являются цвет морского побережья и цвет пустыни. Переводчик с японского замечает, как много в этом языке слов, которые означают «тщетные усилия», «бесплодные усилия», потому что вся Япония на 30 % своих островов (остальные – скалы) веками пыталась что-то вырастить, выстроить, борясь с тайфунами, землетрясениями и цунами [Дм. Коваленин. Из интервью. Книжное обозрение. 2000. № 9: С. 3].
Цветовое зрение всех людей не зависит от языка. Нет также связи между степенью различения цветов и уровнем культуры. Когда русские говорят: солнце встаёт или солнце садится, это не значит, что говорящие незнакомы с открытием Коперника и не знают, что Земля вращается вокруг Солнца. В тюркских языках нет грамматического рода, но это не означает, что тюрки не различают пола. В бирманском языке нет обозначения лица, но носители этого языка отлично разбираются в субъектах и объектах общения. Язык, как заметил лингвист Э. Коссериу, является инструментом для преодоления самого себя. «…Нам, людям, по сути дела, не остаётся ничего, кроме как плутовать с языком, дурачить язык. Это спасительное плутовство, эту хитрость, этот блистательный обман, позволяющий расслышать звучание безвластного языка, во всём великолепии воплощающего идею перманентной революции слова, – я, со своей стороны, называю литературой» [Барт 1989: 550].
В современной философской литературе утверждается мнение о том, что в человеческом сознании, помимо логической модели действительности, существует так называемая языковая модель мира, к которой относятся «внутренняя форма слова, языковая специфика взаимоотношения слова и понятия, предложения и суждения, изменения смысловой стороны слова, переносные употребления его, эмоциональная нагрузка слова, нюансы индивидуального использования его и т. д.» [Брутян 1973].
Логическая и языковая картины мира диалектически связаны. В этом единстве определяющую роль играет логическая картина мира, а лингвистическая находится с ней в отношении дополнительности. Согласно принципу дополнительности, «вне зависимости от того, на каком языке люди выражают свои мысли, в их сознании возникает одинаковая логическая модель действительности. Однако эта модель не единственная, исчерпывающая наше познание об окружающем мире. Благодаря языковым факторам мы получаем дополнительную информацию, уточняющую логическую модель и даже иногда вступающую в противоречие с этой моделью. Эта дополнительная информация и зависит от природы и структуры языка, поэтому люди иногда могут по-разному воспринимать действительность, и лишь постольку, поскольку языковое восприятие может иметь воздействие на познание окружающего мира» [Авакян 1972].
Логическая картина мира у всех живущих на Земле примерно одинакова, языковая же – национальна и в известной мере индивидуальна. А. Белый писал о том, что у Пушкина, Тютчева и Баратынского небо разное: пушкинский «небосвод» (синий, дальний), тютчевская «благосклонная твердь», у Баратынского небо «родное», «живое», «облачное». Пушкин скажет: «Небосвод дальний блещет»; Тютчев: «Пламенно твердь глядит»; Баратынский – «облачно небо родное» [Белый 1983]. Поскольку определяющей является логическая картина мира, и она лежит в основе языковой, постольку возможен более или менее адекватный перевод с одного языка на другой [Гачев 1988].
Положительная сторона гипотезы в том, что она привлекла внимание к «языковому восприятию мира», познанию мира через арсенал языковых средств и влиянию такого понимания окружающей действительности на другие формы познания людей и их деятельности [Брутян 1969: 61]. Интересны мысли о влиянии языка на поведение человека, а также поиски в области прагматики языка. Гипотеза Сепира – Уорфа неожиданно получила поддержку со стороны антропонимии. Профессор Б. Хигир и его предшественники обратили внимание на то, что имя, даваемое человеку от рождения, в значительной степени определяют его будущий характер и судьбу. Например: [Хигир 1999].
Теория лингвистической относительности стимулировала появление такой интересной и перспективной области знания, как этнопсихолингвистика, которая изучает влияние различных языков на познавательную деятельность их носителей, неидентичность «членения» действительности в различных языках, влияние языка на поведение людей через образцы деятельности, категоризованные в вербальной форме и существующие в виде мыслительных операций. Об оценке гипотезы в конце XX веке см.: [Кронгауз 1995].
Фундаментальная теоретическая проблема взаимосвязи языка и мышления исключительно важна в практике работы учителя-словесника. Уроки по развитию речи – это одновременно уроки и по развитию мышления. Опыт говорит однозначно: хорошо развитая речь – свидетельство ясной и точной мысли. «Если слова не находятся, неверна сама мысль. В отличие от чувств мысли всегда должны иметь словесный эквивалент. Точное слово – награда за точность мысли» (Вл. Крупин). Культура речи поддерживает культуру мышления. Более того, культура речи поддерживает и культуру чувства. «Хорошо делаете, различая особенности выражений. Именно в этом заключается музыка духа. Не случайны все оттенки речи! Сколько психического пламени пробегает по нервам, окрашивая речь!» (Агни Йога. Сердце).
Учителю русского языка и литературы следует внимательно изучить статью Н.И. Жинкина «Психологические основы развития мышления и речи» [Русский язык в школе. 1985. № 1], так как в ней представлена теоретическая база методики школьных уроков по развитию речи учащихся.
Дополнительная литература
Берестнев Г. И. Самосознание личности в аспекте языка // Вопросы языкознания. 2001. № 3. С. 60–84.
Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М., 1982.
Жинкин Н.И. Психологические основы развития мышления и речи // Русский язык в школе. 1985. № 1.
Потебня А.А. Слово и миф. – М., 1989.
Фрумкина P.M. Психолингвистика. – М., 2001.
Чернухина И.Я. Поэтическое речевое мышление. – Воронеж. 1993.
Этнопсихолингвистика. – М., 1988.
5. Язык и речь
В. Гумбольдт первым высказал догадку, что язык и речь – нечто разное, и в речевой деятельности человека разграничил процесс (энергейю) и продукт (эргон). Вполне возможно, что это представление у Гумбольдта возникло под влиянием философских воззрений Г. Гегеля, достаточно определенно разграничившего то, что стали называть языком и речью: «Звук, получающий для определенных представлений дальнейшее расчленение, – речь и её система, язык – даёт ощущениям, созерцаниям, представлениям второе существование, более высокое, чем их непосредственное наличное бытие…» [Гегель 1956: 266]. Высшее и тончайшее в языке, полагал В. Гумбольдт, постигается и улавливается только в связной речи, и это лишний раз доказывает, что каждый язык заключается в акте его реального порождения [Гумбольдт 1984: 70].
Младограмматики с их индивидуалистическим психологизмом, по существу, сняли эту проблему, сосредоточив всё внимание на речи (языке индивида), и объявили язык коллектива, язык нации научной абстракцией, фикцией. Для них язык представлял собой сумму речи индивидов.
Мысль о том, что целое, именуемое языком, на самом деле представляет собой единство по меньшей мере двух явлений – языка и речи, была высказана в работе И.А. Бодуэна де Куртенэ «Некоторые общие замечания о языковедении и языке». К сожалению, мысль эта в дальнейшем не получила у Бодуэна развития и не выросла в лингвистическую концепцию.
Ф. де Соссюр разграничил понятия языка и речи, объединенные общим и почти не объясненным им понятием речевой деятельности. «…Изучение речевой деятельности распадается на две части; одна из них, основная, имеет своим предметом язык, т. е. нечто социальное по существуй независимое от индивида; эта наука чисто психическая; другая, второстепенная, имеет предметом индивидуальную сторону речевой деятельности, т. е. речь, включая фонацию; она психофизична» [Соссюр 1977: 57].
По Соссюру, речь отличается от языка целым рядом основных свойств: 1) речь – это реализация, язык – установление; 2) речь индивидуальна, язык социален; 3) речь свободна, язык фиксирован; 4) речь случайна, язык существен. В речевой деятельности как бы два уровня информации: осознаваемое (речь, смысл сказанного) и неосознаваемое (язык, структура).
Разграничение языка и речи у Соссюра усилиями его последователей превратилось, по существу, в их противопоставление и привело к представлению о том, что это два автономных объекта. Так, А. Гардинер в работе «Различие между речью и языком» интерпретирует язык как «основной капитал лингвистического материала, которым владеет каждый, когда осуществляется деятельность речи» (Цит: [Звегинцев 1965: 15]). Речевая деятельность, по Гардинеру, представляет совокупность «языка» и «речи». При этом речь сводится к «остатку» речевой деятельности. «Когда я говорю, что определенные явления в данном тексте принадлежат «речи», но не «языку», я разумею, что, если вы исключите из текста все те традиционные элементы, которые следует называть элементами языка, получится остаток, за который говорящий несёт полную ответственность, и этот остаток и является тем, что я понимаю под «фактами речи» [Звегинцев 1965:17]. Такое решение проблемы вызвало жестокую критику со стороны учёных разных направлений и школ.
Академик Л.В. Щерба предложил говорить о трёх аспектах одного и того же явления. Первый аспект – речевая деятельность, включающая процессы говорения и понимания; второй аспект – языковые системы (словари и грамматики языков); третий аспект – языковой материал (совокупность всего говоримого и понимаемого в определенной конкретной обстановке в ту или другую эпоху жизни данной общественной группы). Щерба указывал, что это несколько искусственное разграничение, поскольку «языковая система и языковой материал – это лишь разные аспекты единственно данной в опыте речевой деятельности» [Щерба 1974: 26].
Всех исследователей данной проблемы интересовало, что же связывает язык и речь, исподволь складывалась мысль о каком-то промежуточном явлении между языком и речью.
Известный лингвист Э. Косериу предложил схему, которая была использована в учебном пособии Ю.С. Степанова «Основы языкознания». Выделяются три уровня: 1) уровень индивидуальной речи – реальный акт речи, включающий говорящего и слушающего с их индивидуальными чертами произношения и понимания и акустические процессы, акт, доступный восприятию наших органов чувств, записи на магнитофонную пленку; 2) уровень нормы – язык, рассмотренный «с несколько большей высоты абстракции». Понятие нормы включает лишь те явления индивидуальной речи, которые являются повторением существующих образцов, принятых в данном человеческом коллективе. Норма обладает уже не только материальным, но и идеальным аспектом; 3) структурный уровень – язык, рассмотренный «с ещё большей абстракцией». Структуру нельзя непосредственно видеть, слышать, вообще воспринимать [Степанов 1966: 5].
Исследователь Д.Г. Богушевич предлагает применять не три, а четыре термина для описания того, что называют языком: а) система языка – система средств коммуникации; б) система употребления – система, определяющая уместность использования средств коммуникации; в) речь – актуализация средств коммуникации; г) язык – триединый комплекс системы языка, системы употребления и речи, используемый как орудие общения [Богушевич 1985: 33]. Образно говоря, язык – это совокупность инвентаря, инструкции его использования и результатов реализации инвентаря и инструкции.
Проблему «язык – речь» рассматривают в трёх плоскостях – система, норма и узус. Система – это то, что «в принципе возможно» в языке, норма – это то, что «правильно», а узус – это то, «как говорят». Система и норма в сумме соответствуют языку, а узус – речи. Как взаимодействуют система, норма и узус можно показать на следующем примере [Мустайоки 1988].
Условные обозначения: – S (система), N (норма), U (узус);«+» – соответствует, «—» – не соответствует.
1) много заводов = S + N + U +;
2) много солдат = S – N + U + (вопреки системе, но правильно и употребительно);
3) много тортов = S + N – U + (употребительно и согласно с системой, но против нормы);
4) много апельсинов = S + N + U (согласно с системой и нормой, но неупотребительно);
5) много солдатов = S + N – U – (правильно с точки зрения системы, но не нормативно и неупотребительно);
6) много граммов = S – N + U (эта форма, правда, образована согласно общей системе русского языка, но против определенной подсистемы, словоформа правильна, но неупотребительна);
7) много апельсин = S – N – U + (вопреки системе и норме, но употребительно);
8) много завод = S – N – U – (невозможная форма с точки зрения системы и нормы русского языка; она и не употребляется).
Несмотря на наличие взаимоисключающих точек зрения на некоторые аспекты проблемы в настоящее время в отечественном языкознании складывается следующее представление о соотношении языка и речи как разных состояний, или уровней, одного и того же явления.
В плане гносеологическом язык и речь рассматриваются как явления разной степени абстракции. Язык – это общее, абстрактное, речь – отдельное, конкретное явление. Находясь в обязательной диалектической связи, язык и речь представляют собой относительно независимые явления, о чём свидетельствует факт различия их системного построения, различия функций, неодинаковой степени и некоторой асимметричности их развития, различия их связи с общественной средой.
Структура языка, будучи явлением абстрактным, в отдельности не наблюдается, исследователю доступна только речь, в которой и реализуется языковая система. Речь воплощается в букве и звуках, в диалогах и монологах, в стенограммах и конспектах, а язык материально не существует. Язык – это общая схема всех речений, принадлежащих людям определенной национальности. Это общие для всех правила, по которым нужно строить свою речь, чтобы её поняли другие [Колесов 1976: 6]. Язык, перефразируя Выготского, не облачается в речь, а совершается в речи. Если же языковая система в речи не реализуется, она существует потенциально. На парадоксальный вопрос лингвиста В. Пизани, существует ли язык юкагиров, когда все двести человек, говорящих на нём, «спят и не видят снов», следует ответить утвердительно. «…Язык существует как до речи (потенциально), так и в речи (реально)» [Ветров 1968: 117].
В плане онтологическом язык относят к объектам психическим, а речь – к явлениям физическим (физиологическим), доступным наблюдению. В известной степени язык относится к речи как идеальное к материальному.
С точки зрения функционирования, назначения и цели существования язык представляет собой узус, нечто устойчивое и общепринятое, в то время как речи присуща окказиональность (случайность, уникальность). Детские слова и выражения типа девчонский велосипед, буду конке истом, светлота, царенок, королица, повесил (пальто) – отвесил (пальто), отшилась (пуговица), суразная, чаянно, спун, боюн, непонимаха [Цейтлин 1976] – окказиональны, но построены они по законам системы языка (см.: [Говорят дети 1996]). Степень преодоления языковой привычки определяет уровень выразительности речи. «…Чем выразительнее речь, тем более она речь, а не только язык, потому что чем выразительнее речь, тем больше в ней проступает говорящий, его лицо, он сам. В художественных произведениях поэтому речь действующих лиц служит, и притом именно своей выразительной стороной, одним из мощных средств для их характеристики» [Рубинштейн 1975: 127–128].
Широко известно утверждение, что язык социален, а речь индивидуальна. Это противопоставление должно быть рассмотрено более внимательно. Речь, действительно, индивидуальна, но индивидуальна по исполнению, значение же её как средства общения в коллективе социально. «И язык, и речь имеют общественную, социальную природу. Но в акте общения социальная природа языка принимает форму индивидуальной речи. Язык в акте общения не существует иначе, как в форме индивидуального говорения… Язык социален по своей природе; индивидуальная форма по своей сущности также социальна. Индивидуальное не противоположно социальному, оно является только формой бытия социального» [Ломтев 1976: 58].
Язык, будучи общественным явлением в самом широком смысле этого слова, индивидуален по месту своего нахождения. Являясь одновременно и социальными, и индивидуальными, язык и речь в то же время различаются соотношением этих двух моментов. Диалектическая связь их необходима: «Индивидуальность исполнения обеспечивает особенность, уникальность и актуальность речевого акта, социальность языка гарантирует взаимопонимание индивидов» [Мыркин 1970: 104].
По мнению А.Н. Савченко, речь – это процесс сознания, выражаемый посредством языковых знаков. Язык – материал для построения речи, а речь – здание для мысли, точнее – для процесса сознания, возводимое из этого материала. Характер здания определяется не только свойствами материала (языка), но и свойствами индивидуального сознания человека [Савченко 1986: 62]. Высказывается предположение, что язык закодирован в мозгу человека, и в этой форме он существует вне речи, вне речевых произведений. Он представляет собой не средство общения, а языковую память, средство, которое совокупно с работой мысли и органов речи создаёт язык. Иначе, есть язык-память и язык-средство общения [Миллер 1987: 39]. Видимо, следует согласиться с мнением лингвиста В.А. Звегинцева, что речь – это язык плюс мысль, а потому в поле зрения исследователя надо держать не два, а три явления: мышление, язык и речь [Звегинцев 1977: 94].
Для речи важен контекст – вербальный, физический, исторический, социальный, культурный и т. д., – ибо речь, или говорение, есть употребление языка.
Соотношение языка и речи – одно из существенных отличий естественного языка от других знаковых систем. Если в знаковых системах текст является простой реализацией кода (код – правило, позволяющее соотносить с каждым передаваемым сообщением некоторую комбинацию различных сигналов), то речь не только реализует языковую систему, но и выходит за её пределы тем, что в ней есть индивидуальные особенности и различные новообразования. «– Оставьте, Борис, вы такой дипломат (слово дипломат было в большом ходу у детей в том особом значении, какое они придавали этому слову)…» (Толстой Л. Война и мир. Т. 1.4. 1. XI).
Без учёта диалектики соотношения языка и речи не могут быть удовлетворительно решены многие лингвистические проблемы. Специалисты в области лексикологии утверждают, что без разграничения языка и речи невозможно создать сколько-нибудь непротиворечивую теорию синонимии. Не учитывая этой проблемы, нельзя представить характера развития языка: «…Речь и предшествует языку, и следует за языком, и содержит его в качестве одной из своих сторон» [Ветров 1968: 120]. Академик В.В. Виноградов заметил, что язык не только порождает речь, не только сдерживает её поток, но и питается ею, преобразуется под её сильным воздействием. Язык живет самим процессом речи, – полагал известный философ XX в. Х. – Г. Гадамер. «…Хотя речь и предполагает <…> употребление заранее данных слов, обладающих всеобщими значениями, она вместе с тем представляет собой процесс постоянного образования понятий, благодаря которому осуществляется дальнейшее развитие языка и его значений» [Гадамер 1988: 497].
Принимая за основу рассуждений идею о диалектической взаимосвязи языка, речи и мышления, отдельные исследователи не без оснований полагают, что в этом единстве каждый компонент в разное время мог быть преобладающим. Поскольку архаической функцией речи в эпоху глоттогенеза было не столько сообщение информации, сколько организация, программирование поведения, то она была ведущей. Архаическое говорение было в значительной степени речью вне языка, речевые акты находились вне рамок стабильной языковой системы. В наши дни представление о речи вне языка кажется парадоксальным, но специалисты указывают на то, что умелое ситуативное использование речи даже на не знакомом слушателю языке может быть вполне эффективным. Языковая компетенция современного рядового носителя языка как слушателя обычно выше его же компетенции как говорящего. Можно полагать, что различие компетенций для наших предков было максимальным. Если предположение справедливо, то можно принять такую последовательность развития человека: речь предшествовала языку и служила его базой, а язык предшествовал сознанию и способствовал его становлению. Изложенная концепция не противоречит тезису о социальной природе языка. Носителями потенциального языка были отдельные индивиды, но индивидуальная речь, организующая поведение, оказалась способной объединить группу лиц. В речевой деятельности индивидов складывались элементы языковой системы [Манин 1987].
Проблема «Язык и речь» тесно связана с понятием дискурса и дискурсного анализа. Дискурс (фр. discours – речь) – в широком смысле представляет собой единство языковой практики и экстралингвистических факторов… необходимых для понимания текста, т. е. дающих представление об участниках коммуникации, их установках и целях, условиях производства и восприятия сообщения [Новейший ФС 1998: 222]. Это связный текст в совокупности с экстралингвистическими факторами, взятый в событийном аспекте. Это речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, речь, «погруженная в жизнь» [АЭС 1990: 136].
Дискурсный анализ – это междисциплинарная область знания, связанная с лингвистикой текста, стилистикой, психолингвистикой, семиотикой, риторикой, философией. Известна французская школа дискурсного анализа, обращающая особое внимание на идеологический, исторический и психоаналитический аспекты дискурса. В работах виднейшего представителя этой школы М. Фуко «дискурсия» понимается как сложная совокупность языковых практик, участвующих в формировании представлений о том объекте, который они подразумевают. М. Фуко стремится извлечь из дискурса те значения, которые подразумеваются, но остаются невысказанными, невыраженными, притаившимися за тем, что уже сказано. Суть дискурсного анализа – «отыскать безгласные, шепчущие, неиссякаемые слова, которые оживляются доносящимся до наших ушей внутренним голосом. Необходимо восстановить текст, тонкий и невидимый, который проскальзывает в зазоры между строчками и порой раздвигает их. <… > Его главный вопрос неминуемо сводится к одному: что говорится в том, что сказано?» [Фуко 1996: 29]. В ходе дискурсного анализа учитывают не только лексико-синтаксическую структуру текста, но и то, когда, где, кем текст был написан, к кому обращен, по какому поводу, с какой целью, в чьих интересах, каковы оценочные, идеологические установки автора [Алисова 1996: 7]. Особый интерес для этого анализа представляет паралингвистическое сопровождение речи, внеязыковые семиотические процессы.
Проблема соотношения языка и речи очень актуальна для практики преподавания языка. Известный датский лингвист О. Есперсен, например, предлагал учить языку только через речь, точнее, через текст: не давать учащимся заранее ни представления о строе языка, ни правил грамматики, а добиваться того, чтобы они сами, читая тексты, выявляли структуру языка. Столь же правомерен и другой подход, когда обучаемому задаётся набор основных правил грамматики, и он должен построить правильный текст. Возможны и другие решения. Методисты, например, предлагают ввести в школьную практику интегрированный курс «Языки речь» [Капинос 1994].
Новым направлением в методике преподавания иностранных языков стало обучение языковым (точнее: речевым) моделям. Создан единый учебный курс английского языка, построенный на таких моделях. В Сорбоннском лингвистическом центре (Франция) создали словари французского языка, в которых вместо привычных слов представлены речевые клише. Внимание к речи стимулировало разработку теорий речевого акта и речевой ситуации. Слово изучается в тесной связи с явлениями параязыка.
Вопрос «Чему мы учим – языку или речи?» – далеко не праздный, так как при разных ответах на него будут избраны совершенно разные подходы к методике обучения родному и чужому языку. Разрабатываемая в наши дни психолингвистами и лингводидактами теория речевой деятельности, для которой проблема «язык – речь» является центральной, красноречиво это доказывает.
Дополнительная литература
Левонтина И. Б. Речь и язык в современном русском языке // Язык о языке. – М., 2000. С. 271–289.
Румянцева И.М. Язык и речь в свете обучения: лингвопсихологический подход // Вопросы филологии. 2000. № 1. С. 33–40.
6. Этнос и язык
6.1. Язык и этнические общности
«Язык есть исповедь народа; в нём слышится его природа, его душа и быт родной» (П. Вяземский). Будучи важнейшим средством общения людей, язык служит необходимым условием этнической общности – исторически возникшего вида социальной группировки людей, представленной племенем, народностью, нацией (от греч. ethnos – племя, народ). «…Этнической общностью в самом широком смысле слова можно считать всякую осознанную культурно-языковую общность, сложившуюся на определенной территории, среди людей, находящихся между собой в реальных социально-экономических отношениях» [Арутюнов, Чебоксаров 1972: 10]. Этнос – это то, что объединяет людей изнутри, культурно и духовно. Идентификационными признаками этноса являются расовая принадлежность, цвет кожи, географическое происхождение, язык, обычаи и религия. Границы этнической идентичности подвижны, динамичны и культурно обусловлены [Орлова 1994: 149].
Известно, что народность формируется как языковая группа. «…Народ и язык один без другого представлен быть не может» [Срезневский 1959: 16]. Именно поэтому названия народа и языка совпадают. Полагают, что среди четырёх составляющих национального самосознания – 1) этническое, 2) культурное, 3) языковое и 4) религиозное – доминантным является языковое. Приводится мнение известного культуролога П.М. Бицилли о том, что народы меняют свои учреждения, свои нравы и обычаи, даже свою религию, своё местожительство, всё – кроме языка [Нерознак 1994: 17–18]. «Язык наиболее точно характеризует народ, ибо является объективным духом» [ФЭС 1998: 554].
Вызывает споры положение о том, что важнейшим признаком нации является язык. Язык – главное условие возникновения этнической общности. Являясь основой общественного существования народа, он сплачивает людей и, благодаря своей осмысленности, принимает их в свою область, служит этносу и в значительной мере определяет его [Костомаров 1995: 49]. Этническое самосознание базируется на родном языке и реализуется в нём.
О необходимости изучения «многочеловеческой» личности – народа – говорил еще Н.С. Трубецкой, один из создателей социально-политического учения евразийства [Трубецкой 1927: 3–7]. Соотношение языка и нации не есть их тождество. В ближайшие к нам эпохи не всегда можно поставить знак равенства между языком и этнической общностью. Во-первых, нации складываются из значительного количества этнических компонентов со своими языками. Так, английская нация сложилась более чем из десяти, грузинская – из семнадцати этнических единиц. Во-вторых, трудно различить язык и диалект. Это в основном проблема не лингвистическая, а социально-политическая. Одно и то же языковое образование в разных политических и государственных условиях рассматривается по-разному. Так, на территории Болгарии есть македонский диалект, который в Македонии обладает статусом языка суверенной страны. В-третьих, – и это самое главное – одним языком пользуются разные нации (британская, североамериканская, канадская, австралийская, новозеландская – английским, испанская и восемнадцать наций Центральной и Южной Америки – испанским) или одна нация говорит на нескольких языках. Например, в Швейцарии официально и в быту используются четыре языка. Есть этносы двух-и трёхъязычные (парагвайцы, люксембуржцы, лужичане). Одна нация может пользоваться хотя и близкородственными, но разными языками (мордва, мари, норвежцы).
Правда, аргумент, что нация говорит на разных языках или что одним языком пользуются разные нации, встречает контрдоводы. Во-первых, один и тот же язык, обслуживая разные этнические общности, приобретает специфические черты, которые позволяют говорить о вариантах, способных в перспективе превратиться в близкие, но разные языки. Так, говорят об американском и австралийском вариантах английского языка. Вспомним парадокс Б. Шоу: «Англия и Америка – две страны, которые разделяет один и тот же язык». На территории бывшей колониальной Британской империи сложились упрощенные варианты английского языка. По данным Лондонского университета, их более 500 с числом объясняющихся на них свыше 100 млн человек.
Специалисты считают, что испанский язык аргентинцев является не диалектом, а национальным вариантом испанского языка, возникшим вследствие развития местной, аргентинской культуры, усиления её специфики. Варианты национальных языков начинают складываться прежде всего на уровне семантики и охватывают затем фонетические, морфологические и синтаксические ярусы языковой системы. «…Каждый конкретный язык стремится превратиться в надлежащее выражение национального самосознания…» [Сепир 1993: 245].
Во-вторых, полагают, что в случае со Швейцарией или Бельгией мы имеем дело не с нацией, не с этническим, а государственно-политическим объединением. Также остаётся открытым вопрос, можно ли говорить как о монолитных о мордовской и марийской нациях.
В решении проблемы соотношения языка и нации ещё много неясного, но несомненно одно: нет оснований впадать в крайности, отрицая связь этнической общности со строго определенным языком или, напротив, преувеличивая жёсткую фиксированность этой связи. Современная наука, изучающая социальные процессы внутри человеческих коллективов, подтверждает необходимость единого языка для поддержания существования этноса.
6.2. Язык в концепциях этногенеза