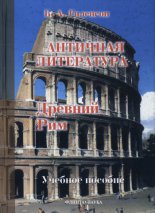Живая вода времени (сборник) Коллектив авторов

Удивительные судьбы людей, живущих на рубеже тысячелетий в разных уголках нашей огромной страны, переплелись сложным узором прозаического и поэтического кружева на страницах этого литературного сборника. Северная романтика и южная страсть, боль человеческих потерь и радость обретения любви, героизм трудовых будней и серость столичной суеты, а главное, трепетная любовь к России пронзительно-реалистично переданы авторами этой книги на суд взыскательного читателя. Кто же эти люди, решившие поделиться с нами своими искренними литературными переживаниями о времени? Вот здесь и кроется главная «изюминка» этого сборника! Ведь среди его авторов – уже признанные русские писатели и еще только начинающие свой путь в большой литературе. Учителя и ученики… Всех этих разных людей сплотило в жизни «Творческое объединение литераторов газовой промышленности». А теперь и собрало под одной обложкой оригинальной книги «Живая вода времени».
Владлен Дорофеев, председатель правления НП «Творческое объединение литераторов газовой промышленности»
Владимир Крупин
Сталинская дача
Слаб человек – позвали меня на конференцию к Черному морю, я все бросил и полетел. Устроители оплачивали и дорогу, и пребывание. А пребывание было не где-либо, а на бывшей даче Иосифа Виссарионовича Сталина. О даче я узнал позднее, когда нас с батюшкой, отцом Сергием, везли из аэропорта.
– Тоже интересно, – сказали мы враз.
– Согласитесь, – сказал я, – что Сталин выходит на место главной личности двадцатого века.
– Тысячелетия! – воскликнул отец Сергий. – Это Аттила нового времени, вождь гуннов. Как гунны были бичом Божиим в первом тысячелетии, так и большевики во втором. Спросите священников, сколько записочек об упокоении раба Божия Иосифа несут в день его рождения и смерти и девятого мая. Огромнейшая фигура! Кстати, к убийству царя он совершенно не причастен, совершенно очевидно, что он шел к возрождению монархии. Более того – помог местоблюстителю занять Патриарший престол. Если б демократы были поумнее, они б бросили зряшную затею – очернять Сталина. Чем более они копают под него, тем более он возвышается в глазах народа. Хвалили б лучше, а то рухнет на них в один прекрасный день.
– А за что хвалить?
– Как за что? – изумился отец Сергий. – За выход в космос, за спасение от чумы фашизма. Это-то уж точно чума сатанинская, фашизм. Вы же читали отзыв Черчилля о Сталине. Конечно! Взяв Россию с деревянной бороной, оставил ее с ядерным оружием. Без него здесь бы уже новые американцы жили. Что говорить! Все по Божию промыслу: и создание СССР, ибо только такой соединенный народ мог свалить Гитлера, и распад СССР – все промыслительно.
– Распад – промыслительно? А как же евангельское – дом, разделившийся сам в себе?
– Но надо же и России спастись! Не все же ей тащить на себе свинцовую тяжесть окраин. Нам хватит остатков империи.
– Какая ж империя без императора?
– Ядерная, – засмеялся батюшка. – О, море! Море ворвалось в пространство и стало главным в нем. Горы, зелень деревьев, черный мокрый асфальт широкого шоссе – все отступило под напором небесного сияния воды и неба. Мы неслись на большой высоте над уровнем моря, но море, на взгляд, было выше нас, выше гор, и непонятно, что сохраняло нас от затопления.
– Но почему же, – спросил сопровождающий, везущий нас, – почему демократам надо, как вы сказали, возвеличивать Сталина?
– Евреев спас, – хладнокровно отвечал батюшка. – Вся демократия в России насквозь еврейская. Спас от Гитлера и хотел окончательно спасти, дал землю. Не поняли, отравили.
– Землю? В Сибири? Вы имеете в виду Биробиджан? – спросил сопровождающий.
– Прекраснейшее место! – доложил батюшка. – Я был там с лекциями, замечательные места. И спокойные, замечу, в отличие от Крыма. И, кстати, – батюшка поднял руку, – с этих наилучших сибирских земель были согнаны коренные жители.
Машина резко повернула вправо, в незаметное ответвление дороги и поехала потише вдоль высокого, обросшего лианами забора.
– Под зеленью, конечно, колючая проволока? – спросил батюшка.
– Нержавеющая! – довольно отвечал сопровождающий. Мы въехали в раскрытые на одну половину железные ворота. Оказались в квадратном дворе.
– Хм! – оценил батюшка. – Совершенно типичный средневековый монастырь. Окна во двор, наружу окон почти нет. Постройки из дерева. Это полезнейшее для здоровья. Воздух, – он глубоко вдохнул, – на полчаса дольше проживу от одного вдоха. Закрыто для людей, открыто для небес.
– Вообще могу сказать, – сообщил сопровождающий, когда водитель ушел к администратору, – что Сталин провел, мы так считаем, здесь и большую и лучшую часть жизни. Он жил здесь по полгода и больше, иногда по году.
– А-а, – заикнулся я, – а Москва, а Кремль, а страна?
– Двойники, – отвечал сопровождающий. – Прием делегаций, стояние на мавзолее, приветствие поднятой рукой, награждение передовиков, парад в Тушино… А управление страной отсюда.
Пришла администратор Оля. Конечно, Оля, она была с натяжкой Оля, но так и представилась: Оля. Повела в номера.
– Мне в сталинскую спальню! – бодро попросил батюшка.
– А вы знаете, он спал везде, – отвечала Оля. – Все комнаты каждый день застилались чистым бельем, и никто не знал, где он будет спать. Так что ваше желание, святой отец, будет выполнено.
– Господи Боже мой! – воздел руки батюшка. – Это вас так католики обучили к священникам обращаться? Какой я святой отец? В лучшем случае: ваше высокопреподобие. Были тут католики?
– Тут весь мир был, – отвечала Оля. – Посмотрите книгу отзывов. И Брежнев был, и Хрущев.
– А новые? Горбачев, Ельцин?
– Почему-то нет.
– Побоялись, – решил батюшка. – Испугались. Будут спать, а Сталин выйдет из стены и… и их кондрашка хватит.
– А вообще у нас верят, что его призрак ходит. Даже одна горничная ушла с работы. Говорит: слышала шаги. Так и уволилась. А в каминную, где фигура, боялась ходить.
– Значит, еще и фигура?
– Да, в каминном зале. Хотите посмотреть?
Мне отвели огромную комнату на две половины, спальню и деловую, со столом, стульями, диваном, телевизором. Окна глядели на горы. Конечно, хотелось на воздух, стряхнуть с себя и холод московский, и московскую суету, но уже надо было завтракать и ехать на конференцию. Конференцию, посвященную единению религиозных и светских усилий в деле борьбы за нравственность общества. Постучалась и вошла горничная, на груди белого халата вышито: «Таня».
– Администратор сказала, что вы хотите посмотреть Сталина. Идемте, я провожу в камзал.
Мы пошли по широким, застланным коврами коридорам, по лестницам из красного дерева, ни одна ступенька не скрипнула, и открыли тяжелые черные двери. Я вошел и вздрогнул – за столом, на фоне карты СССР, в зеленом френче с желтыми пуговицами сидел вождь всех времен и народов. Таня подошла к нему, говоря:
– Сейчас голова хорошая, а раньше я боялась, будто откопали из могилы, присадили на шею и глаза открыли.
Трубку все время воруют, я уж когда компании, то трубку беру и в карман. Его-то трубку давно своровали, а с этой, магазинной, фотографируются.
– Фотографируются?
– Да. Кто рядом садится, кто сзади стоит, кто вроде как пришел с докладом (перед вождем лежала папка «К докладу»), кто посмелее, обнимет за плечи. Ой, левая рука упала. – Таня стала поправлять то ли восковую, то ли костяную руку. Рука никак не хотела лежать на подлокотнике, проявляла характер. – Ой, я раньше боялась трогать, сейчас ничего, надо же пыль вытирать, вытираю. Ну, все-таки не как с мебели. Это письменный прибор, Мао Цзэдун подарил.
Перед вождем на столе лежала записка: «Дела на сегодня». О сносе Сухаревской башни, с резолюцией Сталина: «Архитекторы, возражающие против сноса, слепы и недальновидны». Был список и других дел, но я не успел их прочитать, так как Таня, справясь с рукой, поправив китель, как поправляла бы у инвалида в коляске, вопросительно посмотрела.
– Под окном две березы, он сам посадил, уже после войны. И примета, говорят, посадил березу, тут жить не будешь, уже не здесь умер. Жил бы здесь, не умер бы. Так ведь?
– Из-за климата?
– Вообще.
Что вообще, я не понял, но было пора идти. После завтрака нас повезли в город на конференцию. Одним из первых выступал большой чин из силового министерства. Для начала заявив, что он – атеист, генерал четко сообщил данные о том, что в том населенном пункте, где возрождается или строится православный храм, криминогенная обстановка «вскоре дает положительные результаты».
– То есть: больше церквей – меньше тюрем, – прокомментировал рядом сидящий отец Сергий. – Вот ведь как: Валаамовы ослицы молчат, камни не вопиют, но атеисты уже свидетельствуют о Божием присутствии на земле.
Батюшка выступал легко, умело, доказательно. Тема: наука и религия.
– Душа давно знает то, что разум открывает только что. Ссылки на высокие авторитеты Менделеева, Пирогова, Павлова, Кеплера, посрамление науки для науки и искусства для искусства, тонкая критика недостатков некоторых священников, призыв к взаимодействию – все это, высказанное живо, убедительно, заставило зал и, я заметил, генерала внимательно слушать батюшку.
Мне в своем выступлении осталось посрамить французских энциклопедистов, так называемых возрожденцев, приведших Францию к революциям, похвалить Гете, Шиллера, Гердера, сохранивших немецкую монархию, поругать Руссо за то, что сильно искалечил мировоззрение Толстого и его читателей. Так как ни Толстой, ни Руссо, ни энциклопедисты мне не возражали, то я с ними легко справился.
В перерыве нас поили чаем и кофе. Я увидел широкую спину генеральского мундира, загнавшего в угол черную рясу. Однако не успел я выпить и одной чашки, как мундир и ряса поменялись местами. Я пошел выручать генерала.
– России не на кого надеяться, только на церковь и на армию, – сказал я дежурную, но нестареющую фразу.
И генерал, и отец Сергий присоединили меня к своему разговору. Говорили о нынешнем руководителе.
– …А вспомните, генерал, – говорил отец Сергий, – из какого, простите, иудейского окружения вышел Сталин. Симпатичный грузин, везет с Кавказа бочку кахетинского, всем нравится. И что он со всеми ними сделал? Всего за каких-то пятнадцать лет.
– Да, – довольно подтверждал генерал. – Троцкого возмездие настигло в Мексике. Но сейчас сроки короче.
– Успеет ли? Да и начало, я для вас повторю, – он адресовался ко мне, – я говорю товарищу священнику, что начало не очень: дается отпущение, так сказать, грехов проворовавшейся камарилье, так сказать, неприкосновенность кремлевской банде. Армия поддержала его в предвыборную кампанию, обеспечила расстановку сил, но первыми шагами не очень довольна. Да-да, в армии много здравомыслящего офицерства. И не только генеральские дачи растут, но и уровень понимания.
Далее по программе был смотр номеров, посвященных теме религии в нашей жизни. Так нам объяснил сопровождающий. Мне, конечно, очень хотелось сбежать, я же еще не был у моря, не омочил в нем руки, не увлажнил соленой влагой лицо. Но надо было честно отрабатывать гостеприимство. Ох, это было трудно. Трудно потому, что смотр начался феерией на библейские темы. Чего-чего, а феерии тут хватало. Причем, и костюмы, и музыка, и танцы, хор, голоса солистов, постановка цвета, декорации – все было замечательно. Одно, главное, было ужасно: все это было нецерковно и даже, даже кощунственно. Именно так. Я не мог подобрать другого слова. Вот змий – бес в черном трико с хвостом, вот Ева, вся, скажем так, в предельной обнаженности: одеяние настолько телесного цвета, что его как бы и нет. Вот Адам, наряд соответственный. И не поспоришь – в раю живут, стыда первородные люди не знали. Вот змий, музыкально сплетаясь вокруг Евы, всучивает ей красное яблоко. Вот Ева, то прыгая на Адама, то валяясь с ним по сцене, уговаривает его укусить яблоко, кусает и сама. Змий торжествует, гром и молния. Музыка, сообщено в программке, разная: Рахманинова, Бортнянского, Шнитке, а также «богослужебная». Все время на сцене кордебалет, изображающий то печаль, то отчаяние, то хаос, то надежду. Тоже все скромно одеты. Далее, идем по тексту Библии, Каин убивает Авеля, опять молния и барабаны. Далее изображение сцен из новозаветной истории: Святое семейство, ясли Вифлеема, Ирод, избиение младенцев, бегство в Египет. На сцене, покрытый ковриком, осел. Хор поет рождественский тропарь.
Все время представления сопровождающий шепчет мне об огромных затратах, выложенных спонсорами на костюмы, музыку и декорации, о том, что тут и профессионалы и любители, что очень старались и т. п.
Оглянувшись, я не увидел в жюри ни батюшки, ни генерала. На каком-то этапе библейской истории они десантировались в современность. Но мне уже было не смыться. На обсуждении, ненавидя сам себя, я мямлил о хорошей игре, о профессиональности танцоров, о согласном звучании хора. И только робко заметил, что надо бы это действо, эту феерию, показать архиерею. Мне было отвечено, что показали. Не архиерею, но показывали.
Я сказал сопровождающему, что доберусь до дачи сам, обещал не опаздывать к ужину и побежал вниз. У моря не сезон, почти никого не было. Море, я отнес это на свое поведение, было неприветливым. Выплескивало на берег мусор, куски целлофана, пластиковые бутылки, пробки. Облака, как неведомые живые горы. Но было, честно сказать, не до заката. Все вспоминалось обсуждение. Как дружно хвалили феерию. Еву особенно. Она, оказывается, и в жизни была по имени Ева, сидела на обсуждении одетая уже побольше, чем на сцене, и всем обещающе улыбалась. Да-а, вот такое искусство угождает духу мира сего. Да, тут сбывается мечта масонов – преподносить религию частью мировой культуры. И я, получается, все это одобрял. То есть я куплен за поездку к морю, за самолет, кормление, за сталинскую дачу. Кстати, пора на ужин.
На даче, увидев батюшку, хотел выкорить ему отсутствие на обсуждении, но понял, что ему не до меня. Он воспитывал генерала. Генерал смотрел ему в рот. Видно было, они сдружились. Держали в руках холодные, запотевшие бокалы, отхлебывали.
– За вами надо записывать, – говорил генерал.
– Как записывать? – изумлялся батюшка. – А офицерская память, знание назубок уставов, правил, инструкций? Так вот. – увидев меня, батюшка доложил: – Не пью, а работаю. Воцерковить генерала – это, знаете ли. Так вот, повторяю, не надо заниматься устройством небес, надо думать, как попасть на небо. Вы были комсомольцем?
– Естественно, – рапортовал генерал.
– И естественно продолжайте им быть. Как? Продолжайте соблюдать Устав ВЛКСМ. Цитирую: «Член ВЛКСМ обязан всеми средствами вести борьбу с религиозными предрассудками». Вот я, например, веду.
– Но ведь давят, давят нас, – говорил генерал.
– Помните «Окаянные дни» Бунина? – успокаивал батюшка. – Помните, комиссар кричит, что скоро будет мировая революция, а ему отвечают, что не будет. Почему? «Жидов не хватит». Так вот, их снова не хватит. В понятие «жиды» я не вкладываю никакой национальной основы. Жид – космополитичен. Когда он излишне космополитичен, он тормозится им же, подчеркиваю, им же вызванным национализмом.
Нас позвали в зал. Но не в каминный, он был сегодня занят, а в другой, тоже очень красивый, просторный. Столы были накрыты так обильно, что я даже и раздумал рассказывать батюшке о феерии. Тем более, что нас рассадили. Была за столом и Ева, уже в вечернем платье, опять же ее обнажающем. Сидели и актеры. Но кто «змий», кто «Адам», я не рассмотрел. Вскоре зал огласился тостами, здравицами и пением многолетия. Уставший за долгий день от шума и разговоров, я, выждав паузу, выбрался в коридор, а оттуда к себе в комнату. Проходя мимо каминного зала, услышал дружный застольный хор, исполняющий любимую песню Сталина «Сулико». Мы ее в школе пели. Официантки бегом несли в зал любимые вина вождя.
В комнате включил телевизор. Ну, сегодня был, видимо, особый денек. Или я редко смотрю телевизор, или именно все так скопилось на этот вечер, что, какую бы я программу ни включал, всюду были похабщина, разврат, грязь и пошлость. Густо выдавливались из мутного бельма голубого экрана пьянка, насилие, постель, стрельба. На одном канале дрались, на другом – спаривались, на третьем – учили спариваться, на четвертом насиловали классику и показывали похоронное шоу, то есть похороны кого-то, имевшего отношение к театру, и ему, лежащему в гробу… хлопали. Да-да, аплодировали. На пятом это повторялось и усиливалось речами. Причем, хлопая, почему-то все жевали. Жевали вообще на всех каналах. И если бы я был заброшен с другой планеты, я бы искренне решил, что жители Земли – жующие животные, осыпанные перхотью, чистящие зубы три раза в день, носящие прокладки в какие-то критические дни, уничтожающие запах пота, стирающие порошками, чистящие раковины и пьющие пиво бочками. Словом, все достижения свободного от совести Запада лились на меня из телестекляшки. «А вы пробовали изменять мужу? – допрашивали какую-то женщину. – Попробуйте. Это изменит вашу жизнь». Все перекрывая, комиковали кавээнщики-перестарки. Сил нет – выключил. Стоя под душем, думал, чем я-то лучше аплодирующих покойнику? Одобрял же издевательство над религией.
Хотел уже ложиться, но почему-то вновь оделся. В окне метались тени ветвей. Явно был ветер, и немаленький. То вдруг он утихал, будто ждал чего-то, то вновь подступал.
В коридоре послышались дружные шаги, остановились у двери. Батюшкин голос:
– Тут борец с Вольтером и Руссо. Зайдем? Нет, наверное, отдыхает. Кстати, помните историю, как сюда просился пожить актер, игравший роль Сталина? Чтобы войти в образ.
– И что?
– Сталин сказал: а почему бы ему не начать вписываться в образ с Туруханска? И еще, кстати: взросление Сталина происходило в вологодских, вятских, пермских, красноярских местах, а?
– Отец, отец, – говорил генерал. – Доскажи понятие о власти. Категория власти – это принцип, это азимут, это альфа и омега военного мышления. На кого ставить? Или готовить дворцовый переворот?
– Отвечаю. Но притчей. Монаха, немонашеского поведения, поставили в епископы одного города. Монах возгордился: вот я какой. Ему является ангел и говорит: «Жители города так развращены, что для них никого, хуже тебя, не нашлось». Понятно?
– Абсолютно! – отвечал генерал.
– Абсолютно.
Они ушли. Зазвонил телефон:
– Может быть, что-то нужно? Фрукты, минеральная вода, чай?
– А могу я выйти?
– Вообще-то гости еще не уехали. Ваши уже разошлись, гости тоже заканчивают. Детское время вышло.
Я вышел. В каминном зале шумели, но тише, без «Сулико». Официантки выносили грязную посуду и осколки хрустальных бокалов. Администратор Оля вышла со мною в теплоту и аромат южной ночи.
– Здесь зимой нет жильцов, только наездами. Дача непросто дорогая, а очень-очень. Новые русские, новые кавказские приезжают, ужинают с «вождем», фотографируются. Иногда с девицами, чаще без, чаще с картами. До ужина или после – сауна. Иногда и до и после. Сегодня без сауны. Но с девицами. В карты играют, прямо как в кино про мафию. Молча. Деньги кидают пачками, обертки не срывают. Водители их пьют отдельно, охранники не пьют.
– Жуют только.
– Правда, – подтвердила Оля, – жуют. Бритые, скулы квадратные. Если ночуют, то утром только кефир, простоквашу, кофе. Ой, – поежилась она, – холодно. Скорее бы уезжали, я б уж закрылась и спать.
Ей было холодно, а мне после холодной Москвы было так уютно, тепло в благодатном нагретом воздухе лунной ночи. Побыть бы тут хотя бы недельку, но наутро лететь. Я обошел дачу по внутреннему периметру двора, хотел выйти за пределы. Но железные ворота были соединены цепью, а цепь – амбарным замком. Похоже на тюремный двор, но двор шикарный. Обошел клумбу в центре, вспоминая рассказ о водобоязни Сталина, тут, на месте клумбы, был бассейн, который за день до приезда вождя приказал засыпать Берия. Если раскопать клумбу, можно увидеть мозаику. Да, хорошо бы полюбоваться луной над морем. Но моря не было видно, и взгляду, кроме пальм и кипарисов, досталась только луна, ее наклоненное навстречу бегущим облакам желтое лицо.
Вверху, в вершинах деревьев, шумело. Шумело как-то порывами, одушевленно. Около матовых окон сауны увидел дверь, светящуюся надпись «Пляж». Какой пляж? А, это был лифт на пляж. Дача высоко над морем, не ходил же вождь к нему пешком. Я вошел в лифт. Маленький, человека на три. На стене две кнопки. Я нажал нижнюю и поехал вниз. Сколько я ехал, показалось – вечность. Будто проваливался в центр земли, становилось все жарче. Наконец остановка, двери разъехались. Передо мной был тоннель с сырыми стенами, холодными сквозняками, с матовым светом от потолочных выпуклых фонарей. Тоннель вел к морю. Навстречу несся и усиливался тяжелый шум. Вышел к берегу. Накатывались волны, черные, холодные. Вот одна откатилась, я пошел вслед за ней, новая волна хлестнула меня, потом и всего окатило. И все-таки не хотелось уходить. Даже какой-то восторг, робость перед силой стихии охватили. Подумалось – это море гневается на нас за сегодняшний непотребный день, за издевательство над священными текстами, за грязь и пошлость телевидения, за тот мусор, который сваливался в него. Будто море тошнило от омерзения. Накат волн, шипение уходящих и рев набегающих становились все громче. Луна закрылась тучами, или они закрыли ее, небо потемнело. Надо было возвращаться.
Снова тоннель, сквозняки. Я очень боялся, что лифт угнали или, страшней того, отключили. Нет, лифт впустил меня в свое влажное, душное тепло и потащил вверх. Господь был милостив ко мне, лифт отключился в ту секунду, когда двери его раздвинулись. Но это не только лифт отключили, это вообще вырубилось электричество на всей даче. В комнате дежурной метался зайчик света от ручного фонарика. На меня, насквозь мокрого, наскочила Оля и вскрикнула.
– Ой, это вы. Сейчас дадут дежурный свет. Проводите меня до каминного зала? – Оля светила под ноги. Свет метался по змеиным узорам ковров. Мы вошли в накуренный зал. В нем были смех и визги. Тут дали свет. Мы увидели такое зрелище: на столе, около поваленной на него фигуры Сталина, валялись две голые девицы. Вокруг стояли одобрительно ржущие двуногие жеребцы. Я дернулся, Оля стиснула мою руку до боли и шепнула: «Молчать!»
– Прошу прощения, – сказала она бесстрастным администраторским голосом. – Прошу прощения за временные неудобства. – Девицы встали и лениво одевались. Официантки усаживали «Сталина» в кресло. – Еще раз прошу прощения. Девочки, десерт подавали? – Оля дернула меня к выходу.
Простясь с Олей, пошел к себе, трясясь от холода или от омерзения. Тут, вначале ослепив молнией, так ударило, что я присел. Еще вспыхнуло и еще возгремело. Выскочивший в коридор батюшка крестился. Крестился и стоящий за ним генерал. Внутри дачи тоже грохотало, это хлопали, закрываясь и открываясь от ветра, дубовые двери. В комнате от молний было так светло, будто все стены стали стеклянными. Ветви били по стеклам и рамам. Резко пошел снег, такой густой, будто на дачу надели белый саван, который все уплотнялся. Грохот грома дополнял треск ломавшихся ветвей. Вот затрещало и повалилось дерево.
И ветер, и снег, и резкое заметное понижение температуры настолько были необычными, будто Черноморское побережье было резко захвачено десантом севера, того же Туруханска. Ничто, никакие прогнозы ничего подобного не предсказывали. Снова хруст – повалилась береза. Резко, сверху вниз, протащились по стеклам ее ветви. Но стекла, видимо, были особой закалки, даже не треснули. Ветви счистили с окна снег, стали видны ряды облепленных снегом кипарисов, будто к даче подошли и заступили на охрану белые холодные воины. Дружно, по команде ветра поворачиваясь, они держали под наблюдением все стороны света.
Сколько продолжалась эта буря, этот ураган, эта феерия, не знаю. Было полное ощущение нашего бессилия перед стихией Божьего гнева. Мы были ничтожны перед мощью разгневанной природы. Может быть, вот так же, внезапно, оледеневало пространство Земли (находят же в вечной мерзлоте мамонтов с непрожеванным пучком травы в зубах) или приходили воды Всемирного потопа. То, что сейчас бушевало и творилось среди райской зелени, курортных мест, не знавших никогда температуры ниже плюс пяти, казалось репетицией неотвратимого, грядущего возмездия.
Лев Котюков
Тайна последней любви
Вновь ледяными ночами
Сердцу любовь обещаю,
И золотую Весну.
Вновь, как в безлунном начале,
С белой голубкой печали
В росах небесных тону.
В слово любви обращаюсь,
Сердцу любовь обещаю.
Сердце – голубкой в огне.
К старым стихам возвращаюсь,
Но навсегда не прощаюсь
С тем, что сгорело во мне.
Полнится слово молчаньем,
Полнит молчание слово.
В небе – серебряный дым.
Все, что казалось случайным,
Стало навек изначальным —
И до конца молодым.
Божье Молчанье – спасенье!
В Божьем Молчанье за Словом —
Тайна последней любви.
Вечно мое возвращенье!
Тайна любви – воскрешенье.
Черное Солнце в крови…
Влюбленный – не совсем человек.
И.Цейханович
Душа обращается в плоть.
Влюбленное сердце звереет.
Людей пожалеет Господь,
А нелюдей кто пожалеет?
Такие вот строки в бреду
Роятся в сознанье жестоко.
А где-то в закатном саду
Томится любовь одиноко.
Себя не жалеет любовь,
Не помнит, что вечность за нами.
И свет обращается в кровь,
И кровь обращается в пламя.
Я ринусь во тьму из огня,
Пусть сердце мое леденеет.
Авось, не жалея меня,
Любовь обо мне пожалеет.
Душа обращается в плоть.
Молчанье в садах опаленных.
Людей пожалеет Господь,
Но кто пожалеет влюбленных?..
Северным летом
Эта жизнь, как северное лето,
Как осколок льдинки в кулаке.
И уходит молодость до света
Лунною дорогой по реке.
А любовь у края белой ночи
Все молчит над берегом одна.
И напрасно кто-то там бормочет,
Что любовь без старости нужна.
И душа с мечтою молодою
Прозревает дальние века.
И нисходят с Севера грядою
В седине громовой облака.
И дорога лунная пропала,
Но не стоит плакать от того,
Что душе и молодости мало,
Что любви не надо ничего.
Не ведаю: где нынче быль и небыль.
Стою во тьме у замерших ракит.
Снежинкою с невидимого неба —
В огонь времен душа моя летит.
А время – в бесконечном невозможном,
И время до рождения – во мне.
Но жизнь-снежинка на ладони Божьей
Не тает в грозно-яростном огне.
«Поэт, как волк, напьется натощак…»
Николай Рубцов
Как грустен пафос ложных чувств,
Грустней, чем водка без закуски.
Но все никак не излечусь
От этой глупости по-русски.
И тороплюсь свое сказать
В словах до пошлости красивых,
Что смерти в общем наплевать
На несчастливых и счастливых.
Упорно говорю не то!
И не могу остановиться,
Что, повторясь в других, никто
В самом себе не повторится.
Я, может быть, к себе суров,
А, может быть, тщеславен – вот как!
Но гнусен пафос ложных слов
Под водку в обществе погодков.
И не обманешь эту жизнь
В угаре самовосприятья…
Неверна сумрачная мысль,
Неверны братские объятья.
Пьют за меня, не видя дна,
Мои усталые погодки.
Но, Боже мой, о как грустна
Закуска на столе без водки.
Северная мелодия
Ртутным светом струится морская звезда.
Леденеет лицо, леденеет вода,
Но в тиши леденелой —