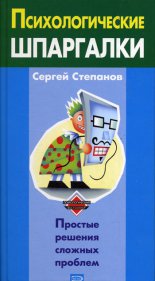Исторические кладбища Санкт-Петербурга Пирютко Юрий

С Фарфоровым заводом соседствовала село Александровское, принадлежавшее в конце XVIII в. генерал-прокурору Сената князю А. А. Вяземскому. Здесь в 1785–1790 гг. по проекту Н. А. Львова была построена Троицкая церковь, известная в городе под названием «Кулич и Пасха». Первое время кладбища при церкви не было, появилось оно в начале XIX в. близ соседней деревни Мурзинка, а в 1834 г. на нем возвели каменную часовню. В 1911 г. часовню расширили и освятили как церковь Успения Богородицы. Поначалу Успенское кладбище предназначалось для прихожан Троицкой церкви, но после постройки в 1863 г. П. М. Обуховым знаменитого сталелитейного завода здесь стали хоронить и рабочих.
Из пригородных кладбищ следует упомянуть небольшое место погребения при Чесменской богадельне. Путевой Чесменский дворец близ Царскосельской дороги и изящная ложноготическая церковь Рождества Иоанна Предтечи были построены в 1770-е гг. по проекту Ю. М. Фельтена. Спустя полвека дворец передали под богадельню военных инвалидов. После основательной перестройки Чесменский инвалидный дом императора Николая I в 1836 г. был торжественно освящен. Близ церкви отвели место для Чесменского инвалидного кладбища.
Во второй половине XIX в. перед городом остро стал вопрос о создании новых мест погребения. В 1870-е гг. число умиравших достигало в год двадцати четырех тысяч. Главные городские кладбища – Смоленское, Волковское, Митрофаниевское и Большеохтинское – оказались переполненными, а расширять их было некуда, особенно Смоленское: «места низки и при морском ветре постоянно заливаются водой». Речь шла, в первую очередь, о тех участках, где хоронили неимущих людей.
Кладбища, предназначенные для городских обывателей, имели довольно четкое разделение на разряды, в зависимости от стоимости места для погребения. Если в дорогих разрядах свободные места еще были, то в беднейших не существовало «положительно ни одного вершка незахороненного пространства»[90]. В то же время нельзя было передать платные разряды под бесплатные погребения, ибо тогда «кладбище и существующие на нем храмы дойдут до совершенного оскудения в средствах». Ведь единственным их доходом оставалась продажа могильных мест и плата за церковные требы и погребальные услуги. Серьезную проблему представляло санитарное состояние кладбищ, которые из-за сырости и тесноты превращались в «резервуары вредного для здоровья воздуха»[91].
Петербург не первый европейский город, который столкнулся с этой проблемой. В конце XVIII-начале XIX вв. закрыли старые городские кладбища в Париже, а захоронения перенесли в парижские катакомбы или на новые кладбища, вынесенные за пределы города. Подобную реформу решено было провести и в русской столице.
В 1854 г. учреждается Комиссия для устройства кладбищ, которая приступила к обследованию старых мест погребения, изучила состояние городских кладбищ и собрала о них исторические сведения. Первоначально имели в виду лишь расширить территорию некоторых некрополей, не устраивая новых. Через одиннадцать лет при Городской думе создали новую комиссию. Для нее по инициативе петербургского обер-полицмейстера Ф. Ф. Трепова была составлена записка о необходимости учреждения новых кладбищ. При Санитарной комиссии, состоящей при обер-полицмейстере, в 1868 г. была учреждена, по высочайшему повелению, новая комиссия по устройству кладбищ. На основании работ комиссии 20 октября 1871 г. был подписан именной царский указ «Об устройстве кладбищ в Санкт-Петербурге».
Первое загородное кладбище устроили в десяти верстах от Петербурга, по Николаевской железной дороге, близ платформы Александровская (Обухово). По проекту предполагалось разбить всю территорию площадью в тридцать тысяч квадратных сажень на шесть отделов-разрядов, разграниченных проезжими и пешеходными дорожками. Детальная планировка, однако, в натуре выполнена не была. Примечательная особенность нового кладбища заключалась в том, что оно непосредственно примыкало к железной дороге и покойных доставляли из Петербурга на специальных погребальных поездах. 6 августа 1872 г. на кладбище был заложен храм во имя Преображения Господня, и оно получило название Преображенское. В следующем году начались захоронения на католическом и лютеранском участках, а еще через два года – на еврейском. Неправославные отделения находились по другую сторону железной дороги.
На Преображенском кладбище хоронили жертв «кровавого воскресенья» 9 января 1905 г. После открытия в 1931 г. памятника на братских могилах кладбище назвали «Памяти жертв 9 января».
Великокняжеская усыпальница в Петропавловской крепости
Великокняжеская усыпальница в Петропавловской крепости. Интерьер
В 1875 г. недалеко от станции Парголово Финляндской железной дороги открылось второе загородное кладбище — Успенское. В следующем десятилетии на обоих загородных кладбищах открыли воинские отделения с участками для гарнизонных полков. В начале XX в. появилось католическое отделение Успенского (ныне – Северного) кладбища, где перед революцией был построен деревянный костел.
Преображенское и Успенское кладбища стали первыми и единственными в Петербурге, которые подчинялись не епархиальному начальству, а Городской думе. Город вложил в их устройство около полумиллиона рублей и взял на себя все расходы по содержанию, включая жалование священникам. Интересно, что среди крупных государств Европы в то время лишь во Франции кладбища были изъяты из ведения церкви и переданы муниципалитетам. Предполагалось, что затраты, понесенные казной, окупятся через некоторое время за счет платных захоронений. В действительности загородные кладбища оказались убыточными. В первые десятилетия хоронили на них (особенно на Успенском) очень мало и только в бесплатных и дешевых разрядах. Главной причиной этого были резкие возражения Синода против закрытия городских кладбищ и перевода всех захоронений на загородные. Городская администрация выдвигала санитарные и экологические соображения, тогда как церковь настаивала на важности духовной традиции. Столкновение интересов на несколько десятилетий затянуло решение вопроса о закрытии старых кладбищ. В конце XIX в. научные исследования доказали безвредность кладбищ для города, и проблема утратила свою актуальность[92].
Начало XX в. не внесло существенных изменений в топографию городского некрополя. Последним кладбищем дореволюционного Петербурга стало Серафимовское в Новой деревне, основанное в 1906 г. На некоторых старых кладбищах (Красненьком, Волковском, Смоленском и др.) были возведены новые храмы. В 1908 г. произошло освящение сооруженной рядом с Петропавловским собором великокняжеской усыпальницы.
Представление о петербургском некрополе будет неполным, если не упомянуть о захоронениях вне кладбищенских территорий. Еще в петровские времена в запрете хоронить при городских церквах была сделана оговорка: «кроме знатных особ». Каждое такое захоронение требовало особого разрешения. В XVIII в. исключения делались для богатых прихожан, жертвовавших большие суммы на ремонт и строительство храма, или для священников, долго служивших в данной церкви. В XIX в. возникла традиция погребения в городских храмах выдающихся общественных деятелей.
Гробница М. И. Кутузова в Казанском соборе известна каждому петербуржцу. Однако во многих полковых церквах Петербурга (почти все погибли в 1930-е гг.) существовали офицерские захоронения. С 1847 г. по специальному указу в полковых храмах устанавливали мемориальные доски с именами погибших и умерших от ран офицеров полка.
Храм Христа Спасителя («Спас на водах»)
Памятником русским морякам, погибшим в войне 1904–1905 гг., стал храм Христа Спасителя («Спас на водах»), воздвигнутый в 1911 г. на набережной Невы по проекту архитектора М. М. Перетятковича. Храм как бы объединил в себе походные судовые церкви погибших кораблей и стал «символом братской могилы для погибших без погребения героев-моряков»[93]. На его стенах укрепили памятные доски с именами всех, кто погиб в морских сражениях Русско-японской войны. Стройный и легкий силуэт храма напоминал Дмитриевский собор во Владимире и жемчужину древнерусского зодчества – церковь Покрова на Нерли, поставленную «на лугу» святым князем Андреем Боголюбским в память о любимом сыне Изяславе. «Спас на водах», символизировавший нерушимость духовной традиции почитания мертвых, был разрушен в те же годы, когда происходило уничтожение исторического некрополя Петербурга.
Кладбища в России в XVIII–XIX вв., как и в других европейских государствах, находились в ведении духовного начальства и носили строго конфессиональный характер. Каждая вероисповедная община имела свое кладбище. Закон запрещал духовенству использовать кладбищенскую землю для иных целей, кроме погребения умерших и возведения храмов и часовен.
Для устройства столичного кладбища обычно, по представлении Синода, требовалось Высочайшее утверждение. Вот почему ряд таких распоряжений вошел в состав Законов Российской Империи. В Полном собрании Законов имеются и некоторые правила, общие для всех кладбищ. Так, в 1772 г. Сенат указал, чтобы «кладбища учреждались в удобных местах расстоянием от последнего городского жилья по крайней мере не ближе 100 сажень, а если место дозволяет, то хотя бы и за 300 сажень». Тем же указом рекомендовалось обносить кладбищенские места плетнем или земляным валом – не выше двух аршин, «дабы чрез то такие места воздухом скорее очищались», а также рыть вокруг кладбищ рвы «для удержания скотины, чтоб оная не могла заходить на кладбище»[94].
Комиссия о строении Санкт-Петербурга, которой был направлен синодский указ 1738 г. об отводе кладбищенских мест, определила порядок планировочных работ: «…для возвышения указанных мест поделать вокруг и поперек каналы, в пристойных местах устроить пруды, вынутой землей засыпать низкие места, огородить кладбища деревянным забором, построить при них деревянные покои для житья караульных и могильщиков»[95].
Некоторые правила по устройству кладбищ вошли в «Устав врачебный» (или Устав медицинской полиции), который помещен в Своде законов. 701-я статья устава гласила: «Никаких построек на опустевших кладбищах возводить не дозволяется»[96]. Это положение определялось еще указом по межеванию земель 1682 г.: «У которых помещиков и вотчинников на дачах объявятся (пустые) кладбища… велеть… те кладбища огородить и строения на них никакова строить не велеть»[97].
При устройстве новых кладбищ запрещалось переносить со старых какие-либо захоронения и «обращать прежние кладбища под пашню… или другим каким бы то ни было образом истреблять оставшиеся на оных могилы и повреждать надгробные памятники». Традиция оставлять места погребения неприкосновенными существовала задолго до того, как в начале XIX в. Александр I утверждал, что «по общему предуверению прикасаться к праху мертвых погребенных вменяется за преступление»[98].
По словам историка Н. И. Костомарова, «издавна могилы родителей и предков были святыней русского народа, и князья наши, заключая договор между собой, считали лучшим знамением его крепости, если он будет произнесен на отцовском гробе». Когда великий князь Иван III, пишет Костомаров, перестраивал Московский Кремль, при переносе храмов и монастырей хотели перезахоронить и останки прежде там погребенных. Архиепископ Геннадий возражал правителю: «А ведь того для, что будет воскресение мертвых, не велено их ни с места двинути, опричь тех великих святых»[99].
При упразднении некоторых петербургских кладбищ, основанных в XVIII в., их было велено засыпать землей, выравнивать место, но ни о каких переносах могил не было речи. По прошествии нескольких (иногда и десятков) лет на месте забытых кладбищ иногда велась обывательская застройка. С расширением границ города, увеличением числа жителей это было неизбежным. От таких кладбищ, как Аптекарское, Карповское, Колтовское, Вознесенское, уже в XIX в. не осталось и следа. Однако иные старинные некрополи, давно числившиеся упраздненными, сохранялись в городе своеобразными оазисами. Отдельные памятники и надгробные плиты можно было встретить вплоть до начала ХХ столетия на месте Сампсониевского, Ямского, Благовещенского кладбищ. Окончательная гибель наступила лишь в 1930-е гг., когда были уничтожены многие храмы, при которых существовали первые петербургские некрополи.
Кладбищенское законодательство XIX в. предусматривало суровое наказание за осквернение могил, воровство и мародерство. По «Уложению о наказаниях» 1845 г. разрытие могилы каралось десятью—двенадцатью годами каторжных работ, истребление или повреждение надгробных памятников – заключением в тюрьму на срок от четырех до восьми лет, кража на кладбище – годом тюрьмы или ссылкой в Сибирь[100].
Но, к сожалению, несмотря на строгие охранительные меры, преступный промысел существовал. В. О. Михневич в книге «Язвы Петербурга» рассказывал, что существуют «специалисты по обкрадыванию кладбищ. Вор проникает на кладбище и снимает с наиболее богатых памятников металлические кресты, доски и разные украшения. Один из таких воров сознался на суде, что ему удавалось за один поход отвинчивать по 30-ти медных надгробных досок»[101].
В 1841 г. были введены семь кладбищенских разрядов (после перераспределения 1871 г. их стало пять). Они отличались стоимостью места для погребения в зависимости от благоустройства и степени ухода за могилами. Собственно, введение разрядов лишь узаконило ранее существовавшую практику. Места внутри кладбищенской церкви и около нее в I и II разрядах были самыми дорогими. Различались по цене места близ проходных дорожек и в стороне от них, у входа на кладбище и на дальних участках. Последний разряд был бесплатным. В лавре, Новодевичьем монастыре и Сергиевой пустыни бесплатные разряды отсутствовали. Место в I разряде лаврского кладбища в 1840-е гг. стоило пятьсот рублей, а богатые похороны обходились примерно в тысячу триста рублей серебром (средний годовой доход хорошо оплачиваемого столичного чиновника)[102].
Администрация внимательно следила за соблюдением порядка, соответствующего значению места. «Правила по устройству московских кладбищ», изданные в 1913 г., запрещали «ездить по кладбищу на велосипедах, ходить с собаками, петь песни, устраивать игры, а также производить другие неблагопристойности и нарушение благоговейной тишины»[103].
Забота о памятниках всегда была обязанностью родственников, которые вносили соответствующую плату в кассу кладбища. Можно было заказать ремонт памятника, высадку цветов, уборку могилы и даже «вечную очистку могилы» или «вечное тепление лампады». Если родственники переставали следить за могилой, памятник, по прошествии определенного времени, сносили. Срок устройства новой могилы на непосещаемом участке в России был установлен в тридцать лет после предыдущего погребения.
Старые надгробия, без ремонта и починки, разрушались естественным образом, но бывали и случаи утилизации старых каменных плит. Так, в протоколах Комиссии по устройству кладбищ в 1870 г. отмечалось: «На Волковском кладбище ход между могилами устлан мостками не только из досок, но из надгробных плит, взятых с могил, на которых уцелели даже надписи, хотя, как видно, тщательно затертые»[104].
Первые попытки охраны надгробных памятников, представляющих историческую и художественную ценность, относятся к середине XIX в. В 1859 г. Комиссия по устройству кладбищ запрашивала причты кладбищенских церквей: «…буде имеются памятники прошлого столетия, то сколько именно таковых и поддерживаются ли они ремонтом»[105].
В мае 1891 г. на Литераторских мостках хоронили редактора газеты «Биржевые ведомости» П. С. Макарова. Присутствовавшие обратили внимание на плохое состояние могил: «памятники заросли, или зарыты, надписи стерты»[106]. На поминках было решено учредить специальное общество, «на обязанности которого лежало бы охранение на петербургских кладбищах от разрушения памятников на могилах ученых и литераторов и содержание их в порядке»[107]. Был даже опубликован проект устава, но дальше дело не двинулось. Иногда пресса сообщала о частных инициативах в этой области. Например, в 1896 г. «на средства В. Н. Викуловой были приведены в порядок могилы Л. А. Мея и А. А. Григорьева на Митрофаниевском кладбище»[108].
В 1910 г. Городская дума решила образовать особый капитал «для охранения могил известных деятелей на литературном и ученом поприщах» и поручила Комиссии по народному образованию составить их список. С 1911 г. выделяли пятьдесят рублей ежегодно на охрану могилы М. В. Ломоносова. Это были первые в Петербурге мероприятия по охране надгробных памятников[109].
Повышению внимания к старинным некрополям как историческим и художественным заповедникам способствовали работы Н. Н. Врангеля по петербургским и Ю. П. Шамурина по московским кладбищам, так же как и издание саитовских «некрополей»[110]. Академия художеств в 1912 г. изготовила гипсовые модели с художественных памятников Александро-Невской лавры работы И. П. Мартоса, М. И. Козловского и др. Фотограф Н. Г. Матвеев по заказу Академии в 1906–1910 гг. сфотографировал около ста пятидесяти надгробий на лаврских, Смоленских, Волковских кладбищах, в Новодевичьем монастыре и Сергиевой пустыни[111].
Говоря о законах и правилах, регламентировавших кладбищенскую жизнь, следует иметь в виду, что они определяли только внешнюю – хозяйственную, экономическую, санитарно-гигиеническую сторону дела. Гораздо важнее другое. Мощным воспитателем почтительного отношения к месту последнего упокоения была многовековая традиция церковного погребения. Она устанавливала и освящала все стороны погребального ритуала, придавала духовный смысл всему кругу обрядов и традиций, связанных с тайной смерти, приучала видеть в кладбищах места особого порядка.
Определение Синода от 6 февраля 1897 г. указывало: «…попечение о содержании кладбищ в благолепном виде является естественным выражением того, не только уместного, но даже обязательного в христианах чувства уважения к праху предков и вообще близких, в вере скончавшихся, которое, проистекая из обуславливаемого родственною и христианскою взаимною любовию долга почтительного отношения к их памяти, вместе с тем основывается на вере нашей в непреложную истину бессмертия и будущего всеобщего воскрешения и в общение живых с прежде умершими»[112].
Уместно напомнить основные правила погребения и поминовения по православному христианскому обряду, неуклонно соблюдавшиеся в дореволюционном Петербурге. Над умирающим, которого следует исповедовать и причастить, читают отходную – «молитву на разлучение души от тела». Омывают мертвое тело под чтение псалмов и облачают в новую одежду. На тело кладут покров – саван, в напоминание о пеленах Иисуса Христа во гробе. В руки покойного вкладывают образ Спасителя, на голову помещают венчик с изображением Иисуса, Богоматери и Иоанна Предтечи – в знак надежды на посмертное воздаяние по милосердию Бога. Над гробом читается Псалтирь. Панихида обычно совершалась в доме покойного, после чего тело переносили в храм для отпевания. Священник шел впереди, перед гробом несли крест, все провожающие держали в руках зажженные свечи – символ радости о возвращении усопшего к Вечному Свету. В храме гроб ставят головой ко входу, чтобы лицо покойного было обращено к алтарю – «в знак того, что умерший идет от заката жизни к востоку вечности»[113].
Отпевание происходит после обедни. Под чтение псалмов и стихир присутствующие прощаются с покойным последним целованием. Затем священник читает разрешительную молитву, текст которой вкладывает в правую руку покойного. После этого гроб закрывают крышкой и больше не открывают.
По окончании отпевания погребальная процессия направляется на кладбище. Гроб с молитвой опускают в могилу, священник крестовидно сыплет на крышку землю, льет елей, ссыпает пепел от кадила. На могиле ставится крест – «символ спасения христианина, умершего с верою и покаянием».
Церковь учит, что «для христианина смерть – первый день жизни, или день рождения, а гробница – место временного упокоения его земного праха до дня всеобщего воскрешения и суда».
Для поминовения издавна установлены третий, девятый и сороковой дни по кончине христианина. По учению церкви, молитва за упокой души помогает умершему в его посмертной судьбе. Толкование дней поминовения дал один из первых христианских отшельников святой Макарий Египетский. Первые три дня душа пребывает рядом с телом, «как птица ищет себе гнезда», и лишь на третий день, благодаря молитвам, получает облегчение в скорби: ангел Божий возносит душу для поклонения Господу. Шесть следующих дней душа видит небесные обители и великолепие рая, а на девятый – вновь возносится к Богу. Далее тридцать дней душа созерцает адские муки – мытарства, и на сороковой день получает окончательное определение Божиего суда. Годовщина смерти отмечается как день рождения христианина к новой жизни.
Для общего поминовения мертвых в Русской православной церкви установлены Родительские субботы (родителями для христиан являются все умершие вообще, и они молятся «о упокоении душ рабов Божиих праотец, отец и братии зде лежащих и повсюду православных христиан»). Дни поминовения связаны с годовым Пасхальным циклом.
Пасхе – дню Воскресения Христова – предшествуют семь недель Великого поста. Последняя неделя перед постом – традиционная русская Масленица – по церковному календарю называется сырной седмицей. Суббота перед сырной седмицей – это Вселенская Родительская суббота. В этот день «память совершают всех от века усопших православных христиан». Поминовение мертвых совершают также во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста. Пятая Родительская суббота – Троицкая, накануне пятидесятого дня от Пасхи – дня Святой Троицы.
Кроме того, в Русской Православной Церкви поминовение усопших совершается в Радоницу: это вторник Фоминой недели, следующей за Пасхальной Светлой седмицей. По словам святого Иоанна Златоуста, в этот день «Господь Иисус Христос сошел к мертвым, потому здесь и собираемся мы».
Павших воинов православные поминают в Димитриевскую Родительскую субботу, ближайшую к дню памяти святого Димитрия Солунского 26 октября (8 ноября). Это поминовение установлено в XVI в. в память Куликовской битвы 1380 г. В 1769 г. установили поминовение «православных воинов, за веру и отечество на брани убиенных» 29 августа (11 сентября), в день Усекновения главы Иоанна Предтечи. Примечательно, что живая православная традиция не иссякает и в наши дни. 8 сентября 1989 г. Ленинградская епархия установила День церковного поминовения жертв блокады города в период Великой Отечественной войны.
Надо иметь в виду, что каждое ежедневное богослужение включает в себя поминовение усопших, для чего в храме подаются записки о молитве за упокой души и ведется запись в специальные поминальные книги – синодики. Ежедневная молитва в течение сорока дней по кончине называется сорокоустом.
Выдающийся русский мыслитель XIX в. Н. Ф. Федоров вообще видел в церковном поминовении мертвых главный смысл христианской жизни. Он писал: «Кладбищенская церковь из последней должна сделаться первой, стать соборной для приходских церквей каждой части города, каждой местности, ибо и литургия, и пасха, как это сказано, имеют смысл лишь на кладбищах. И такое положение кладбищенских церквей будет началом восстановления религии; если же при городских церквах не может быть кладбищ, то это значит, что нужно отказаться или от религии, или от городов»[114].
В истории Петербурга похоронные обряды были важными событиями городской и общественной жизни.
13 октября 1723 г. в Петербурге скончалась царица Прасковья Федоровна, вдова царя Иоанна Алексеевича, брата Петра I. Петр находился в это время на строительстве Ладожского канала, и распоряжения по организации похорон были получены лишь по его возвращении через три дня. Основатель города придавал особое значение разработке «печального церемониала», принимал личное участие во многих погребальных церемониях, шествуя за гробом своих сподвижников в Северной войне Б. П. Шереметева и А. А. Вейде, лейб-медика Р. Арескина и многих других. Известно, что погребение любимой сестры Петра царевны Натальи Алексеевны было отложено на год, чтобы царь, отсутствовавший в Петербурге, мог вернуться для прощания.
Катафалк царицы Прасковьи был сооружен по проекту герольдмейстера графа Ф. де Санти. Фиолетовый бархат катафалка и гроба под балдахином эффектно сочетался с белизной покрова. По сторонам постамента размещались царская корона на красной бархатной подушке и государственное знамя. В зале, где прощались с покойной, было установлено двенадцать больших свечей, охраняли тело двенадцать капитанов в черных кафтанах, длинных мантиях, с вызолоченными алебардами. Псалтирь читали двое священников. Прощание происходило чинно, без завываний и причитаний (Петр запретил эту традицию в 1716 г., при погребении царицы Марфы, вдовы царя Федора Алексеевича).
В три часа пополудни 22 октября в дом покойной, где уже находилась вся петербургская знать, оповещенная накануне А. И. Румянцевым – погребальным маршалом, приехали члены царской фамилии. В передней собравшихся обнесли глинтвейном, после чего все проследовали в залу, отслужили панихиду. Погребальную процессию открывал гвардии поручик с восемнадцатью унтер-офицерами, державшими на плечах тесаки с траурным флером. Далее маршал Румянцев возглавлял шествие гражданских и военных чиновников, выстроенных по старшинству, по трое и четверо в ряд. Потом по регламенту следовали иностранные министры, находившиеся в Петербурге герцог Голштинский, принц Гессен Гомбургский, сенаторы П. И. Ягужинский и Б. X. Миних. За ними шел хор императорских певчих, духовенство с зажженными свечами. В катафалк, перед которым несли царскую корону, была впряжена шестерка лошадей. Перед ним шли двенадцать полковников, шесть майоров несли балдахин, а за катафалком – двенадцать капитанов с алебардами и двенадцать поручиков со свечами. Третью часть процессии открывал еще один погребальный маршал с жезлом. Затем шел император, сопровождаемый Ф. М. Апраксиным и А. Д. Меншиковым. Далее в сопровождении офицеров и сановников – дочери покойной, Екатерина и Прасковья, и императрица со свитой. По сторонам процессии маршировали до полутораста солдат с зажженными факелами. Движение до Александро-Невского монастыря продолжалось больше двух часов. Гроб внесли в только что отстроенную Благовещенскую церковь и после отпевания и проповеди погребли у алтаря. Поминки в доме царицы Прасковьи продолжались до одиннадцати часов ночи[115].
Столица Российского государства в течение двух веков видела множество подобных церемоний. Для погребения лиц императорской фамилии были разработаны специальные регламенты, для организации и оформления похоронного обряда создавались «печальные комиссии».
«Печальный церемониал» погребения представителей знатных дворянских фамилий был разработан не менее подробно. Сохранилось описание похорон в 1803 г. графини П. И. Шереметевой – знаменитой крепостной актрисы Параши Жемчуговой, ставшей женой графа Н. П. Шереметева. «Спустя два часа после кончины тело приличным образом одетое положено на стол, покрытый белыми простынями, а после обитый белым миткалем с фалборою; в головах тела поставлен налой, обитый черной фланелью и покрытый атласной пеленою с образами… Перед ним подсвечник с зажженными свечами, одетый черным крепом с белыми лентами. Вокруг тела поставлено 4 таковых же, трауром покрытых подсвечников… На другой день тело положено во гроб, сделанный из дубового дерева и обитый снаружи пунцовым бархатом, выложенным как должно серебряным гасом и внизу по борту серебряною бахромою, а внутри белым атласом… скобы у гроба посеребреные чрез огонь, а на крышке в головах на посеребреной доске изображен золоченый фамильный герб… гроб покрыт глазетовым покровом, обложенным во круг в два ряда серебряным позументом, с серебряным же шнуром, и по углам четырьмя серебряными пышными кистьми».
Три дня утром и вечером в доме служили панихиды. 26 февраля 1803 г. днем происходило прощание, а в семь часов вечера прибыл митрополит Амвросий со своей свитой, и после литии (заупокойной молитвы) гроб вынесли из Фонтанного дома Шереметевых. «За воротами приготовлена была печальная колесница с балдахином, на которую поставили гроб, покрыли сказанным выше золотым глазетовым покровом, и началось шествие…» Открывали его «офицер полицейский верхом и два полицейские офицера пешие». Затем следовали церковные служители, певчие, «двенадцать священников по два в ряд», митрополичий хор, духовные лица с образами, архимандриты, два архиепископа и сам митрополит, предшествовавший траурной колеснице, запряженной шестью лошадьми. Правилами было оговорено траурное одеяние кучера, конюхов и официантов, так же как и число лиц, поддерживавших гроб и державших древки и шнуры балдахина. «По обеим сторонам колесницы, начиная от головы гроба, до самого начала кортежа шли в черных епанчах, распущенных шляпах с флером 24 человека с зажженными факелами по 12 на стороне… По сторонам всего кортежа оберегали полицейские офицеры от стеснения народа, которого, как пеших, так и в экипажах, было многолюднейшее стечение». Среди домочадцев и прислуги, следовавших за гробом Прасковьи Ивановны, был и архитектор Джакомо Кваренги. В Троицком соборе Александро-Невской лавры гроб установили на катафалк. Отпевание и погребение в Лазаревской церкви произошло на следующий день[116].
За три года до П. И. Шереметевой в лавре хоронили А. В. Суворова. Великий русский полководец умер 6 мая 1800 г. в доме своего зятя князя Д. И. Хвостова на Крюковом канале, близ Никольского морского собора. Известный писатель и историк Е. А. Болховитинов (впоследствии митрополит Евгений) оставил описание похорон, происшедших 12 мая.
«Князь лежал в маршальском мундире, в Андреевской ленте. Около гроба стояли табуреты числом восемнадцать, на них разложены были кавалерии, бриллиантовый бант, пожалованный Екатериной II за взятие Рымника, бриллиантовая шпага, фельдмаршальский жезл и прочее. Лицо покойного было спокойно и без морщин. Борода отросла на полдюйма и вся белая. В физиономии что-то благоговейное и спокойное… Улицы, все окна в домах, балконы и кровли преисполнены были народу. День был прекрасный. Народ отовсюду бежал за нами. Наконец мы дошли и ввели церемонию в верхнюю монастырскую церковь… В церковь пускали только больших, а народу и в монастырь не допускали. Проповеди не было. Но зато лучше всякого панегирика пропели придворные певчие 90-й псалом «Живый в помощи», концерт сочинения Бортнянского. Войска расположены были за монастырем. Отпето погребение, и тут-то раз десять едва я мог удержать слезы. При последнем целовании никто не подходил без слез ко гробу. Тут явился и Державин. Его предуниженный поклон гробу тронул до основания мое сердце. Он закрыл лицо платком и отошел, и, верно, из сих слез выльется бессмертная ода»[117].
Болховитинов оказался прав. Державин написал стихотворение «Снигирь»:
- Что ты заводишь песню военну
- Флейте подобно, милый снигирь?
- С кем мы пойдем войной на Гиену?
- Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?
- Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?
- Северны громы в гробе лежат…
О возникновении этих стихов сам поэт писал: «У автора в клетке был снигирь, выученный петь одно колено военного марша; когда автор по преставлении сего героя возвратился домой, то услыша, что сия птичка поет военную песнь, написал сию оду в память столь славного мужа». Этот волнующий образ отозвался в ХХ столетии в стихах на смерть другого великого русского полководца:
- Маршал! Поглотит алчная Лета
- Эти слова и твои прахоря.
- Все же прими их – жалкая лепта
- Родину спасшему, вслух говоря.
- Бей, барабан, и военная флейта,
- Громко свисти на манер снегиря.
И. Бродский. «На смерть Жукова»
Нелишне напомнить, что кончина А. В. Суворова, вернувшегося из победоносного Итальянского похода, была омрачена неожиданной немилостью императора Павла I. Вместо ожидаемой триумфальной встречи полководцу было запрещено являться ко двору. Опала ускорила смерть семидесятилетнего военачальника. Многие придворные, опасавшиеся навещать генералиссимуса во время болезни, не приняли участие и в похоронной церемонии, которая к тому же не соответствовала воинскому званию Суворова. В отличие от прадеда, сопровождавшего в траурном шествии своих полководцев, Павел I выехал лишь на Невский, когда провозили гроб с телом Суворова. Тем более знаменательно, что Суворова в последний путь провожал простой народ, заполнивший улицы столицы[118].
В памяти жителей Петербурга остались поразившие своей экзотичностью похороны молдавского князя Георгия Гики, проходившие в Александро-Невском монастыре 5 марта 1785 г. Старинное описание рассказывает: «Впереди шествия ехали трубачи, затем шло до сотни факельщиков, за ними несли богатый порожний гроб, за последним шли слуги, держа в руках серебряные большие блюда с разварным сарачинским пшеном и изюмом, на другом блюде лежали сушеные плоды, а на третьем – большой позолоченый каравай; затем следовали в богатых молдавских костюмах бояре с длинными золочеными свечами в руках, после них шло с пением духовенство, с греческим архиепископом во главе. Затем уже несли тело умершего князя, сидящее в собольей шубе и шапке на креслах, обитых золотою парчею. Тело было отпето сперва на паперти, потом внесено в церковь и там снята с него шуба, одет саван и затем умерший был положен в гроб»[119].
18 июля 1820 г. на Смоленском лютеранском кладбище хоронили скромного инспектора и преподавателя математики и физики во 2-м Кадетском корпусе Ивана Васильевича Бебера (1746–1820). Лишь посвященные знали истинное значение этого человека, принадлежавшего к высшим степеням российского масонства. И. В. Бебер был управляющим Великой Директориальной Ложи Владимира к Порядку – главной национальной ложи России. Предание гласит, что Беберу удалось привлечь в масонскую ложу Александра I, который, действительно, около десятка лет, до внезапного официального упразднения всех лож в 1822 г., оказывал явное покровительство масонам. «Высокопреосвященнейший префект Капитула Феникса», Бебер незадолго до кончины отошел от активной деятельности, но на похороны его собрались все петербургские масоны, «кто по летнему времени в столице или по близости пребывание имел».
Прощание с телом происходило в лютеранской церкви Св. Екатерины на Васильевском острове. Церемония началась в 6 часов вечера. Посреди храма, убранного зеленью, возвышался на катафалке гроб, на котором были положены меч и шляпа. Два масона в траурных шарфах стояли по сторонам гроба. После надгробного слова, произнесенного пастором Цахертом, прозвучала написанная капельмейстером Затценгофером траурная кантата. «Печально величественная кантата тронула сердца, и в церкви воцарилось горестное молчание. Вместе с офицерами 2-го корпуса масоны взялись за скобы гроба, когда подан был знак к выносу, и они же окружили гроб и шли следом, наблюдая, чтобы члены Великих лож были впереди и все вместе. Далее следовала семья покойного и большой отряд воспитанников корпуса. Многие братья несли перед гробом похоронные жезлы, другие – подушки с орденами, все же прочие – цветы и ветви лиственные». По сторонам траурного кортежа масоны младших степеней несли зажженные факелы. Необычное шествие, следовавшее по тихим улицам Васильевского острова в воскресный летний вечер, привлекло множество народа. Огромная толпа подошла к воротам лютеранского кладбища около 9 часов. «Масоны окружили могилу; масон пастор Август Ган произнес, благословляя, последние слова любви и мира, громкий гимн огласил тишину кладбища, пели хором все масоны», – так заканчивает описание этих удивительных похорон историк русского масонства Тира Соколовская[120].
В отличие от похорон высших государственных и военных деятелей, «статских чинов» хоронили более скромно, хотя элементы обряда (колесница, факельщики, хор певчих и духовенство перед гробом) сохранялись многие десятилетия. Во второй половине XIX в. похоронную процессию стали сопровождать духовые оркестры – вначале на военных похоронах. Первым «статским», которого хоронили с духовым оркестром, был П. И. Чайковский. Венки из цветов с вензелями и лентами стали возлагать к гробу и выносить в ходе процессии лишь во второй половине столетия.
Тридцатилетие царствования Николая I, «заморозившее» Россию, отразилось и в отношении к похоронам, которые строго соответствовали установленному этикету. Лишь в 1860-е гг. похороны приобретают характер общественной демонстрации, выражения современниками признательности и уважения к заслугам выдающихся писателей, артистов, музыкантов.
Петербургский старожил, известный юрист А. Ф. Кони вспоминал, что в истории столицы было «несколько похорон, не официозного, так сказать, предустановленного характера, а таких, в которых выразилось общественное сочувствие к почившему». Первыми в этом ряду он назвал похороны артиста А. Е. Мартынова.
Вершиной творчества Мартынова стало исполнение роли Тихона в первой постановке «Грозы» А. Н. Островского на сцене Александрийского театра. О признании заслуг артиста, выступавшего на александринской сцене четверть века, свидетельствовал обед, данный ему писателями; до него подобной чести был удостоен лишь великий М. С. Щепкин. Через восемь месяцев после знаменательной премьеры, 16 августа 1860 г. А. Е. Мартынов скончался в Харькове (на пути из Ялты в Петербург).
Поздно вечером 12 сентября останки артиста привезли в столицу. Площадь перед Николаевским вокзалом была заполнена множеством людей. Гроб перенесли на руках через площадь в Знаменскую церковь. На следующий день, после отпевания, началось траурное шествие по Невскому проспекту к Васильевскому острову, на Смоленское кладбище. Гроб был поставлен на катафалк, но лошадей тотчас выпрягли; чести везти траурную колесницу добивались многочисленные петербуржцы: купцы, мастеровые, чиновники, офицеры, студенты. Впереди траурной процессии несли венки. Кто-то, указывая на них, сказал: «Вот ордена Мартынова». А. Я. Панаева вспоминала, что «на протяжении всего Невского проспекта… движение экипажей было приостановлено, сама публика позаботилась не пропускать экипажей с боковых улиц, чтобы не давили народ. Полиция застигнута была врасплох, да она и не была нужна, потому что порядок везде был удивительный, с таким тактом и приличием держала себя публика». Панаева же вспоминала о некоем «значительном лице», негодовавшем: «Скажите, пожалуйста, – везут гроб актера и нет проезда по Невскому!.. Такого беспорядка не должна была допустить полиция»[121]. На Смоленском кладбище публике раздавали специально выпущенную брошюру со стихами, посвященными «горю русского театра – потере Александра Евстафьевича Мартынова»[122].
Изменение общественной ситуации, отразившееся в отношении к похоронам, сознавалось современниками. Когда в мае 1848 г. умер В. Г. Белинский, «немногие петербургские друзья провожали тело его до Волковского кладбища. К ним присоединились три или четыре неизвестных, вдруг бог знает откуда взявшихся. Они оставались до самого конца печальной церемонии на кладбище и следили за всем с величайшим любопытством, хотя следить было ровно не за чем. Белинского отпели и опустили в могилу, как и всякого другого, и огорченные друзья его бросили молча по христианскому обычаю горсть земли в его могилу, в которой уже начинала проступать вода…».
Автор этих строк, И. И. Панаев, отмечал, насколько разнился этот скромный обряд от проходивших тринадцать лет спустя похорон Н. А. Добролюбова. О выносе тела объявили газеты. Место для могилы было специально выбрано рядом с Белинским, чтобы подчеркнуть тесную идейную связь двух выдающихся литературных критиков. На похоронах собралось до двухсот человек, в числе которых были профессора университета, журналисты, известные литераторы. «Гроб несен был на руках от квартиры покойного [на Литейной улице] до самого Волкова кладбища… над его могилой произнесено было несколько задушевных слов его друзьями и посторонними лицами и прочтены были отрывки из его дневника…»[123]. Известно, что на могиле Добролюбова выступали Н. А. Некрасов и Н. Г. Чернышевский. Тут же среди присутствующих провели сбор средств в помощь ссылаемому в Сибирь поэту и публицисту М. Л. Михайлову, одному из авторов знаменитой прокламации «К молодому поколению».
Выбор места для погребения играл в прошлом веке немаловажную роль. Мартынов был похоронен на Смоленском кладбище рядом с другими известными актерами: В. А. Каратыгиным, В. Н. Асенковой. Дорожка на Волковском кладбище близ надгробий Белинского и Добролюбова уже в 1880-е гг. стала называться «Литераторскими мостками»: здесь хоронили писателей, журналистов, общественных деятелей революционно-демократического направления. Достоевскому, присутствовавшему на похоронах Некрасова 30 декабря 1877 г., понравилось Новодевичье кладбище, и вдова писателя собиралась похоронить его там. Однако Александро-Невская лавра предложила для погребения Достоевского любое из своих кладбищ. Анна Григорьевна выбрала место рядом с Жуковским. Имя великого романиста придало особое значение лаврскому некрополю как Национальному Пантеону, где уже покоились Ломоносов, Крылов, Карамзин, Глинка…
Ф. М. Достоевский скончался 28 января 1881 г. в 8 часов 38 минут вечера. По православному обычаю, на квартире в Кузнечном переулке дважды в день совершались панихиды. Пели певчие из соседней Владимирской церкви, Исаакиевского собора и других церквей. В субботу 31 января состоялся вынос тела. А. Г. Достоевская вспоминала: «Еще накануне выноса мой брат, желая меня порадовать, сказал, что восемь таких-то учреждений предполагают принести венки на гроб Федора Михайловича, а наутро венков уже оказалось семьдесят четыре, а возможно, что и более… Погребальное шествие вышло из дому в одиннадцать часов и только после двух часов достигло Александро-Невской лавры». Гроб несли родные и близкие писателя, среди них и его друзья по кружку петрашевцев А. Н. Плещеев и А. И. Пальм. Шествие открывали учащиеся всех петербургских учебных заведений, затем шли художники, актеры, депутации из Москвы: «длинная вереница на шестах несомых венков, многочисленные хоры молодежи, певшие погребальные песнопения, гроб, который высоко воздымался над толпой, и громадная, в несколько десятков тысяч масса людей, следовавших за кортежем»[124]. В процессии участвовало до шестидесяти тысяч человек.
Гроб Достоевского внесли в Свято-Духовскую церковь лавры, где был совершен парастас (торжественная всенощная). 1 февраля в церкви состоялось торжественное отпевание. На Тихвинском кладбище было настолько многолюдно, что «люди взбирались на памятники, сидели на деревьях, цеплялись за решетки, и шествие медленно подвигалось, проходя под склонившимися с двух сторон венками разных депутаций». Над открытой могилой выступали профессора и литераторы. Среди них был двадцативосьмилетний Владимир Соловьев…
Прошло сто семь лет, и в 1988 г. годовщина смерти Ф. М. Достоевского была отмечена панихидой на могиле. После десятилетий безмолвия вновь зазвучала молитва на том месте, где погребен один из крупнейших религиозных писателей России…
В памяти современников остались и похороны И. С. Тургенева. Друг писателя М. М. Стасюлевич вспоминал его слова: «Я желаю, чтоб меня похоронили на Волковом кладбище, подле моего друга Белинского, конечно, мне прежде всего хотелось бы лечь у ног моего учителя Пушкина, но я не заслуживаю такой чести». Я старался отключить его от подобной печальной темы и ответил ему сначала шуткой, что я, как гласный Думы, долгом считаю его предупредить, что это кладбище давно осуждено на закрытие и ему придется попутешествовать и в загробной жизни. «Ну, когда-то еще это будет, – отвечал он, также шутя, – до того времени успею належаться. Тогда я ему напомнил, что могила Белинского давно обставлена со всех сторон. «Ну, да я не буквально, – возразил он мне, – все равно будем вместе, на одном кладбище»"[125].
Тургенев умер в Буживале, во Франции, и отпевание происходило 19 сентября 1883 г. в русской церкви на рю Дарю в Париже. Гроб с телом писателя по железной дороге доставили в Россию. От приграничной станции Вержболово на остановках служили панихиды. Множество людей заранее собирались у станций и полустанков по пути движения скорбного груза. Торжественная встреча в столице произошла 27 сентября на перроне Варшавского вокзала.
Как вспоминал А. Ф. Кони, «прием гроба в Петербурге и следование его на Волково кладбище представляли необычное зрелище по своей красоте, величавому характеру и полнейшему, добровольному и единодушному соблюдению порядка. Непрерывная цепь 176-ти депутаций от литературы, от газет и журналов, ученых, просветительных и учебных заведений, от земств, сибиряков, поляков и болгар заняла пространство в несколько верст, привлекая сочувственное и нередко растроганное внимание громадной публики, запрудившей тротуары, – несомыми депутациями изящными, великолепными венками и хоругвями с многозначительными надписями. Так, был венок «Автору «Муму» от общества покровительства животным»; венок с повторением слов, сказанных больным Тургеневым художнику Боголюбову: «Живите и любите людей, как я их любил», – от товарищества передвижных выставок; венок с надписью «Любовь сильнее смерти» от педагогических женских курсов. Особенно выделялся венок с надписью «Незабвенному учителю правды и нравственной красоты» от Петербургского юридического общества… Депутация от драматических курсов любителей сценического искусства принесла огромную лиру из свежих цветов с порванными серебряными струнами»[126].
На Литераторских мостках Волковского кладбища 13 апреля 1891 г. хоронили Н. В. Шелгунова. В похоронах известного революционера-шестидесятника принимали участие не только студенты и разночинцы, но и большая группа рабочих, организованная М. И. Брусневым. В шествии от Фурштатской улицы по Знаменской и Лиговке несли венок с надписью «Указателю пути к свободе и братству от петербургских рабочих». Эта семитысячная демонстрация явилась, по словам Бруснева, «первым выступлением русского рабочего класса на арену политической борьбы».
Одним из впечатляющих событий петербургской жизни были похороны П. И. Чайковского 28 октября 1893 г. Покрытая парчовым балдахином золотистая колесница с лирами из бессмертников с инициалами композитора на углах везла гроб от Малой Морской (дома, где умер Чайковский) к Мариинскому театру. Пели хоры Русской оперы, Архангельского и Шереметева, венков в процессии насчитывалось более трехсот. В похоронах приняли участие девяносто три депутации от разных городов России, всех петербургских и московских театров, Русского музыкального общества, двух консерваторий, училища правоведения, университета и т. д. От театра, где впервые прозвучали многие произведения Чайковского, процессия направилась к Казанскому собору, в котором происходило отпевание. Десятки тысяч людей заполнили Невский проспект во время движения траурного кортежа к лавре, продолжавшегося два часа[127].
Похоронные церемонии получали широкое отражение в газетных и журнальных публикациях. Описания, подобные приведенным выше, фотографии, обширные некрологи занимали значительное место на страницах печати. Было бы несправедливо видеть в этом лишь удовлетворение праздного любопытства читающей публики. Печальный, но неизбежный итог земного существования воспринимался как его органичная часть, вполне заслуживающая достойного освещения. Тем самым утверждалось понимание ценности и значимости человеческой жизни.
Новое столетие существенно изменило отношение к кладбищу как принадлежности семейного, родового быта. Появилась принципиально новая форма массовых захоронений.
Разумеется, братские могилы существовали и на кладбищах XIX в. На Красненьком, например, в общей могиле были похоронены жертвы наводнения 1824 г., на Смоленском – жертвы халтуринского взрыва в столовой Зимнего дворца в 1880 г., на Пороховском – рабочие, погибшие при взрывах на пороховых заводах. В годы эпидемий в братских могилах хоронили людей беднейшего состояния. Однако подобные примеры можно рассматривать скорее как исключение. Место могилы, как правило, связывалось с индивидуальным или семейным захоронением.
Крупные социальные потрясения нового века и невиданные по масштабам военные бедствия стали причиной множества братских захоронений.
В Петрограде первым в XX в. мемориалом массового характера стали братские могилы на Марсовом поле. 23 марта 1917 г. здесь состоялось торжественное захоронение ста восьмидесяти гробов с останками участников февральской революции[128].
Известно, что первоначальным местом захоронения была назначена Дворцовая площадь. Лишь благодаря усилиям Комиссии А. М. Горького, ставившей целью защиту памятников культуры в революционное время, исторический ансамбль главной площади города удалось сохранить. Марсово поле, представлявшее собой огромное незастроенное пространство, оказалось идеальным местом для сооружения памятника общественно-политического значения.
Похороны на Марсовом поле стали грандиозной демонстрацией, в которой приняли участие сотни тысяч людей. С разных концов Петрограда, из-за Нарвской заставы, с Выборгской и Петроградской стороны, от Шлиссельбургского проспекта двигались организованные колонны с флагами и транспарантами. Начавшаяся в пять часов утра торжественная церемония продолжалась свыше двадцати часов.
В ходе Февральской революции погибли тысяча триста восемьдесят два человека[129]. В братских могилах похоронили сравнительно небольшую их часть. Предание земле останков на Марсовом поле имело прежде всего символическое значение – утвердить «на крови» новое светлое здание революционного будущего. Светская по своему характеру церемония погребения, в сущности, опиралась на глубоко сакральное и архаическое представление о священной жертве.
В создании мемориала на Марсовом поле, с тех пор в течение сорока лет именовавшемся «Площадью жертв революции», проявились принципиально новые моменты, закрепленные практикой последующих десятилетий. Выбор места погребения не связывался с какой-либо традицией: кладбища здесь никогда не было. Достаточным основанием оказалось центральное положение площади, ее размеры, наличие свободных подходов к месту, которое назначалось отныне для проведения массовых митингов и демонстраций. Первый такой крупный митинг состоялся 18 апреля (1 мая) 1917 г. и был приурочен к празднику пролетарской солидарности.
«Тематическая направленность» некрополя подразумевала, что в этом месте чтят память не столько тех или иных конкретных жертв, остающихся безымянными, – сколько самого события, с которым связано погребение. В первые годы после Октября был создан целый ряд мемориалов, чье местоположение подчеркнуто отделено от рядовых кладбищ: парк Лесотехнической академии, Коммунистическая площадка в лавре, дворцовый плац в Гатчине и т. п.
В судьбе некрополя отражается судьба города живых. Финал петербургского периода русской истории обрушился на старые городские кладбища мощной, всесокрушающей волной.
Петербург накануне революции – это крупнейший в России город с населением в два с половиной миллиона человек, средоточие административных, политических, военных, экономических, хозяйственных, интеллектуальных сил страны. Разветвленная система двенадцати министерств и управлений, руководивших организмом империи, армия бюрократии и полиции – тысячи чиновников разных степеней и рангов. Руководство российской армией и флотом, полки императорской гвардии, морские соединения, военные учебные заведения – десятки тысяч офицеров, солдат, матросов. Крупнейшие промышленные предприятия, банки, акционерные общества, страховые компании, универмаги, торговые дома – сотни финансовых магнатов, банкиров, заводчиков, богатых домовладельцев, тысячи торговцев, коммивояжеров, биржевых клерков. Столица русской культуры – академики, профессора, литераторы, художники, музыканты, актеры, издатели. Адвокаты, врачи, деятели земства, думские ораторы – множество людей, представляющих все стороны жизни столичного города, центра огромного государства.
За годы революции и Гражданской войны население Петрограда уменьшилось почти в три раза. Опустошительный голод 1918–1919 гг., беспримерно жестокий террор, массовые высылки, бегство и эмиграция – все это резко изменило социальный состав населения. Не могло это не сказаться и на судьбе городского некрополя.
Многие тысячи памятников остались без родственного ухода и присмотра. Заброшенные кладбища сделались добычей мародеров. Грабеж и осквернение могил и склепов, ставшие в первые послереволюционные годы обычным явлением, оказались возможными не только из-за отсутствия надежной охраны, но и как следствие широко распространившейся морали вседозволенности и анархии. Элементарно понятые идеи социальной справедливости и классовой борьбы вызывали резко отрицательное отношение к «богатым» памятникам и могилам «экспроприаторов».
Стремительно изменялось представление о неприкосновенности могилы. Решающее значение имела для этого атеистическая политика новой власти. К лету 1918 г. относятся первые вскрытия мощей, приобретшие через полгода всероссийский размах. Эти акции были расценены как действенное средство антирелигиозной пропаганды и получили полное одобрение органов государственной власти.
Справедливости ради надо отметить, что десакрализации кладбища способствовал наметившийся еще в середине XIX в. утилитарно-прагматический подход к месту погребения. Комплекс необходимых санитарно-гигиенических мер по благоустройству кладбищ неизбежно снижал их в иерархии общественно значимых ценностей. Из места, хранящего тайну загробной жизни, кладбище превращалось в элемент организованного городского хозяйства. Однако эта тенденция не была определяющей. Само содержание кладбищенского обряда, его связь с религиозно-нравственными представлениями поддерживали уважительное отношение к месту вечного покоя. В послереволюционной судьбе кладбищ существенно важным было пренебрежение правилами православного погребения (как, впрочем, и других вероисповеданий). Сначала на «коммунистических площадках», а затем и повсеместно на городских кладбищах стали хоронить без отпевания и молитвы.
О состоянии некоторых исторических кладбищ города в августе 1918 г. сообщала записка В. Я. Курбатова в музейный отдел Главнауки[130]. Известный знаток петербургской старины определял методические основы изучения и сохранения некрополей. Лазаревское кладбище он выделил как особенно ценное, причем отмечал, что все памятники в лавре – «в ужасающем забросе».
Согласно декрету Совнаркома от 18 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства», все монастыри были ликвидированы как хозяйственные организации. Однако лавра до 1922 г. продолжала быть резиденцией петроградского митрополита Вениамина. Продолжались и погребения на лаврских кладбищах, против чего Курбатов решительно возражал, так как «монахи среди старых могил находят места для новых, безжалостно разрушая старые».
На Смоленском и Волковском кладбищах также отмечалось «плачевное состояние» ряда художественных и исторических надгробий; их, по мнению автора записки, следовало выявить и на «быстро разрушающемся» Новодевичьем кладбище, а также Холерном на Выборгской стороне, Новодеревенском, Большеохтинском, в Сергиевой пустыни и Мартышкинском. Интересно, что летом 1918 г. состояние лютеранских кладбищ оценивалось как более удовлетворительное. Это, очевидно, было связано с их традиционной ухоженностью; дальнейшее развитие событий привело к преимущественному уничтожению иноверческих надгробий.
7 декабря 1918 г. был подписан декрет Совнаркома «О кладбищах и похоронах», согласно которому все места захоронений и организация похорон переходили в ведение местных советов, а духовные лица от управления кладбищами устранялись. Декрет гласил: «Для всех граждан устанавливаются одинаковые похороны: деление на разряды, как мест погребения, так и похорон, уничтожается»[131]. На деле это не могло не привести к полному развалу складывавшейся десятилетиями системы кладбищенского хозяйства.
С 1 февраля 1919 г. кладбища Петрограда поступили в ведение Комиссариата внутренних дел Петрокоммуны. Комиссия по национализации кладбищ выработала инструкцию для комиссаров, назначенных на все городские кладбища. Комиссией руководил член коллегии комиссариата Б. Г. Каплун, в ее состав входили представители органов внутренних дел, здравоохранения, юстиции: Б. Б. Габор, В. П. Кашкодамов, Р. А. Теттенборн[132].
Функционирование кладбищ в советский период выходит за рамки настоящей статьи. Необходимо коснуться лишь тех сторон организации кладбищенского дела, которые имеют отношение к историческим некрополям. В условиях, охарактеризованных выше, первоочередной задачей становилось выявление и сохранение исторически значимых надгробий, которые ждала та же судьба, что и тысячи других, стремительно разрушавшихся памятников.
В мае 1919 г. при музейном отделе Главнауки была создана комиссия по восстановлению Лазаревского кладбища. Старейший некрополь города был изолирован от остальной территории лавры, захоронения в нем прекратили.
17 октября 1921 г. на заседании президиума Российского института истории искусства С. Н. Жарновский выступил с предложением создать общество «Старый Петербург». Первое заседание общества прошло 5 декабря. Присутствовали Б. В. Асафьев, А. Н. Бенуа, Л. А. Ильин, М. Д. Философов, среди избранных действительных членов общества были В. Н. Аргутинский-Долгоруков, А. Ф. Гауф, М. В. Добужинский, А. Ф. Кони, Н. Е. Лансере, А. П. Остроумова-Лебедева, С. Ф. Платонов, И. А. Фомин, С. П. Яремич. Состав общества в этот первый период показывает, что, в сущности, оно возрождало основанный в 1907 г. «Музей Старого Петербурга»[133].
Среди первоочередных забот нового общества были изучение и охрана Лазаревского кладбища, территорию которого с 1923 г. общество взяло в аренду. Была проведена полная опись сохранившихся памятников, началась их частичная реставрация.
Комиссия по изучению ленинградских кладбищ, в которую входили А. Г. Яцевич, В. М. Федоров, А. А. Платонов, работала и в других действующих некрополях. В начале 1925 г. по ее распоряжению были сняты мраморные и бронзовые бюсты с надгробий Смоленского кладбища ввиду угрозы их похищения[134]. Основания для этой акции были весьма серьезными: так, в марте 1925 г. А. И. Ульянова-Елизарова писала о краже на Литераторских мостках портретов с надгробий Н. Ф. Бунакова, Г. З. Елисеева, Н. К. Михайловского; несколько позже был украден бюст с памятника М. Е. Салтыкову-Щедрину[135]. Снятые обществом «Старый Петербург» детали надгробий хранились в принадлежавшем ему здании на Волховском переулке, 1–3, где размещался «Музей отжившего культа». Туда же, чтобы спасти от уничтожения, переносили иконостасы и утварь из закрывавшихся церквей.
В условиях нэпа общество «Старый Петербург», поставленное на хозрасчет, не справилось с финансовыми трудностями. В 1926 г. все его имущество было продано с публичных торгов, здание на Волховском отобрано, многие из собранных ценностей пропали. Некоторые бюсты со Смоленского кладбища лишь в 1930-е гг. оказались в Русском музее, переданные сюда из бронзолитейной мастерской Академии художеств.
С 1927 г. городской отдел коммунального хозяйства, в ведении которого находились места захоронений, начал закрывать старые кладбища. В апреле было принято решение о немедленном закрытии Митрофаниевских кладбищ: православного и лютеранского. В ноябре, по ходатайству Володарского райсовета, закрыли Преображенское у Фарфорового завода. С января 1928 г. были закрыты для погребения Тихвинское и Никольское кладбища в лавре, а также Малоохтинское православное. Одновременно предполагалось расширить Киновиевское кладбище на правом берегу Невы[136].
О состоянии кладбищенского хозяйства шла речь на заседании пленума секции коммунального хозяйства Ленсовета 24 февраля 1928 г. На этот период в городе существовало сорок шесть кладбищ. Одно из них – Лазаревское – считалось музейным и было закрыто для посещения. Площадь двенадцати закрытых для погребения кладбищ составляла восемьдесят гектаров, тридцати четырех действующих – триста восемьдесят два. Наиболее активно использовались Преображенское (Обуховское), Успенское (Северное), Богословское, Серафимовское, Волковское, Большеохтинское, Киновиевское и Новодевичье кладбища. Городские коммунальщики решили, что к 1936 г. все кладбища в черте города должны быть закрыты «за переполнением»[137].
Выступление на пленуме В. М. Федорова дает яркую картину разорения старых городских некрополей. Огромные дорогостоящие надгробия разрушались ради мелких утилитарных целей: «добыча медных, бронзовых и других металлических частей (скобы, стержни, розетки)». Мраморные плиты и доски разбивались «с целью утилизации для особого типа захоронений – «раковин»». Докладчик указывал, что «общим для многих кладбищ отрицательным явлением надо признать множество раскиданных памятников, валяющихся в траве (опрокинуты колонны, обелиски, доски и т. д.). Кроме того, разрушенный вид создают разбитые склепы и усыпальницы…».
Президиум Ленсовета периодически издавал решения об охране кладбищ. Так, например, 18 августа 1928 г. было принято постановление об «обязательном соблюдении Обязательного постановления об охране порядка на кладбищах», предусматривающее расследование дел о хищении памятников, организацию ночных облав «для выявления преступного и хулиганского элемента». Однако сама периодичность принятия подобных постановлений говорит о полной их неэффективности[138].
В июне 1928 г. «Вечерняя красная газета» сообщила, что «начались работы по ремонту ряда кладбищ Ленинграда». Сооружались новые ограды на Смоленском, Митрофаниевском и Преображенском (Фарфоровском) кладбищах, прокладывался дренаж на Смоленском. Газета обещала: «с началом лета Спасо-Преображенское и Лазаревское кладбища превратятся в парки»[139]. Работы в основном сводились к «очистке кладбищ от разрушенных памятников и палисадников». Средства, вырученные от продажи деталей разобранных памятников, шли на нужды Откомхоза. Отсюда прямая заинтересованность в уничтожении возможно большего числа старых надгробий. Кладбища превратились в своеобразные каменоломни, где добывался полированный камень дорогих и редких пород. Газета «Известия» отмечала в 1931 г., что на Волковском «кладбищенская администрация в течение этого лета разобрала несколько сот надгробных памятников и продала свыше 2 000 кубометров бутовой плиты. Бесхозность памятников определяет комиссия, в которую входит зав. кладбищем, сторож и педагог»[140].
Мысль о создании на месте старых петербургских кладбищ «зеленого кольца» единого городского парка с сохранением художественно-исторических надгробий принадлежала активистам общества «Старый Петербург». Целиком этот план не удался, но начало ему было положено устройством музея-некрополя[141].
Идея родилась в Москве в связи «с ликвидацией почти всех старых монастырских кладбищ». Обеспокоенный этой беспримерной по масштабам акцией, Всероссийский союз писателей обратился 6 апреля 1931 г. в Мосгорисполком с письмом, в котором просил сохранить хотя бы исторический некрополь Донского монастыря. Сюда же писатели предлагали «свезти останки выдающихся деятелей со всех ликвидированных уже московских кладбищ». Сектор науки Наркомпроса РСФСР отношением в секретариат Президиума ВЦИК от 27 апреля поддержал эту идею, распространив ее и на Ленинград.
Предлагалось создать кладбища-заповедники в Александро-Невской лавре и на Литераторских мостках. Ленинградский областной отдел коммунального хозяйства в принципе согласился, сопроводив ответ в секретариат ВЦИК знаменательным пожеланием: «По разрешении этого вопроса необходимо иметь в виду, что родственники умерших весьма неохотно соглашаются на перезахоронение останков, а поэтому ЛООКХ полагал бы целесообразным издать по РСФСР особое распоряжение, обязывающее родственников не чинить препятствий при перезахоронении»[142].
Решение «О превращении Лазаревского кладбища Александро-Невской лавры в кладбище-музей надгробных памятников» было принято на заседании президиума Ленсовета 28 июля 1932 г. В нем говорилось о «перенесении прахов известных общественных деятелей, писателей и художников» в музейный некрополь, где, в свою очередь, разрешалось ликвидировать «позднейшие, не представляющие собой художественного значения памятники».
Ситуация складывалась трагическая. Надгробия, историческая и художественная ценность которых была несомненной, отправляли в музей-некрополь «с перенесением прахов» (а иногда и без оного). Если же ценность того или иного захоронения казалась недостаточной, могилу обрекали на уничтожение – в особенности когда разрушение памятника сулило материальную выгоду.
В 1907 г. Н. Н. Врангель впервые обратил внимание на преданные забвению шедевры мемориальной скульптуры на старых петербургских кладбищах. Но он вряд ли предполагал, что через четверть века художественная уникальность памятников позволит сделать вывод о малосущественности их мемориального значения, о том, что памятники эти можно попросту убрать с могил и перенести в музей, уничтожив тем самым место погребения.
Справедливости ради заметим: идея создания национального Пантеона – места погребения выдающихся исторических лиц – принадлежит новоевропейской культуре. Некрополь мастеров искусств на месте Тихвинского кладбища лавры и некрополь Литераторские мостки представляют собой именно такие мемориалы. Однако практическое осуществление этой идеи в конкретных условиях Ленинграда 1930-х гг. оказалось чревато многими несправедливыми и бессмысленными утратами.
В немалой степени это объяснялось организационной неразберихой. Занимавшееся вопросами культуры ведомство не имело достаточных средств для проведения работ по устройству музея-некрополя. Пришлось из ведения массового отдела Ленсовета передать некрополи Похоронному тресту. А эта организация, живо заинтересованная в списании «бесхоза», вела дело, как писал первый директор музея Н. В. Успенский, «сплеча, как попало, допуская к этому ответственному и новому делу злонамеренных корыстно-хищных и к тому же еще совершенно невежественных лиц, которые, увы, только лишь впоследствии, и то частично, были изгнаны наконец с позором»[143].
В сентябре 1934 г. Лазаревский некрополь посетила группа ленинградских литераторов. Об увиденном они писали А. М. Горькому: «То состояние, в каком находится сейчас Лазарево кладбище, внушает серьезное опасение за его судьбу и сохранность его художественного комплекса, и потому наше обращение к Вам есть одновременно и надежда на улучшение его материального благосостояния, а с ним и возможность признания заповедника в его правах и обязанностях как музея всесоюзного значения, каким он фактически и является». Письмо подписали И. А. Груздев, Г. А. Гуковский, М. М. Зощенко, В. А. Каверин, С. Я. Маршак, М. Л. Слонимский, Ю. Н. Тынянов, К. А. Федин, О. Д. Форш, А. П. Чапыгин и др. 26 марта 1935 г. А. М. Горький сообщил И. А. Груздеву, что говорил о Лазаревском кладбище с А. А. Ждановым и «получил твердое его согласие серьезно заняться этим делом»[144]. Очевидно, результатом этого стало постановление президиума Ленсовета от 3 июля 1935 г. «О выделении из треста «Похоронное дело» Лазаревского, Тихвинского и Литераторских мостков Волковского кладбищ в самостоятельную единицу в системе Управления благоустройства». В свойственном тому времени директивном стиле постановление предписывало «в месячный срок» учесть все исторические и художественные памятники на всех кладбищах Ленинграда и «составить план и систему переноса скульптур и перезахоронения прахов на кладбищах-парках»[145].
В «Ленинградской правде» 26 августа 1935 г. было помещено объявление, что в связи с превращением Лазаревского, Тихвинского кладбищ и Литераторских мостков в парки-музеи «гражданам, имеющим могилы родственников, непоименованные комиссией в списках оставленных, предлагается в трехмесячный срок осуществить перезахоронения… Не подав за три месяца заявления, могилы будут считаться бесхозными и подлежат сносу». Коммунальные работники со всем рвением начали работы на Тихвинском кладбище, и летом 1937 г. на его месте был открыт мемориальный парк-некрополь мастеров искусств. Что же до таких, по выражению Н. В. Успенского, «подлинных сокровищ и рассадников знаний, как собрание художественных памятников Лазаревского заповедника и знаменитых могил «Литераторских мостков»», – они остались «в прежнем запустении и хаосе»[146].
Гораздо хуже обстояло дело на других исторических кладбищах. Вот запись активистки общества «Старый Петербург—Новый Ленинград» С. В. Поль за 1935 г.: на Смоленском православном «памятник проф. живописи А. Е. Егорова покосился; проф. живописи И. Е. Яковлев: сброшена часть колонки над рустом; проф. живописи К. Д. Флавицкий: п-к совершенно уничтожен, но место пока не захоронено (у часовни Анны Праведной); на могиле акад. Крачковского крест с метал. дощечкой с полустертой надписью (у ворот)… недостроенный памятник архитектора фон Гогена сегодня начали разбирать (находится недалеко от ворот, направо)… могила поэта Блока находится в чистоте, но крест не мешало бы покрасить»; на Волковском лютеранском «у памятника Росси решетка уничтожена, памятник косится»; на Выборгском католическом «начинает разрушаться памятник арх. Шарлеманя, т. к. значительная часть кирпичной кладки обнажена»[147].
В начале 1936 г. городские власти рассмотрели вопрос о закрытии десяти кладбищ, в том числе Волковского, Громовского, Смоленского, Большеохтинского. Одновременно были намечены новые кладбищенские участки: у станции Шуша ры – тридцать семь гектаров, у деревни Пискаревка – тридцать, у совхоза «Василеостровец» – пятьдесят. Было отмечено, что «дело с ликвидацией вышеперечисленных кладбищ и организацией новых подвигается крайне медленно вследствие целого ряда затруднений организационного и материального характера»[148]. Речь шла именно о полной ликвидации кладбищ, следовавшей за закрытием их для погребения. Намеченные к закрытию в 1927 г. Фарфоровское и Малоохтинское православное кладбища были уже в 1930-е гг. полностью уничтожены. Стирались целые участки Митрофаниевского (окончательно погибшего в 1950-е гг.). С апреля 1930 г., в связи с предстоящей ликвидацией кладбища Сергиевой пустыни, с памятников снимали «отдельные части…, представляющие художественное и историческое значение»[149]. О планах полной ликвидации других исторических кладбищ свидетельствуют перезахоронения с Волковского лютеранского, Смоленских, Новодевичьего и Никольского. Прах А. А. Блока и его близких был перенесен со Смоленского на Литераторские мостки в 1944 г.
Замысел превратить уничтожаемые кладбища в парки не осуществился. В марте 1940 г. происходило уничтожение Выборгского римско-католического кладбища. Его передали районному финотделу, который, с целью извлечения дохода, организовал здесь настоящую каменоломню. Сохранилось свидетельство очевидца: «Рабочие, добывающие камни, не разбирают памятников с целью рационального использования камня и других частей памятников, а разламывают последние, большей частью разбивая целые каменные глыбы на мелкие осколки. При разламывании памятников происходит массовое повреждение растительности»[150]. Некогда тенистое, утопавшее в зелени, кладбище с ухоженными цветниками и газонами так и не стало «парком культуры и отдыха». Разгром завершился после войны перестройкой костела в заводской цех и появлением здесь зоны промышленных предприятий.
Безжизненное пространство между Минеральной и Арсенальной улицами, где когда-то было римско-католическое кладбище; гаражи и склады на Митрофаньевском шоссе, сохранившем название существовавшего там некрополя; сквер на месте Фарфоровского кладбища – вот судьба старинных городских скуделен.
Скорбная эпопея ленинградской блокады осталась на старых кладбищах рядами безымянных братских могил и множеством могильных холмиков, под которыми покоятся сотни тысяч людей. Тема эта целиком принадлежит советской истории и заслуживает всестороннего и тщательного изучения. Память об этом не должна исчезнуть никогда. Особая тема – выявление мест захоронения жертв государственного террора 1918–1953 гг. и создание мемориальных комплексов, начало чему было положено в 1990-е гг. установкой памятников в Левашевской пустоши.
В 1947 г. вновь открылся для посещения Некрополь мастеров искусств, вскоре после этого – Некрополь XVIII в., лаврские усыпальницы и Литераторские мостки. Надгробные памятники этих некрополей, общим числом около трех тысяч, составляют фонд Государственного музея городской скульптуры. Перенос в музейные некрополи исторических захоронений и художественных памятников, шедший и в первые послевоенные годы, постепенно был полностью прекращен. В некрополе Литераторские мостки, а частично и в Некрополе мастеров искусств, допускались захоронения известных ленинградских ученых, деятелей искусства. Однако превращение этих некрополей в обычное кладбище едва ли допустимо: они сложились как музейные заповедники, и захоронения здесь должны быть прекращены.
В современном Санкт-Петербурге существует 43 кладбища, в пригородах – 55. В целом их территория составляет 1,5 тысяч га. Петербургский некрополь включает Пискаревское мемориальное кладбище, архитектурный ансамбль которого был завершен в 1960 г., и мемориал «Левашевская пустошь».
Для захоронений преимущественно используются основанное в 1971 г. на Волхонском шоссе Южное кладбище (крупнейшее в Европе, площадь 183 га) и существующее с 1984 г. Ковалевское кладбище (пл. 110 га) на границе Всеволожского района Ленинградской области.
Из исторических кладбищ города ведутся захоронения на Смоленских, Волковских, Северном, Богословском, Большеохтинском, Киновиевском, Казанском в Рыбацком, Жертв 9 января (бывшем Преображенском), Еврейском, Красненьком, Серафимовском, Шуваловском, Никольском в лавре. В пригородах действуют кладбища в Зеленогорске, Сестрорецке, Комарово, Лахте, Пушкине (Казанское), Колпино и др. Все кладбища, как «закрытые», так и «полузакрытые», находятся в ведении Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Ритуальные услуги». В его же ведении Крематорий с колумбарием на Шафировском проспекте (основан в 1973 г.).
Серьезная проблема современного города – нехватка площадей для новых захоронений. Возобновление погребений на исторических кладбищах в 1990-е гг. оказалось до известной степени вынужденной мерой. На старых кладбищах целые участки освобождаются от непосещаемых могил и обветшавших надгробных знаков. В целом это отвечает принятой европейской практике. Однако дефицит кладбищенского пространства во многом определен сохранением российской традиции погребения в могиле (на Западе кремируется до 90 %, тогда как у нас не более 15 %).
Сложившаяся в 1930-е гг. практика уничтожения «бесхоза» продолжается, к сожалению, и сейчас. Вместе с тем с конца 1980-х гг. в отношении к старым кладбищам наметились серьезные изменения. С целью благоустройства и возобновления захоронений прошли реконструктивные работы на Никольском, Новодевичьем, Смоленских кладбищах. Но нельзя не отметить, что в процессе этих работ несколько сократилась территория исторических некрополей, утрачен целый ряд памятников.
Следует ли в дальнейшем создавать чисто музейные некрополи? По нашему мнению, нет. Печальный опыт переноса исторических захоронений в 1930-1950-х гг. можно объяснить специфическими условиями времени, однако вряд ли этот путь сохранения исторических захоронений приемлем сегодня.
В определенные исторические эпохи идея Пантеона как места погребения выдающихся представителей нации была оправданна (вспомним Пантеон Великой французской революции). Желание «переписать историю» свойственно революционным эпохам. Но в поколениях оценка исторических лиц и событий изменяется. Произвольная ломка исторически сложившейся структуры кладбища, вырывание «великого человека» из окружения, связанного с ним тончайшими, далеко не всегда видимыми нитями, – антиисторично по существу[151].
Любое старое кладбище хранит память о сменяющих друг друга поколениях. Историческую значимость имеют не только отдельные, примечательные по тем или иным причинам памятники, но и само место кладбища, его территория в целом.
Необходимо осознать, что кладбище – составная часть сложного и многофункционального городского организма. Места, отводимые для погребения, по своей сути служат хранилищем исторической, духовной, нравственной памяти народа. Жизнь кладбища продолжается лишь тогда, когда могилы напоминают приходящим о их родителях – отцах, дедах, прадедах…
Ю. М. Пирютко
НАДГРОБНЫЕ ПАМЯТНИКИ: СТИЛЬ, МАСТЕРА, ЗАКАЗЧИКИ
Эстетические свойства петербургского некрополя яснее обнаруживаются, как ни парадоксально, в его разорении. Покалеченные ограды, провалившиеся, заросшие травой и кустарником склепы создают не лишенный своеобразной поэтичности образ увядания и смерти. «Ржавый ангелок», льющий, по ахматовскому слову, «сухие слезы» над забытой могилой, – это образ, который принципиально невозможно подвергнуть реставрации, «музеефицировать». Унылая картина разрушенных и искалеченных старых некрополей (Смоленских, Волковских, Никольского) коробит нас. Между тем, когда эти кладбища были действующими, когда Некрасову приходилось в поисках могилы Белинского шагать «по мосткам деревянным» в непролазную слякоть тогдашнего Волковского кладбища, ничего, кроме скуки и отвращения, это не вызывало.
Сама топография петербургского некрополя, по преимуществу плоского, низменного, переувлажненного, особенности климата, буквально съедающего камень, а деревянные кресты превращающего в труху, не давали людям XIX в. почувствовать красоту старинных надгробий. В XVIII в. на кладбищах не сажали деревьев, и эти обширные, уставленные покосившимися крестами пространства производили, вероятно, особенно гнетущее впечатление. Лишь со временем, чему в немалой степени способствовала эпоха сентиментализма и романтизма с их культом смерти, ритуалом кладбищенских прогулок, воспевавшихся в элегиях и балладах, возникло эстетическое восприятие некрополя.
В полной мере почувствовать художественную значимость старинных надгробий петербуржцы смогли в то же время, когда художники «Мира искусства», литераторы «Старых годов» и «Аполлона» создали культ Старого Петербурга. Н. Н. Врангель, восклицавший, что «нигде не погибает столько произведений искусства, как в России», относил это и к «запущенным, забытым памятникам петербургских кладбищ», уничтожавшимся «осенними дождями, злыми зимними морозами – вместе с нашими вандалами». Занимавшийся историей русской скульптуры, Врангель впервые обратил внимание искусствоведов на памятники петербургского некрополя.
Искусство художественного надгробия всегда развивалось в общем русле с другими видами прикладного искусства и архитектуры, но при этом сохраняло ряд специфических черт. Прежде всего, это условия заказа памятника, в которых личные вкусы заказчика играют не меньшую роль, чем особенности художественного мышления эпохи и уровень мастерства исполнителя. Формы надгробий, как и обывательские вкусы, весьма консервативны и могут не изменяться десятилетиями. Тем более интересно, что эволюция художественных стилей все же заставляла эволюционировать и этот вид искусства, как никакой другой, придерживающийся традиционных форм.
Изучение надгробий петербургского некрополя затруднено тем, что значительная их часть погибла. Многие ценные памятники XVIII—первой половины XIX вв. были в 1930-е гг. перенесены со старых кладбищ в музейные некрополи и таким образом оказались вырваны из исторического окружения.
Памятники второй половины XIX—начала XX вв. оставались, в основном, на своих исторических местах. Зато и сохранность их оказалась катастрофична. Если памятники эпохи барокко и классицизма, окончательное разрушение которых в начале XX в. казалось неизбежным, уцелели в музейных некрополях, то сохранению интересных образцов эклектики и модерна долгое время не уделялось никакого внимания.
Художественные памятники петербургского некрополя XVIII–XIX вв. в основном сосредоточены сейчас в музейных некрополях и усыпальницах Александро-Невской лавры. Наиболее ранними являются каменные плиты супругов Ржевских, найденные в конце 1920-х гг. на Лазаревском кладбище. Стольник Иван Иванович Ржевский, скончавшийся в 1717 г., и его жена Дарья Гавриловна, умершая в 1720 г., принадлежали к близкому окружению Петра I. Дарья Гавриловна была «князь-игуменьей» Всепьянейшего собора.
Эпитафия И. И. Ржевского сообщает, что он «родился от родителей своих… от рождества сына божия АХНГ (т. е. 1653) году месяца января в КЗ (27) день… погребен в приморском своем доме в церкви святых верховных апостолов Петра и Павла». Для даты кончины и числа прожитых лет оставлен пропуск, что указывает на старомосковскую традицию изготовления надгробной плиты еще при жизни заказчика. Массивные (толщиной до тридцати, длиной около ста восьмидесяти сантиметров) плиты вырублены из мягкого светлого известняка, напоминающего белый камень, излюбленный материал московских резчиков XVII в.
В верхней части плиты И. И. Ржевского, в круглом медальоне, помещен четырехконечный крест с традиционной, встречающейся еще на памятниках XI в., сакральной формулой «ИС ХС Ника» (имя Сына Божия и греческое слово, знаменующее победу Иисуса Христа над смертью). В нижней части плиты – череп. В основе этой композиции отразилось, очевидно, апокрифическое предание о Голгофе, на которой был распят Христос: это могила ветхозаветного Адама. Череп его омывается кровью Распятого на кресте, что символизирует спасение и веру в воскресение мертвых.
Виноградные лозы на плите Д. Г. Ржевской являются евангельским символом Иисуса Христа. На эту деталь следует указать особо, так как в существующей литературе повторяется совершенно несостоятельная мысль, будто надгробие «князь-игуменьи» своим орнаментом напоминает о развлечениях двора Петра I[152]. Не вдаваясь в характеристику «всепьянейших соборов», которые вовсе не были праздной и бессмысленной забавой, надо подчеркнуть, что изменения в облике русских надгробий назревали исподволь, постепенно. Утверждать, что в петровскую эпоху происходит какой-то крутой поворот в этом весьма консервативном жанре, нет оснований.
Мемориальная пластика – функциональный по своей природе вид искусства, который не может быть замкнут в чисто эстетических категориях. Художественная форма надгробного памятника обусловлена традицией, в отдельных элементах настолько глубокой, что они уже не могут быть восприняты во всей полноте и содержательности смысла. В особенности это касается рядовых надгробий простейших форм, воспроизводимых без изменений из поколения в поколение: могильный холм, плита, крест. Форма надгробной плиты, известная еще в XVI–XVII вв., остается ведущей в петербургском некрополе XVIII в. Разумеется, речь идет о сохранившихся памятниках достаточно высокого социального ценза. На кладбищах «для простых» преобладали деревянные кресты, не сохранившиеся по понятным причинам.
Материалом для памятников обычно служил местный известняк, добывавшийся в окрестностях Петербурга: путиловская, парицкая, пудостская плита. Менее распространенным был металл: чугун, бронза. По характеру композиции и основным содержательным элементам литые металлические плиты не отличались от резных каменных.
Основное место на плоскости плиты занимает текст эпитафии. Как правило, он начинается с указания даты кончины «в лето от рождества Христова», при этом нередко указывался не только день, но и час. Далее подробно перечислялись чины и звания погребенного, его награды и в заключение указывалось, когда он родился и какое число лет, месяцев и дней прожил. Последовательность элементов эпитафии иногда менялась: с середины XVIII в. она начиналась обычно словами «на сем месте» или «под сим камнем погребен», – но все составные клише текста присутствовали, сохранившись до середины следующего столетия. Убористый текст, занимающий до двух десятков строк, начертание шрифта, его плотность, соотношение с пространством плиты сами по себе производят определенный художественный эффект. Над картушем с эпитафией на плитах XVIII в. часто изображался дворянский герб. Геральдическая мантия с короной, щит, лента с девизом занимают иногда бльшую часть плиты. В отличие от формализованного текста эпитафии, гербы придают памятнику индивидуальность и неповторимость. Общая композиция оставалась неизменной, только характер орнамента и тип шрифта позволяют отличать памятники по времени изготовления. К концу XVIII в. деоративное решение плит приобретает устойчивую лаконичность: обычно трапециевидная форма, над текстом вырублен символический сакральный знак (крест, «Всевидящее Око»), под текстом – «адамова голова» (череп с костями).
В Некрополе XVIII в. сохраняются плиты, характер обработки которых позволяет предполагать, что они изготовлены в одной мастерской. Примером могут служить отлитые из темной бронзы в середине XVIII в. плиты И. Ю. Трубецкого и Ф. А. Апраксина, напоминающие по композиции архитектурный портал с рельефными изображениями щитов, мечей, колчанов и других атрибутов военной славы, в обрамлении которых помещен герб, а под ним эпитафия, украшенная геральдической композицией из знамен и военной арматуры. Эти массивные плиты клали горизонтально над местом погребения. Многие плиты из известняка, выполненные в 1760-1780-е гг., совершенно идентичны по рисунку и характеру шрифта эпитафии, часто заключенной в рамку из плетенки.
Существовали и такие плиты-эпитафии, которые помещались на стене как напоминание о месте погребения. Такие настенные эпитафии были обычно небольших размеров, по форме приближались к медальону (например, сохранившиеся в Благовещенской церкви плиты А. П. Апраксина, П. И. Ягужинского). Ряд подобных мемориальных знаков перенесен в музейную экспозицию из других церквей XVIII в.
Судя по сохранившимся памятникам представителей высшего слоя петербургского дворянства, в надгробных плитах XVIII в. традиционная религиозная символика постепенно вытесняется официальной гражданской эмблематикой. Это действительно характерно для начатой Петром I бюрократизации общества, но делать какие-то обобщающие выводы на основании имеющегося материала было бы неверно. Определенные сакральные символы («адамова голова», херувимы, пальмовые и миртовые ветви) присутствуют почти постоянно, и целиком светские по своему характеру памятники были скорее исключением, чем правилом. Надо учитывать также, что сохранившиеся до нашего времени надгробные памятники чаще всего помещались внутри церковных зданий или в непосредственной близости от них. В скромном облике надгробных плит, типизации их форм определенным образом символизируется мысль о ничтожности земного благополучия перед небесной справедливостью.
О том, как выглядели памятники на монастырском кладбище XVIII в., можно судить по сохранившемуся в архиве «описанию имеющимся в Невском монастыре гробницам» представителей графского рода Шереметевых, относящемуся к 1780-м гг. На месте захоронения внука фельдмаршала Б. П. Шереметева, Порфирия, умершего в 1758 г., был «положен только простой путиловский камень с надписью, который… опустился совсем в землю», так что в 1785 г. «сверх оного… положен вновь камень же дикой с тем расположением, чтоб для надписи на нем положить сверху мраморную доску»[153]. То есть старая надмогильная плита была использована в качестве фундамента для нового памятника. Это обстоятельство было достаточно характерно для «поновления» старинных надгробий, если у потомков возникала к этому охота.
Шереметевские гробницы в Лазаревской усыпальнице украшены так называемыми оковками, медными досками, рельеф на которые наносился в технике «битья», выколотки. Сохранилось лишь несколько образцов, выполненных в этой технике, и все они находятся на кладбище Невского монастыря. Отсюда можно сделать вывод о принадлежности их к одной мастерской. Не раньше середины 1770-х гг. были выполнены медные золоченые оковки плит П. Г. и Е. А. Чернышевых, М. К. Скавронского и его сестры А. К. Воронцовой. Выбитые рельефом на плитах овальные медальоны с эпитафиями, щиты с гербами строго геральдической формы и вазы-курильницы окружены прихотливыми завитками растительного орнамента. В середине 1780-х гг. была положена оковка на мраморный саркофаг С. Я. Яковлева (ум. 1784), а вскоре после этого изготовлены из мраморных плит надгробия фельдмаршала Шереметева (ум. 1719) и его внучки Анны (ум. 1768). Золоченую оковку на гробнице А. П. Шереметевой делал, согласно контракту, «Санкт-Петербургского немецкого цеха медного золотарного дела мастер» Иоганн Христиан Праузенбергер[154]. Его же подпись имеется на плите М. К. Скавронского. В той же технике «битья» выполнены плиты надгробий П. А. Салтыкова и И. Н. Долгорукова, скончавшихся в начале 1790-х гг., после чего памятников подобного рода не делали.
Указать точную дату изготовления того или иного памятника достаточно затруднительно, кроме тех случаев, когда на надгробии есть надпись мастера. Иногда, как в случае с шереметевскими памятниками, время их изготовления значительно расходится с датой погребения (хотя в большинстве случаев большой разницы во времени не было).
Особенности убранства русских церквей, у стен которых обычно помещались киоты с иконами, затрудняли включение в интерьер монументальных эпитафий с портретами и гербами, характерными для западноевропейской мемориальной пластики. Жанр скульптурного надгробия, давший русскому искусству в эпоху классицизма ряд первоклассных произведений, предназначался для родовых фамильных усыпальниц, кладбищенских церквей, а чаще для открытого пространства некрополей. С конца XVIII в. погребения в храмах вообще были запрещены.
На рубеже 1760-1770-х гг. некрополь начинает приобретать ансамблевость, разнообразие форм в единстве пластической концепции, что свойственно художественной практике классицизма. К числу первых архитектурных надгробий относится памятник М. В. Ломоносову, установленный на Лазаревском кладбище вблизи существовавшей тогда второй деревянной Благовещенской церкви. Памятник был заказан в Италии на средства покровительствовавшего ученому графа М. И. Воронцова, по эскизу академика Я. Штелина (мастер Ф. Медико, Каррара). Примечательно, что в 1760-е гг. в Петербурге не было мастерской, которая могла бы выполнить подобный заказ. Здесь характерна не только новизна формы, но и специфика материала: драгоценный каррарский мрамор, сверкающая белизна которого, в сочетании с позолотой резьбы, в окружении вросших в землю плит из местного известняка, действительно, должна была производить небывалое впечатление. В сегодняшнем Некрополе XVIII в. памятник кажется довольно скромным по размерам (высота его около двух с половиной метров), но современниками он воспринимался как «столп», монумент, воздвигнутый в память гения отечественной науки.
Прямоугольная стела увенчана изображением саркофага. На ее гранях вырублен по-латыни и в русском переводе текст эпитафии, посвященной «славному мужу Михаилу Ломоносову… разумом и науками превосходному, знатным украшением Отечеству послужившему». Это не просто послужной список с указанием чинов, принятый в надгробных памятниках более раннего времени. Эпитафия Ломоносову открывает эпоху, когда составление надгробных надписей становится своеобразной отраслью поэтического искусства. Возвышенному строю эпитафии соответствует аллегорический рельеф, где символы наук и художеств – свиток с циркулем и лира – сплетены с лавровым венком славы. Многозначен символ, выраженный кадуцеем – оплетенным змеями крылатым жезлом Меркурия. Очевидно, что в данном случае кадуцей напоминает о назначении памятника, так как античный Меркурий выступал в роли проводника в загробное царство; кадуцей, однако, воспринимался и как ключ к открытию тайн природы, и в этом смысле мог быть помещен на памятнике естествоиспытателю. Изысканность ученой символики монумента сочетается с православной традицией: силуэт памятника благодаря выступающим боковым полочкам с гирляндами напоминает крест.
Историк Ю. П. Шамурин, изучавший памятники московского некрополя, заметил, что «при хронологическом разграничении художественных форм гораздо важнее определение времени появления и утверждения данной формы. Конечная дата – упадка, вырождения и исчезновения менее поддается учету»[155]. Классические архитектурные формы саркофагов, стел, жертвенников, пилонов, обелисков, пирамид, возникнув в последней четверти XVIII в. в петербургском некрополе, сохраняются в течение многих десятилетий, продолжая, как и плиты, существовать в условиях развития новых стилей.
По-видимому, эволюция форм надгробия в Петербурге проходила менее интенсивно, чем в Москве. Уже в 1760-е гг. в древней столице появляются белокаменные саркофаги с пышной барочной резьбой, эффектность которой подчеркивалась раскраской. Ничего подобного в Петербурге не было. Эпоха барокко отразилась лишь в усложнении орнаментации, насыщенности пластического декора надгробных плит.
Судя по памятникам Лазаревского некрополя, до конца 1760-х гг. большинство их составляли плиты из известняка. С начала 1770-х гг. появляются гранитные плиты. Начинает использоваться мрамор: первоначально в виде врезанных в плиты накладных досок, как, например, на изготовленных в начале 1770-х гг. памятниках А. Е. Демидовой и М. Е. Скобельцына. Над текстом эпитафии, вырубленной в мраморе, помещен аллегорический рельеф – череп в венке из роз, символизирующий, очевидно, суету мирской жизни. Эти памятники, как и некоторые другие на Лазаревском кладбище, относящиеся к 1770-м гг., выполнены в одной мастерской. Если первоначально надгробные плиты клали на кирпичное основание, с начала 1770-х гг. появляются повышенные подиумы из блоков известняка. Этот тип саркофага в виде ящика из каменных плит сохранялся до начала XIX в.
Монолитные объемы саркофага из гранита стали изготовлять лишь с 1780-х гг. Наиболее ранней формой являлись, по-видимому, прямоугольные саркофаги темно-серого гранита. В 1790-е гг. появляются саркофаги и плиты из красного гранита «рапакиви». Вообще материал надгробий опосредован состоянием добычи камня. Первые разработки отечественного мрамора в северном Приладожье начались в 1766 г., так что лишь после этого мрамор стал использоваться для плит и саркофагов. Примечательны мраморные саркофаги со скошенными гранями и филенками с рельефами, на ножках-волютах изысканного рисунка (П. А. и Е. А. Полянские, нач. 1780-х гг.). Темно-серый сердобольский гранит начинают широко добывать в конце 1760-х гг., а пютерлакский красный – во второй половине 1780-х[156].
Форма жертвенника, вырубленного из гранита, начинает распространяться с 1800-х гг. Жертвенники представляют собой, как правило, прямоугольный, вытянутый в высоту объем, увенчанный широкой карнизной плитой с треугольными или лучковыми фронтонами и акротериями. Образ жертвенника-алтаря ассоциируется с идеей воспоминания о покойном; часто на памятнике помещают пространную эпитафию в стихах или прозе. На гранях жертвенника – мраморные доски с текстами и рельефами, к которым добавляются накладные детали из бронзы и чугуна: античные лекифы, факелы и маски на фронтонах и акротериях, крылатые херувимы на углах карниза, крест и якорь – символы Христианской веры и Надежды – на постаменте или венчающие памятник. Некоторые жертвенники по материалу и характеру декорировки можно объединить в группы, явно вышедшие из одной мастерской (мраморные надгробия Меншиковых и Янковичей де Мириево – конец 1810-х гг.; жертвенники с рельефными венками из плюща – Е. В. Свечиной, М. В. Левашовой, А. А. Торсукова – 1810-1820-е гг.; гранитные жертвенники В. И. Потапова, Б. А. Голицына – начало 1820-х гг.; и др.).
Сочетание излюбленных в эпоху классицизма элементов античной символики и мотивов христианского миросозерцания вполне органично вписывается в облик петербургского некрополя эпохи классицизма. Примечательным в этом смысле является надгробие И. А. Пуколова с сыном, первоначально находившееся на Волковском кладбище (1820-е гг.; перенесено в Некрополь XVIII в.). На цоколе жертвенника – накладной чугунный рельеф: песочные часы с крыльями, пересеченные косой – символы Времени и Смерти. Змея, свернувшаяся кольцом, на языке классицизма символизировала Вечность; бабочка, рвущаяся из кокона, – Бессмертие души. Своеобразное насыщение классицистических аллегорий понятиями церковной символики приобрело в этом надгробии несколько курьезный характер: два черепа, над которыми летят бабочки, улыбаются, как бы храня веру в грядущее воскресение.
Надгробие Пуколовых, созданное в эпоху классицизма, в сущности, не является уникальным ни по художественным качествам, ни по положению заказчика, синодского секретаря. Оно показывает общий уровень культуры надгробного памятника первой трети XIX в., символика которого давно утратила эзотерический смысл, превратилась в шаблон. Стихотворная эпитафия на памятнике Пуколовым необычайно популярна:
- Прохожий, ты идешь, но ляжешь так, как я.
- Присядь и отдохни на камне у меня.
- Сорви былиночку и вспомни о судьбе:
- Я – дома, ты – в гостях. Подумай о себе.
Надгробие Пуколовых на Волковском православном кладбище
Волковское православное кладбище
Надгробие Ф. С. Завьялова на Смоленском православном кладбище
Долгое время приписываемая князю Г. П. Гагарину[157] эпитафия в действительности создана П. И. Сумароковым в конце XVIII в. Широкая распространенность этих кладбищенских стихов подтверждается их помещением и на памятниках 1820-х гг.
Отдельные знаки, встречающиеся на памятниках Лазаревского некрополя, по-видимому, имеют связь с масонской символикой, хорошо известной в среде русского дворянства конца XVIII в. Однако, если, например, помещение на саркофаге Д. И. Фонвизина масонского «креста Святого Иоанна» с вогнутыми лопастями понятно, учитывая важное место писателя в среде петербургских масонов, то на других памятниках эта деталь, как и треугольники «Всевидящего Ока», пятиконечные и шестиконечные звезды и др., не имеет никакой связи с масонством. Показательно, что в Петербурге, императорской столице, где существование лож всегда находилось под подозрением, почти отсутствует такая типично масонская форма надгробия, как «обрубленная акация» из камня.
С начала XIX в. наиболее распространенной формой надгробия в петербургском некрополе становится колонна на постаменте. К 1810-м гг. сложилась устойчивая композиционная схема: полуколонна из мрамора или гранита на постаменте, монолитном или сложенном из плит. Довольно часто колонна пересечена рустом, на котором вырубались эпитафии. На массивной гранитной колонне – надгробии архитектора А. Н. Воронихина (ум. 1814) – руст отмечен рельефным изображением Казанского собора. Венчались подобные памятники либо аллегорической скульптурой, либо вазой или урной.
Надгробие П. И. Шубина и его семейства на Лазаревском кладбище
Разнообразие форм урн и ваз в классицистическом некрополе необыкновенно. Это и массивные, иногда достигающие метровой высоты изваяния из гранита, представляющие самостоятельный архитектурный объем, и небольшие изящные композиции. Урна – вместилище праха, символ, значение которого оставалось неизменным в течение многих столетий. Урны изображались мастерами классицизма оплетенными гирляндами цветов и листьев, часто покрытыми тканью, широкие складки которой придают особую выразительность силуэту. Однако традиционная форма интерпретировалась достаточно широко, и венчающий памятник сосуд мог превратиться в вазу, покрытую тонкой орнаментальной резьбой или наполненную цветами. Особенно изысканным было сочетание разных пород камня (порфира и мрамора в надгробии А. В. Скрыпицына) либо украшение мраморной урны бронзовыми ручками и накладками (урна с вензелем на надгробии И. Е. Старова). Распространенным мотивом была урна, яйцевидное тулово которой оплетено змеей. Особо надо отметить завершение памятников вазами-светильниками с пламенем, рвущимся из горлышка. «Иконологический лексикон» 1786 г. указывал, что «на гробницах и катафалках пламя, выходящее из урны, стоящей на пирамиде, знаменует Добродетель, которая возводит людей на небо»[158].
Постаменты памятников конца XVIII—начала XIX вв. принимают различные формы: многогранные, призматические, круглые. Наряду с жертвенниками встречаются пилоны с прямыми или скошенными гранями, но плоским перекрытием. К концу 1780– середине 1790-х гг. относятся соседствующие в Лазаревском некрополе два мраморных памятника. Форма надгробия И. М. Измайлова (ум. 1787) с его развитым пластическим декором (рельефы, символизирующие Веру и Славу, львиные маски и лапы на углах) тяготеет к классическому жертвеннику. Пилон П. Ф. Гунаропуло (ум. 1795) более статичен по форме. Скульптурный портрет двадцатишестилетней «любезной супруги» совмещается с черепом, брошенным на плоскую плиту, зрительно воплощая мысль о «суете сует».
Декоративные пирамиды выступают и как постамент для урны с пламенем, и как завершение архитектурной композиции. На постаментах появляются мраморные или бронзовые медальоны с гербами, вензелями; иногда геральдические знаки даются гравировкой на теле полуколонны, постамент которой украшен рельефом аллегорического содержания. Мотив сломанной колонны, как символ рано угасшей жизни, появляется в 1800-е гг.
Надгоробие Дивова на Фарфоровском кладбище
Надгоробие А. Л. Шустова на Смоленском православном кладбище
Любопытно проследить возникновение новых форм надгробных памятников в связи с развитием архитектурных образов эпохи классицизма. Так, первый городской памятник в форме обелиска встал на Царицыном лугу в Петербурге в 1799 г. (обелиск «Румянцева победам», архитектор В. Бренна). К этому же году относится наиболее раннее из известных надгробий этой формы – обелиск А. Литке на Волковском лютеранском кладбище (перенесен в Некрополь XVIII в.). Этот памятник безосновательно приписывался А. Ринальди, уехавшему из России в 1784 г. и умершему через десять лет в Риме. Гармоничное сочетание цветных мраморов, грациозный рельеф в духе рококо, изображающий крылатого гения, сломавшего стрелку часов, – позволяют считать этот памятник работой одного из итальянских мастеров, служивших в Петербурге в конце XVIII в.
Весьма любопытен по художественному решению миниатюрный обелиск на высоком граненом постаменте надгробия Софи Бренна (дочери архитектора), умершей в 1799 г. (Волковское лютеранское кладбище). Затейливость и вычурность силуэта, усложненного гирляндами и филенками, не имеют аналогов в Петербургском некрополе. Памятник, судя по эпитафии, сооружен отцом и является малоизвестной работой даровитого зодчего.
Надгоробие С. Бренны на Волковском лютеранском кладбище
Надгробие А. А. Бетанкура на Смоленском лютеранском кладбище
С 1800-х гг. в некрополе появляются обелиски, сложенные из плит, монолитные, на ножках-шарах и на лапах. Все эти формы сохраняются и развиваются до 1840-х гг. (иглообразный обелиск А. М. Дубянского).
Если усеченные колонны на постаментах появляются в некрополе в начале 1800-х гг. и повсеместно исчезают к 1830-м, то колонна классического ордера, как самостоятельный архитектурный объем, появляется в качестве надгробного памятника лишь с конца 1810-х гг. Наиболее ранний образец – мраморная колонна М. И. Еллинской (ум. 1817), с каннелированными шейками в верхней и нижней части, напоминающая колонны в архитектурных проектах Ж. Тома де Томона. Уникальная колонна из чугуна отлита в 1825 г. по эскизу О. Монферрана для надгробия А. Бетанкура (перевезена в Некрополь XVIII в. со Смоленского лютеранского кладбища). Высокие колонны из мрамора и гранита сохранялись в пейзаже петербургского некрополя до середины XIX в. (надгробия Ф. А. и М. Я. Скрыпицыных – на Лазаревском; Ф. П. Брюлло – на Смоленском лютеранском кладбище; неизвестного в некрополе Литераторские мостки).
Исследователь русского классицизма Е. В. Николаев замечал, что типовые надгробные памятники этого времени – «архитектура», то, что принято называть малыми формами; ничего (или почти ничего) специфически надгробного в них нет: обелиски или вазы могли бы украшать парки, а колонны на пьедестале служить ограждением, основанием для фонарей и т. п.[159] Это наблюдение интересно не только тем, что связывает архитектуру надгробий с общими проблемами развития стиля. Помещение этих памятников в ряд с прикладными формами утилитарного назначения характеризует их восприятие современниками. Эмоциональное, символическое значение надгробного знака было как бы стерто, нейтрализовано бытовой привычностью архитектурной формы.
Надгробие С. В. Мещерского на Лазаревском кладбище
Формы надгробий петербургского некрополя эпохи классицизма не являлись результатом самостоятельной эволюции. Образцы для них были взяты из арсенала европейской мемориальной пластики; значительную роль играли широко известные гравюры и увражи, знакомящие с памятниками античности; популярны были привозившиеся в Россию и переводимые «лексиконы» эмблем и символов. Русское искусство XVIII в. – убедительный пример открытости, восприимчивости к иноземным влияниям, которая не только не превратила Россию в художественное захолустье Запада, а как раз наоборот, сделала возможным развитие национально самобытной художественной культуры. Именно общность тем и образов русского и европейского искусства XVIII в. позволяет в полной мере оценить национальное чувство гармонии, внутреннего достоинства, взыскательной скромности творца, избегающего внешних эффектов ради глубочайшего постижения сущности предмета.
Первым скульптурным памятником, появившимся в Петербурге, было созданное в 1759 г. надгробие принцессы А. И. Гессен-Гомбургской, заказанное сводным братом принцессы И. И. Бецким парижскому ваятелю О. Пажу. Памятник в виде мраморной стелы с рельефом (находится в Эрмитаже) предназначался для Благовещенской церкви, где так и не был установлен, очевидно, вследствие того, что Синод в начале XVIII в. запретил скульптурные изображения в храмах. Прошло тридцать лет, прежде чем в Благовещенской церкви появился первый скульптурный памятник А. М. Голицыну работы Ф. Г. Гордеева.
Надгробие Пажу, не оказавшее заметного влияния на развитие русской мемориальной пластики, показывает, что в России были хорошо известны новейшие образцы современного французского искусства. Более плодотворным оказалось знакомство русской публики с двумя скульптурными надгробиями работы Ж.-А. Гудона, выполненными по заказу князей Голицыных в 1774 г. Оба памятника находятся в Голицынской усыпальнице в московском Донском монастыре. Стела с рельефом плакальщицы, облокотившейся на постамент с эпитафией князю А. Д. Голицыну, стала непосредственным прообразом композиций, создававшихся позднее русскими скульпторами Гордеевым, Мартосом и др. Первые такие памятники известны в Москве, но почти одновременно, в самом начале 1780-х гг., мотив плакальщицы, склонившейся к урне, появился и в петербургском некрополе.
Сохранились две почти идентичные барельефные композиции: на памятнике князя С. В. Мещерского (ум. 1781) и надгробии фельдмаршала С. Ф. Апраксина (ум. 1758). Легкая стройная фигурка плакальщицы, формы которой подчеркнуты драпировками, облокотилась на увитую гирляндами вазу. Памятник Мещерскому, представляющий собой мраморный пилон с декоративной вазой, находится на Лазаревском кладбище. С. Ф. Апраксин был похоронен в деревянной Благовещенской церкви, разобранной в конце 1780-х гг. (рельеф в Лазаревской усыпальнице). Очевидно, оба рельефа были изготовлены в 1780-е гг. в одной мастерской.
Надгробие С. Ф. Апраксина на Лазаревском кладбище
В эти годы в некрополе лавры работал Якоб Земмельгак, подпись которого сохранилась на некоторых памятниках 1780-х гг. Этот мастер, датчанин по происхождению, известен как помощник и компаньон Ф. И. Шубина, с которым в 1783 г. делал мраморную «мавзолею» князя П. М. Голицына в Донском некрополе. Наиболее интересен созданный им в 1781 г. памятник А. С. Попову, камердинеру Екатерины II. Увитый миртовой гирляндой портретный медальон помещен на постаменте пирамидальной формы с плавно закругленными гранями. Рядом с медальоном скульптура младенца-путти, отирающего слезы. Это не только аллегория скорби, на что указывает опущенный факел у ног младенца, но и напоминание об оставшейся сиротой дочери Попова, родившейся уже после смерти отца, о чем сообщено в эпитафии. Эта деталь придает мемориальному памятнику оттенок повествовательности: скульптура как бы дополняет эпитафию, становясь ее пластическим эквивалентом.
В дальнейшем на мемориальных рельефах конца XVIII—начала XIX вв. не раз можно будет увидеть рыдающее семейство, вдову, увивающую гирляндой портрет мужа, осиротевших детей, – причем детали таких композиций обычно точно соответствуют конкретным обстоятельствам. Так, рядом с вдовой и тремя детьми в рельефе надгробия князя А. М. Белосельского-Белозерского (скульптор Ж. Камберлен, 1810 г.) мы видим и взрослую девушку – напоминание о дочери князя от первого брака, знаменитой впоследствии Зинаиде Волконской. На памятнике М. Н. Муравьеву, выполненном в конце 1800-х гг., вдова с двумя мальчиками, будущими декабристами Никитой и Александром Муравьевыми. Портретное сходство здесь исключается, но реальность бытовых подробностей, снижая патетику мемориального рельефа, придает ему особое измерение человечности, доступности непосредственному живому восприятию. Реальность как бы сливается с символом. Это особенно ощутимо в барельефе на памятнике М. Б. Яковлевой, скончавшейся в 1805 г., оставив семь дочерей. Неизвестный скульптор изображает голубя и мертвую голубку у сломанного дерева с гнездом, в котором пищат семеро птенцов.
Надгробие А. М. Белосельского-Белозерского на Лазаревском кладбище
Я. Земмельгак работал по заказам семейства Яковлевых. Им подписаны выполненные в 1785 г. мраморные рельефы на саркофаге основателя этой династии заводчиков – Саввы Яковлева-Собакина. Это аллегории Торговли и Благочестия, причем на первом барельефе можно увидеть изображение Старого Гостиного двора на Васильевском острове, а на втором – построенную на средства Яковлева церковь Успения на Сенной площади.
Подписанный Земмельгаком барельеф «Коммерция» на надгробии придворного ювелира И. Фредерикса (ум. 1779) помещен на основании невысокого обелиска из серого, так называемого березового мрамора. Из этого же материала изготовлено надгробие В. Е. Ададурова, созданное, по-видимому, в 1780-е гг. и очень близкое по форме к подписанному Земмельгаком надгробию А. В. Мещерского. Возможно, на Лазаревском и в других петербургских некрополях сохраняются не выявленные памятники из мастерской Земмельгака, не подписанные им.
Земмельгаку приписываются два портретных медальона: бронзовый – С. С. Яковлева, и мраморный – С. Я. Яковлева. Своеобразие этих барельефов в том, что они прямоличные. В отличие от изображений в профиль, портрет анфас в рельефе довольно редок. Помещенный на надгробный памятник, такой портрет производит особенно сильное впечатление: профиль психологически воспринимается как нечто отдаленное от реальности, уже готовое «отойти к вечности», тогда как прямой взгляд, устремленный с надгробия на зрителя, воспринимается как приглашение к некоему духовному собеседованию. В 1790-1800-е гг. в Лазаревском некрополе появился ряд памятников с прямоличными портретами: Н. А. Муравьеву, Н. П. Цыгоровой, П. Ф. Гунаропуло. Барельефный портрет на надгробии С. П. Ягужинского (ум. 1806) в Благовещенской церкви приписывается скульптору Федосию Щедрину[160].
Появление портретных надгробий в 1780-е гг. не было чем-то до того неизвестным русской традиции. Отношение к портрету на памятнике как к свидетельству, достоверность которого не должна вызывать сомнений, идет из глубин национального мироощущения. Еще в XVII в. существовало обыкновение помещать парсуны с изображением покойного рядом с местом его погребения[161]. Упоминания в описаниях Невского монастыря о «персонах» графа Шереметева и других знатных особ, похороненных в первой монастырской церкви, показывают, что в петербургский период эта традиция некоторое время сохранялась, постепенно угасая.
Для портретов на надгробиях конца XVIII в. характерно чувство реальности, осязаемости изображаемого, вступающее в конфликт с аллегоризмом скульптурной композиции. В этом противоречии не было дисгармонии, напротив – условные аллегорические образы приобретали под резцом русского скульптора теплоту, придающую жизненную убедительность отвлеченным символам.