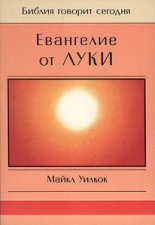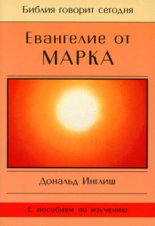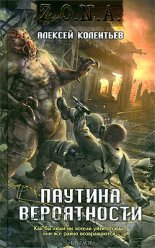Царь Грозный Павлищева Наталья
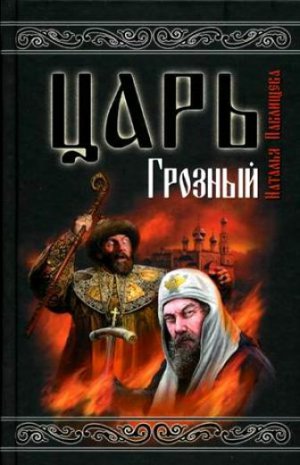
Читать бесплатно другие книги:
В некотором смысле эта книга предназначена всем людям, состоящим в браке. Зная суть падшей человечес...
Евангелие от Луки называют «симфонией спасения». Оно написано человеком, который любил людей и страс...
На первый взгляд Евангелие от Марка может показаться обычным рассказом о земном служении Иисуса. Зде...
Послание к Евреям с его миром чуждых нам религиозных обрядов и жертвоприношений на первый взгляд мож...
Евангелие от Иоанна заключает в себе этическую и духовную силу, которая на протяжении столетий вызыв...
Воздух в Зоне стал тяжелым – это чувствуют многие. Будет бойня, она неизбежна. Предотвратить бурю уж...